Глава 9. АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ В 1923—1931 годах
Нельзя было надеяться на значительный количественный прогресс в эти годы свирепой междумародной реакции; только слепой мог бы не видеть, что... было бы счастьем не потерять материальную силу в течение этого периода, продолжительность которого предвидеть невозможно. [1]
Диего Абад де Сантильян, аргентино-испанский анархист.
Анархо-синдикалистский Интернационал включил в себя организации, весьма различные по составу, идеям и традициям. Очерчивая его полюса, секретарь Александр Шапиро замечал: «МАТ пришлось иметь дело, с одной стороны, с непоколебимым анархизмом синдикалистов Южной Америки, а с другой — со столь же непоколебимым синдикализмом французских анархистов... Роль МАТ сводилась к тому, чтобы быть арбитром и примирителем. Ее долг состоял в том, чтобы найти то общее, что движет всеми, благодаря чему все направления революционного синдикализма могут по-братски объединиться и вместе бороться в духе антигосударственных, федералистских принципов и тактики прямого действия». Но, как признавал Шапиро, это объединяющее начало «созрело не сразу»).
С точки зрения Секретариата МАТ, существование РаЗЛИЧных мнений в Интернационале было плодотворным явлением, но не должно было мешать наличию общих принципов и согласованному действию. «Мы не сектанты, отмечал Рудольф Роккер на II конгрессе МАТ. — Мы знаем, что в организации и тем более в международном объединении организаций различных стран нельзя настроить все на один лад. Напротив, мы считаем даже, что различные мнения по опредсленным вопросам внутри одних и тех же организаций могут быть весьма полезны, способствуя духовному развитию и побуждая к самостоятельности суждений. Эти же явления замечаются и в МАТ. Однако несмотря на известные различия между нами, создаваемые по большей части условиями развития движения в различных странах, имеются определенные линии ориентации, по которым мы едины и которые связывают нас узами органического единства» [2].
Первый год работы
Как признал на конгрессе МАТ Сухи, новый Интернационал, едва лишь возникнув, оказался в трудном положении. Первоначально участие в нем подтвердили лишь организации из Германии, Швеции и Норвегии; остальные присоединились лишь позднсс. Тем не менее пришлось сразу же приступить к работе. Первой проблемой, которая встала перед Секретариатом, была оккупация Рура франко-бельгийскими войсками в январе 1923 г. [4]. Собрать членов Административного бюро МАТ не удалось, и Секретариату пришлось «действовать самостоятельно» [5]. 10 января 1923 г. от имени Административного бюро МАТ было опубликовало воззвание «Против преступления оккупации», в котором констатировалось, что «призрак войны» вновь встает «над головой униженного, поверженного на землю пролетариата». Анархо-синдикалисты осудили действия буржуазии держав-победительниц, опиравшиеся на «грабительский, милитаристский и мстительный Версальский договор», и двойной гнет, обрушившийся на рабочих Германии — со стороны собственных капиталистов и победившей буржуазии. Бюро призвало французских рабочих выступить против политики оккупации и «плечом к плечу с немецким пролетариатом развернуть знамя освободительной революции», а рабочих Германии — помнить о солидарности, воспринимать солдат чужих армий как «эксплуатируемых и несчастных рабов», соединиться с пролетариатом Франции ради свершения революции. «Рабочие Франции и Германии! Готовьтесь к всеобщей социальной стачке и поймите, что стачка протеста против оккупации неминуемо должна привести к более глубокому преобразованию, которое сумеет одним ударом освободить вас от вашего старого врага», — заявлял анархо-синдикалистский Интернационал [6].
МАТ сочла, что в одиночку не может предпринять действенные акции, и обратилась к Амстердамскому (Международной федерации профсоюзов) и Московскому Интернационалам с призывом к совместным действиям. Однако, докладывал Сухи, «названные Интернационалы не были склонны к совместному действию пролета риата», и Секретариат «обратился непосредственно к рабочим всех стран, в особенности же Германии и Франции, призвав их к всеобщей стачке. Но большинство рабочих последовало за лозунгами своих Амстердамских и Московских вождей, и эта всеобщая стачка не состоялась».
После создания МАТ основными напрамсниями ее деятельности были: укрепление и расширение рядов Интернационала, привлечсние в свой состав новых революционных профсоюзов, оказание помощи и поддержки преследуемым революционерам в странах с диктаторскими режимами, организация международной солидарности с рабочими выступлениями по всему миру.
Секретариат МАТ (Роккер, Сухи и Шапиро) размещался в Берлине. В качестве расширенного административного органа существовало бюро (называлось также Интернациональным бюро или комитетом): в него теоретически должны были входить представители всех секций, но на практике в его состав были направлены лишь Армандо Борги (УСИ), Ф. Барвич (ФАУД), Пьер Бенар (французские синдикалисты), Альберт Йенсен (САК), Смит (норвежская НСФ), Диего Абад де Сантильян (ФОРА), Бернард Лансинк (голландское НСП) и Эусебио Карбо (НКТ) [8].
Чтобы побудить все революционно-синдикалистские силы присоединиться к вновь созданной МАТ, Секретариат анархо-синдикалистского Интернационала опубликовал воззвание «Москва или Берлин. К революционным синдикалистам всех стран!». Анархосиндикалисты убеждали революционных рабочих, что Москва не является воплощением революции, напротив, большевистский реэмм — часть кровавой реакции, которая наступает повсюду. «Российская революция, эта славная попытка освобождения, пошла по неверному пути. Рожденная стремлениями трудового народа, она была призвана вдохнуть в социальные движения новый животворный дух». Но она не смогла выйти за пределы политического действия, привела к установлению власти псевдореволюционной, а в действительности «утонченной диктаторской партии». Более того, говорилось в заявлении Секретариата МАТ, «сознательно осуществленное марксистскими коммунистами поражение этой революции стало историческим примером, из которого контрреволюция всего мира извлекла уроки. Завоеванные за долгие годы свободы с презрением были попраны сперва большевиками, а затем фашистами». Анархо-синдикалисты проводили параллели между репрессиями в большевистской России и фашистской Италии: «Муссолини с успсхом копирует теперь охоту на революционеров, которая достигла своего апогея в революционной России. Поэтому не следует удивляться, когда Муссолини, ученик Ленина, раскланивается перед Кремлем, во всеуслышание объявляя: «Фашизм спокойно переступил через разложившееся тело восхваляемой богини Свободы и продоткит это делать... Россия и Италия доказали, что можно править без какой бы то ни было идеологии свободы, над ней и против нее. Коммунизм и фашизм находятся по ту сторону либерализма!»
У большевистского правительства России, подчеркивал Секретариат МАТ, есть «два международных агента» — Коминтерн и Профинтерн. Задача обоих состоит в том, чтобы «любой ценой и ценой мировой революции установить единый фронт с врагами пролетариата», клеветать на анархистов и синдикалистов. Анархосиндикалисты призвали рабочих всего мира понять это и не попадаться в «ловушку Москвы». Секретариат вновь отверг «уступки», которые Профинтерн сделал в своем уставе по настоянию французской У ВКТ как своему «филиалу», заявив, что они не играют никакой реальной роли, поскольку компартии сохраняют свое господство над профсоюзами [9].
МАТ предпринимала усилия к тому, чтобы убедить НСТ отказаться от присоединения к Профинтерну. Секретарь МАТ Сухи представлял анархо-синдикалистский Интернационал на конгрессе НСТ в Амстердаме в 1923 г. Сторонники коммунистов не хотели давать ему слова, и конгресс на 10 минут вынужден был прервать свои заседания. Правление НСТ постановило, что ни представителю Профинтерна, ни делегату МАТ не должно быть позволено произнести речь [10]. Сухи получил право лишь зачитать приветствие от Секретариата МАТ. Однако Сухи удалось высказать точку зрения анархо-синдикалистов. Сторонник Профинтерна Бертюс Боуман сообщал подробности в письме в Москву 8 апреля 1923 г. Оно дает представление об аргументах секретаря МАТ. Сухи напомнил, что присутствовал при учреждении Профинтерна в 1920 г. и может свидетельствовать, что советский представитель Александр Лозовский вел переговоры в первую очередь с реформистами и британскими тред-юнионами и лишь после их неудачи обратился к синдикалистам. Большинство синдикалистов, за исключением У ВКТ Франции, отказалось примкнуть к Московскому Интернационалу. Сухи говорил о положении в России, о репрессиях большевистского правительства против рабочих, лишенных права на забастовку, о партийном контроле над советскими профсоюзами. Советское правительство не является революционным, а российские синдикалисты брошены в тюрьмы, заявил секретарь МАТ Коммунисты и сторонники Профинтерна подняли шум и не дали Сухи закончить выступление [11].
После победы сторонников Москвы, Секретариат МАТ направил открытое письмо «большинству НСТ», в котором отверг призывы НСТ к объединению МАТ с Профинтерном. Последний был назван «самым ревностным и опасным врагом синдикализма всех стран» [12].
Анархо-синдикалисты пытались также убедить североамериканскую организацию Индустриальных рабочих мира (И Р М) вступить в Интернационал. XlV конгресс ИРМ (конец 1922 г.) высказался за нейтралитет в отношении международных профсоюзных объединений. Газета «Индастриал солидарити» в довольно резком тоне заявила, что организация дает отрицательный ответ «на приглашение как синдикалистов, так и коммунистов присоединиться к их цирку» и напомнила, что одобрение Берлинской конференцией в июне 1922 г. методов саботажа и насилия препятствует присоединению ИРМ к синдикалистам и. Руководство ИРМ сообщило о решении нс присоединяться к Интернационалам революционносиндикалистскому бюро в Берлинс в письме от 21 декабря 1922 г. В этой связи участники Учредительного конгресса МАТ направили ИРМ резолюцию, в которой выразили сожаление в связи с решением последнего форума ИРМ нс принимать участия в Берлинском конгрессе. Отметив, что новый Интернационал должен строиться на максимально широкой основе, несмотря на разл ичия между организациями отдельных стран, делегаты конгресса МАТ выразили надежду, что члены ИРМ «на следующем конгрессе... наконец вступят в Международную Ассоциацию Трудящихся» [13].
В письме Генеральному исполнительному бюро ИРМ от 2 февраля 1923 г. Секретариат МАТ выразил удивление в связи с решением XIV конгресса. Он высказал мнение, что централизм, за который ратуют ИРМ, не имеет ничего общего с централизацией, практикуемой Коминтерном и Профинтерном. В письме отмечалось также, что каждая из секций может самостоятельно определять, какие меры следует принять для того, чтобы спасти организацию от захвата ее политиками, и что «нет расхождений в конечной цели между революционными синдикалистами и индустриалистами». Отвечая на заявление ИРМ о том, что они представляют собой не синдикалистскую, а индустриальную организацию, так как синдикализм означает организацию рабочих по профессиям, Секретариат МАТ называл такое понимание ошибочным. Секретари МАТ утверждали, что для синдикалистов это не вопрос принципа и различные синдикалистские организации строятся по-разному, в том числе на фабрично-тсрриториальной основе. В ответном послании от 11 мая 1923 г. председатель Генерального бюро ИРМ разъяснял, что американские рабочие, столкнувшись с опытом создания Профинтерна, предпочитают проявлять осторожность и не торопиться с созданием международного объединения. ИРМ затрачивает все свои силы на укрепление организации и образованию рабочих в собственной стране. И МАТ следует пойти по тому же пути. Она «должна немсдлснно укрепиться, солидно построив свои европейские единицы» и только после этого призывать американские организации присоединиться к ней. Иначе объединение будет носить чисто формальный характер. С точки зрения руководства ИРМ, необходим процесс контактов и обмена опытом. К тому же следует решить проблемы взносов и т.д.
Европейские анархо-синдикалисты продолжали внимательно наблюдать за деятельностью ИРМ и не теряли надежды на то, что эта организация рано или поздно вольется в МАТ. За это выступали, в частности, итальянские рабочие, входившие в североамериканский профцентр. 29 апреля 1923 г на проведенном в Нью-Иорке конгрессе итальянских членов ИРМ из штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут была принята резолюция в пользу вступления в МАТ. Участники постановили внести такое предложение на следующем конгрессе ИРМ [14].
Основная помощь оказывалась преследуемым революционерам и рабочим активистам в Италии, России, Аргентине, Испании, Японии, США и других странах.
Анархо-синдикалисты еще в конце 1922 г. выступили с идеей организовать Красный Крест для поддержки жертв фашизма в Италии и провести общую акцию, чтобы остановить фашизм, пока он не укрепился. «Мы предложили Амстердамскому и Московскому Интернационалам объединить все интернациональные организованные профсоюзные силы в один фронт и предпринять четкую и определенную акцию, а именно бойкот со стороны всех рабочих против Италии в портах и на всех видах транспорта», — писал Секретариат МАТ в письме Комитету по борьбe с фашизмом. Однако ответа на этот проект синдикалисты не получили. Лишь в начале 1923 г. созданный коммунистами Комитет по борьбе с фашизмом во главе с Кларой Цеткин обратился к МАТ с призывом вступить в этот орган и вместе бороться с фашизмом на международном уровне. В ответном письме от 25 марта 1923 г. Секретариат анархо-синдикалистского Интернационала заявил, что борьба должна вестись не только с фашизмом в Италии, но и с репрессиями против революционеров в России. «Борьба против фашизма — сегодня международная борьба, — подчеркивали анархо-синдикалисты. — Если сегодня она распространяется на фашистов Италии и ГПУ России, то завтра будет распространяться на банды ”Оргеш” в Германии, на белых в Испании и на куклукс-клан в Америке...» Тем не менее МАТ выразила согласие принять участие в возможных акциях и в работе комитета [16]. Однако коммунисты отвергли это предложение [17]. Синдикалистам пришлось действовать в этом вопросе самостоятельно.
Анархо-синдикалисты пытались также убедить североамериканскую организацию Индустриальных рабочих мира (ИРМ) вступить в Интернационал. XlV конгресс ИРМ (конец 1922 г.) высказался за нейтралитет в отношении международных профсоюзных объединений. Газета «Индастриал солидарити» в довольно резком тоне заявила, что организация дает отрицательный ответ «на приглашение как синдикалистов, так и коммунистов присоединиться к их цирку» и напомнила, что одобрение Берлинской конференцией в июне 1922 г. методов саботажа и насилия препятствует присоединению ИРМ к синдикалистам. Руководство ИРМ сообщило о решении нс присоединяться к Интернационалам революционносиндикалистскому бюро в Берлинс в письме от 21 декабря 1922 г. В этой связи участники Учредительного конгресса МАТ направили ИРМ резолюцию, в которой выразили сожаление в связи с решением последнего форума ИРМ нс принимать участия в Берлинском конгрессе. Отметив, что новый Интернационал должен строиться на максимально широкой основе, несмотря на разл ичия между организациями отдельных стран, делегаты конгресса МАТ выразили надежду, что члены ИРМ «на следующем конгрессе... наконец вступят в Международную Ассоциацию Трудящихся».
В начале 1923 г. Секретариат МАТ разослал всем секциям и дружественным организациям циркуляр, в котором сообщалось о трагическом положении анархо-синдикалистов и анархистов в Италии. Административное бюро МАТ создало международный фонд солидарности с УСИ с ЦелЬЮ оказания поддержки жертвам фашистской реакции и помощи делу пропаганды либертарных идей в Италии [18]. В связи с трехлетней годовщиной движения захвата фабрик в Италии, с по 20 сентября 1923 г. по предложению Административного бюро МАТ была организована кампания протеста против международного и итальянского фашизма: проводились митинги и демонстрации, в итальянские представительства направлялись телеграммы и резолюции [19] Помощь международного анархистского движения товарищам, арестованным и репрессированным в Советской России, началась еще до создания МАТ. Первый соответствующий призыв к мировому пролетариату был выпущен высланными из России русско-американскими анархистами Эммой Гольдман и Александром Беркманом и российским анархо-синдикалистом Мександром Шапиро в декабре 1921 г. в Риге. При этом Беркман был уполномочен представлять в Европе Московский комитет помощи арестованным и сосланным анархистам и анархо-синдикалистам. Осенью 1923 г. анархистский комитет помощи объединился с другим, созданным левыми эсерами и максималистами в Совместный (объединенный) комитет защиты арестованных революционеров в Советской России. Комитет издавал собственный бюллетень [20].
Весной 1923 г. МАТ призвала все свои организации присылать средства в помощь заключенным и на НУЖДЫ анархо-синдикалистской пропаганды в России [21]. 18 апреля 1923 г. Секретариат МАТ в письме к руководству французской У ВКТ призвал его способствовать освобождению заключенных в России синдикалистов, анархо-синдикалистов, максималистских и левоэсеровских профсоюзных активистов. В ответ руководство У ВКТ ввело 23 апреля бойкот МАТ, постановив не отвечать на ее послания [22].
В январе 1923 г., сразу после Берлинского конгресса, Административное бюро МАТ постановило создать Комитет защиты анархо-синдикализма в России, с тем чтобы «укрепить, поддержать и углубить» деятельность российских анархо-синдикал истов, разделявших принципы, тактику и цели Интернационала. В задачи комитета, согласно решению бюро, входило ведение устной и письменной пропаганды для распространения «фундаментальных принципов, методов и целей МАТ», ознакомление с ними «рабочих масс и профсоюзного движения в России, а также групп российских рабочих за рубежом», разработка проблем «социального строительства на основе вольного, антиавторитарного коммунизма» с учетом уроков и опыта российской революции и международного революционного движения. Комитет официально сохранял свою независимость, но руководствовался общими ориентирами МАТ и работал в тесном контакте с ней и ее Секретариатом 23 В мае 1923 г. он обратился ко всем организациям Интернационала с просьбой оказать моральную и материальную помощь, включая публикации статей о репрессиях, проведение собраний протестов и посылку писем, сбор средств и т.д. [24]. В июне последовало новое обращение «Ко всем трудящимся!», подписанное комитетом вместе с заграничной делегацией Партии левых социалистов-революционеров и Союза социалистов-революционеров — максималистов, Группой русских анархистов в Германии и представителями Московского комитета помощи анархистам, арестованным в России. Сообщив о новых преследованиях, эмигранты призвали направлять резолюции протеста в советские представительства, выступать на всех рабочих и даже коммунистических собраниях с требованием протестовать и вопросами к коммунистам, создавать во всех странах комитеты помощи и защиты русских революционеров. четыре организации, подписавшие воззвание, создали совместный комитет».
В течение года анархо-синдикалистский комитет издавал газету «Рабочий путь»: ее распространяли среди российских эмигрантов за рубежом и, несмотря на огромные трудности, тайно ввозили в Советскую Россию. Строжайшая цензура и жестокие преследования тех, кто получал газету, вынудили отказаться от продолжения издания [25].
Комитет также собирал информацию о синдикалистских и анархистских заключенных в России и пытался оказать им помощь. Летом 1923 г. пресс-бюллетень МАТ опубликовал сообщение комитета о «подготовке новой провокации большевистского правительства» планируемой конференции «бывших анархистов», которая должна была выразить «покаяние» и призвать вступать в компартию [26] Секретариат Интернационала отправил письмо Совнаркому СССР с требо [27].
ванием освободить арестованного в Советском Союзе итальянского анархиста Бруно Гецци, жизнь которого оказалась в опасности. Когда ответа не последовало, МАТ послала телеграмму Сталину [28]. 22 ноября 1923 г. Секретариат обратился к Коминтерну с запросом о судьбе арестованных Давида Кагана и Ивана Ахрицкого [29]. В конце концов, Комитет защиты синдикализма вынужден был прекратить свою работу; усилия МАТ сосредоточились на оказании помощи заключенным и поддержке Совместного комитета защиты арестованных революционеров [30]. В конце 1923 г. этот комитет распространил еще один призыв к «планомерной и постоянной» помощи арестованным российским революционерам [31]. Позднее Объединенный комитет выступил с разоблачением амнистии, объявленной большевистским правительством, и привел список 20 революционеров, пытавшихся вернуться в Россию, но арестованных на границе и сосланных. Он призвал также Секретариат МАТ использовать все имеющееся влияние, чтобы добиться освобождения Давида Когана (Льва Рубина), который был арестован в СССР летом 1923 г. [32].
В июне 1923 г. Секретариат МАТ призвал к протестам по всему миру против убийства в аргентинской тюрьме анархиста Курта Вилькенса [33]. По призыву МАТ были проведены демонстрации и акции в различных странах. Итальянский УСИ направил послание солидарности в адрес аргентинской ФОРА. Немецкий ФАУД организовал 9 июля митинг протеста в Берлине, потребовав также освобождения арестованных участников массового движения; текст заявления был направлен в посольство Аргентины в Берлине [34].
После убийства в Испании секретаря Национальной конфедерации труда Сальвадора Сеги 10 марта 1923 г Секретариат МАТ выпустил обращение «Реакция в Испании. К мировому пролетариату! К испанским товарищам!». Осудив покушение и призвав к протестам, анархо-синдикалисты выразили надежду на победу НКТ в борьбе «с испанским фашизмом, государством и буржуазией» и призвали рабочих Испании «не растрачивать силы в... частичных акциях», а выступить «методично и упорно» в ходе «всеобщих и одновременных действий» [35]. В июле 1923 г. Секретариат направил новое послание Н КТ, в котором выражал свою солидарность в связи с репрессиями против участников забастовочного движения в Барселоне и арестом ведущих активистов Пестаньи, Трильи и т.д. «Ваше великолепное сопротивление... вошло в историю Интернационала», — говорилось в послании [36]. МАТ вела кампанию в защиту испанских анархистов Педро Матеу и Луиса Николау приговоренных военным судом к смертной казни за покушение на испанского политического лидера дато. Секретариат МАТ призвал рабочих мира к акциям солидарности в их поддержку. К этому воззванию присоединились синдикалистские организации в других странах [37]. Так, в Германии протесты в испанские дипломатические представительства были направлены рабочей биржей Эрфурта, Ахена, «Синдикалистско-анархистской молодежью» Вестфалии, Немецкой лигой прав человека и др. [38].
Интернационал выразил соболезнование японскому пролетариату в связи с разрушительным «великим землетрясением» 1923 г. за которым последовали аресты и казни анархистов, и МАТ выступила с заявлением «Террор в Японии». В нем выражалась солидарность с японскими товарищами. Интернационал призвал рабочих Европы и Америки проводить акции протеста перед японскими представительствами [39].
В начале 1923 г Секретариат МАТ от имени Административного бюро направил протест в американское посольство в Берлине, осудив аресты членов Индустриальных рабочих мира, нарушение свободы слова и гражданских прав в США [40]. Мексиканские анархосиндикалисты из ВКТ объявили в знак протеста против репрессий в США бойкот американских товаров, который, как вначале предполагалось, должен был продолжаться до полного освобождения заключенных в этой стране революционеров. В кампании участвовали 560 местных организаций; на предприятиях, которые принадлежали гражданам США, была объявлена стачка. Моряки в Веракрусе, Прогресо и других портах, где разгружались американские корабли, проводили демонстрации и митинги протеста. Рабочая федерация Гаваны (Куба), в которой были сильны позиции анархо-синдикалистов, также постановила начать кампанию против судебных преследований в США [41].
В послании министру юстиции Южно-Африканского Союза анархо-синдикалисты выступили с резким осуждением подавления крупной забастовки южноафриканских шахтеров Витватерсранда и репрессий против ее участников, потребовав немедленно освободить всех арестованных рабочих [42].
МАТ неоднократно обращалась с призывами к солидарности и поддержке рабочих выступлений. В мае 1923 г. Секретариат выразил солидарность с бастующими железнодорожниками и почтовыми работниками Бельгии, призвав, в частности, рабочих на территориях Германии, оккупированных бельгийскими войсками, бойкотировать бельгийские поезда и товары, не помогать отправке штрейкбрехеров [43].
Интернационал внимательно следил за событиями в Германии и пытался оказать помощь немецким рабочим. Весной 1923 г.
Секретариат МАТ призывал всех синдикалистов присылать средства в поддержку бастующим синдикалистам-шахтерам Саара [44]. В августе 1923 г. Административное бюро МАТ издало воззвание «К рабочим Германии!». В нем заявлялось, что рабочий класс страны и весь немецкий народ оказались на краю катастрофы в результате хищнической политики банков и крупных промышленников. Голод и неспособность капитализма организовать нормальную жизнь вызывают волну стачек. МАТ выражала убежденность в том, что в Германии назревает революция. В то же самое время Интернационал призывал рабочих к бдительности, к тому, чтобы не допустить того, чтобы революция вновь обернулась политическим путчем, на сей раз под руководством коммунистов, как прежде — социал-демократов. В воззвании подчеркивалось, что все партии стремятся исключительно к захвату власти и необходимо извлечь уроки из Русской революции. «В день, когда разразится революция, вы должны не просто приступить к разрушению существующей политической власти. Вашей важнейшей задачей должно стать преДотвращение того, чтобы какая-либо каика, пусть даже желающая быть красной, завладела политической властью в своих собственных целях. Чем победоноснее ревааюция, тем большее благосостояние и тем бааьше свобоД принесет она вам», — заявляла немецким рабочим МАТ. Она призывала их помнить о том, что уже сейчас, до революции, коммунисты предлагали фашистам боевой союз: этот союз повернется против рабочих. Трудящимся не нужен «государственный коммунизм», поскольку все правители в конечном счете одинаковы, несмотря на различную окраску. Трудящимся не нужны посредники — они сами должны завладеть продуктами и через свои революционные профсоюзы приступить к их распределению. МАТ призывала немецких трудящихся захватить городские и сельские предприятия и запустить их под собственным руководством [45].
В условиях острого социально-экономического кризиса и драматического ухудшения материального положения немецких трудящихся Секретариат обратился к секциям Интернационала с предложением присылать средства в помощь ФАУД, чтобы тот мог продолжать действовать и издавать свой печатный орган. Ряд организаций ответил на это обращение и направил деньги, которые «позволили ФАУД продержаться в самые тяжелые времена» [46].
Осенью 1923 г. Секретариат МАТ обратил внимание трудящихся мира на бедственное положение португальских рабочих и просил оказать им поддержку. Он обратился с призывом не ехать на работу в Португалию, а предварительно запрашивать ВКТ о возможности трудоустройства и условиях труда и зарплаты [47].
Первый год существования анархо-синдикалистского Интернационала его секретарь Шапиро охарактеризовал как «год расширения» МАТ. В то же время он признавал, что вошедшие в нее организации «еще в недостаточной степени привыкли к тому, чтобы рассматривать свои действия как звено в международной борьбе пролетариата». «Слабость МАТ сегодня проистекает из недостатка чувства взаимопричастности между секциями», — замечал он, констатируя, в частности, что призывы к международной солидарности часто воспринимаются абстрактно, призывы МАТ к бойкоту нередко просто публикуются, но их практическое осуществление не организуется. Шапиро подчеркивал необходимость того, чтобы Интернационал работал как цельная организация, так чтобы периферия сразу же следовала призывам административного органа, а орган немедленно откликался на призывы с периферии. Он призывал наладить организационную работу: систематическую уплату членских взносов, периодическую присылку отчетов, скорейший ответ на циркуляры и письма Секретариата и т.д. [48].
Пропагандистская работа МАТ, как отмечалось в отчете Секретариата II конгрессу, «с самого начала страдала от большой нехватки финансовых средств». Первыми публикациями нового Интернационала были издания резолюций, статутов и воззваний конгресса на немецком, французском и английском языках. Эти материалы были изданы также НСФ (Норвегия), опубликованы в испаноязычных газетах Аргентины, Испании, Мексики, Чили и Уругвая и на португальском языке в Португалии и Бразилии [49].
Чтобы информировать секции о том, что происходит в рабочем движении различных стран, распространять среди рабочих СООбЩения и послания МАТ, Секретариат приступил к выпуску прессбюллетеня. Он рассылался всем секциям и их печатным органам, а также рабочей печати вообще. Первый номер бюллетеня вышел 2 апреля 1923 г. Секретариат пытался выпускать его примерно один раз в две недели, так что на I января 1925 г. вышло 42 номера. Бюллетень издавался на немецком, испанском, французском и английском языках, однако французскис и английские издания нередко появлялись с опозданием [50].
Особое направление пропагандистской работы Интернационала было связано с попытками способствовать распространению анархо-синдикалистских идей в тех странах, где они до тех пор были практически неизвестны. В январе 1923 г. в Берлинс было объявлено о создании по предложению Секретариата МАТ Европейского бюро (комитета) по пропаганде революционного синдикализма в Индии. Этот орган официально не входил в Интернационал, но работал «в полном согласии с ним» [51]. Комитет по пропаганде революционного синдикализма в Индии, состоявший из индийских эмигрантов в Берлине и работавший при содействии МАТ, сумел при помощи Секретариата установить связи с рядом рабочих организаций в Индии. Издавался специальный англоязычный выпуск пресс-бюллетеня Интернационала, который посылался в эту британскую колонию; материалы из него перепечатывались в изданиях рабочих организаций. Британские колониальные власти запретили распространение материалов МАТ и пресекли установленные контакты [52].
Пленум в Инсбруке (декабрь 1923 г.)
Поскольку к концу 1923 г. большинство потенциальных секций определились по вопросу о вступлении в МАТ и ратифицировали свое присоединение к анархо-синдикалистскому Интернационалу, Секретариат счел необходимым собрать пленум Административного бюро в полном составе с тем, чтобы получить общее представление о ситуации и обсудить дальнейшую работу. Местом проведения был избран австрийский город Инсбрук. В качестве причины для такого выбора Секретариат МАТ назвал сравнительную дешевизну (в силу низкого курса австрийской валюты) и удобное географическое положение, что делало возможным приезд представителей из стран Южной Европы.
Пленум Административного бюро МАТ в Инсбруке (Австрия) проходил со 2 по 4 декабря 1923 г. Он способствовал укреплению организационной основы и связей между секциями и Секретариатом, подвел итоги первого года работы нового Интернационала и наметил некоторые планы на будущее. В работе приняли участис представители анархо-синдикалистских организаций Германии (Барвич), Голландии (Лансинк), Италии (Джованнетги, Борги), Норвегии (Смит), Швеции (Йенсен, Э. Линдстам), Аргентины (Абад де Сантильян) и Уругвая (Герреро). Не смогли приехать представитсли ВКТ Мексики, которая имела слишком мало времени для подготовки, НКТ Испании и ВКТ Португалии, столкнувшиеся с чрезвычайной ситуацией в своих странах (в последующем намечалось созвать специальную конференцию МАТ по Иберийскому полуострову, но это намерение так и не было осуществлено). В качестве набл юдателя участвовали делегаты Союза антиавторитарных социалистов Австрии Пьер Рамю и Г. Керн [53].
Участники оценили прошедший срок как «период подготовки». В организацию вступили профобъединения из Нидерландов, Аргентины, Испании, Португалии и Мексики. «Многие профцентры только в течение этого года приняли решение о своем окончательном вступлении в МАТ» — отмечалось на пленуме [54]. Секретарь МАТ Сухи констатировал в отчетном докладе, что Интернационал начал свою деятельность в «чрезвычайно подвижный период», когда требовалось прилагать «все силы в борьбе пролетариата против атак реакции». Разочарованные отказом Амстердамского Интернационала и Профинтерна поддержать идею всеобщей стачки против оккупации Рура, делегаты пленума сочли, что «время компромисса с москвичами и амстердамцами прошло». Сухи призвал аннулировать соответствующую резолюцию Учредительного конгресса МАТ. Пленум одобрил работу Секретариата, а также утвердил финансовый отчет, с которым выступил Ф. Барвич [55].
Наиболее важным решением пленума была «Резолюция относительно единого фронта», принятая после чтения послания от португальской ВКТ и энергичной дискуссии. Она предостерегала участников движения во всех странах от «маневров руководителей коммунистических партий... под именем ”единого фронта”». Участники назвали лозунг коммунистов лицемерным и иезуитским, указав на то, что там, где коммунисты чувствуют себя сильными, они не стремятся ни к какому сотрудничеству с революционным меньшинством. Напротив, когда компартии обладают малыми силами, они всегда прибегают к «единому фронту» даже с самыми одиозными элементами в стремлении обойти своих соперников как справа (социал-демократов), так и слева (анархо-синдикалистов). Опыт событий в Италии, Германии, Голландии, Португалии и других странах доказал, что «этот лозунг единого фронта есть лишь орудие для махинаций коммунистических партий... с целью захватить руководство всем рабочим движением и присвоить его». В резолюции подчеркивалось также, что коммунисты никогда не готовы к сотрудничеству на равных, сея «систематическую ложь» и вызывая расколы, ежедневно меняя друзей и врагов, демонстрируя «политическую аморальность» в соответствии с принципом «цель оправдывает средства» и в стремлении к власти прибегая к властническим методам. «...Между нашими и их целями методами борьбы сущeствуст антагонизм, который исключает взаимное доверие и общие интересы», — заявили анархо-синдикалисты. Они обвинили членов и «сателлитов» Коминтерна в проникновении в ряды революционного синдикализма, систематическом саботаже социальной революции и подготовки к ней. Пленум призвал всех трудящихся присоединиться к революционно-синдикалистским организациям как единственной возможности для рабочего движения систематически готовить социальную революцию.
В духе общего отказа от «единого фронта» с большевизмом пленум утвердил еще одну важную «Резолюцию о позиции МАТ в отношении французского синдикализма». Участники постановили пересмотреть позицию, которую занял Учредительный комитет МАТ в отношении Комитета синдикалистской защиты Франции как «совершенно бесполезную»: «ситуация с тех пор стала еще 60лее сложной, а моральный упадок революционного синдикализма во Франции стал еще большим». Значительная часть вины за это лежала, по мнению анархо-синдикалистов, на «нерешительности и отсутствии идеологической ясности» французских товарищей, «которые, несмотря на их добрую волю и искренность их намерений, так и не поняли, что нельзя смешивать противоположные концепции» и пытаться во имя «абстрактных идеалов единства» объединить революционный синдикализм с реформизмом МФП и диктаторскими устремлениями «московской тенденции». Подобные попытки, по мнению участников пленума, могли привести «только к полному отказу от идей и методов революционного синдикализма». Они призвали «революционный пролетариат Франции» осознать это и преодолеть «нынешние преграды» [56].
Выслушав доклады делегатов, пленум пришел в выводу, что «революционный синдикализм идет вперед по всему миру», и принял резолюции о положении и деятельности анархо-синдикалистов в отдельных странах.
Участники осудили деятельность политических партий Германии и их борьбу за захват власти, объявив их наносящими ущерб рабочему классу. Они предупредили об опасности установления военной или фашистской диктатуры, попыток восстановления монархии и т.д. и обвинили социал-демократов и реформистские профсоюзы в предательстве своих собственных республиканскодемократических и марксистских принципов и служении правящим пассам. Коммунисты, по мнению анархо-синдикалистов, не желали социальной революции в Германии, но хотели только подчинить трудящихся «диктаторскому режиму Кремля», действуя на советские деньги. «Попытка вступить в связь с генералами бывшей кайзеровской армии, обращение к мелкой буржуазии и националистическим деятелям с призывом к сотрудничеству в совместной борьбе против германской социал-демократии и буржуазной демократии, с одной стороны, и безответственный мятеж в Гамбурге, создание правительственной коалиции с социал-демократами в Саксонии и Тюрингии, с другой, — все это означает, что коммунистическая партия, далекая от того, чтобы быть революционной партией классовой борьбы, беспрестанно играла в игры с реакцией» и способствовала тем самым ее усилению, — говорилось в резолюции пленума.
«Синдикалисты Германии должны достичь соглашения со всеми антиэтатистскими революционными элементами, которые хотят действительно вести борьбу с целью любой ценой воспрепятствовать не только действиям реакционеров, но и любым попыткам государственнических элементов, которые стремятся использовать ситуацию в своих партийных и политических интересах», — подчеркивали анархо-синдикалисты. Они вновь повторили, что подлинная революция в стране возможна не в форме переворота и диктатуры, а только путем федералистского творчества трудящихся города и деревни, чьи революционные экономические органы должны регулировать производство, обмен и потребление [57].
Пленум приветствовал образование голландского анархо-синдикалистского профобъединения НСП, выразил солидарность с ним и пожелал ему успешной работы бок о бок с другими секциями Интернационала. Участники возложили вину за раскол Нидерландского секретариата труда на коммунистов и в свете этих «маневров» сочли создание новой организации «единственной возможностью»
Делегаты приняли резолюцию о деятельности «ренегатов от анархизма в Аргентине и Уругвае» — так называемых «анархо-диктатурщиков», которые заявляли о том, что они против политических партий, но признавали концепцию «диктатуры пролетариата» и вели пропаганду в пользу советского большевизма. Анархо-синдикалисты сочли такую деятельность с использованием анархистской терминологии чрезвычайно опасной. Они приветствовали то, что ФОРА и ФОРУ решительно отмежевались от этих группировок и приняли против них «все необходимые меры». В резолюции о Мексике участники пленума МАТ осудили деятельность Американской федерации труда и ее сторонников как наносящую ущерб борьбе пролетариата Центральной Америки и Мексики за социальное освобождение и призвали революционный пролетариат «выступить против этих организаций», «вести с ними борьбу и отвергнуть их».
Пленум Интернационала выразил поддержку итальянским и российским анархо-синдикалистам. В резолюции поддержки УСИ выражалась надежда на то, что для союза и революционного движения Италии «наступят лучшие дни». Делегаты призвали итальянских эмигрантов создавать за рубежом организации УСИ в сотрудничсстве с революционно-синдикалистскими организациями соответствующих стран, которые, в свою очередь, должны будут оказать им помощь. Пленум высказал солидарность с «российскими товарищами» и решительный протест против жестоких преследований со стороны советского режима, осуществляемых «с 66льшим деспотизмом», чем со стороны буржуазных правительств. Делегаты призвали «товарищей из всех стран сделать все возможное для оказания материальной и моральной помощи сосланным и заключенным» российским либертариям и «сорвать маску» с большевистского режима [58].
Пленум в Инсбруке послал приветствие Индустриальным рабочим мира как «союзникам», добивающимся той же цели, что и МАТ, — «ликвидации наемного рабства, экономической эксплуаТаЦИИ и политического угнетения». В резолюции выражались интерес к их «энергичной борьбе... против реакции американской плутократии» и симпатия «всем преследуемым товарищам». Анархо-синдикалисты приветствовали сопротивление ИРМ против подчинения движения «партийно-политическим целям». Делегаты вновь выразили надежду на то, что «ИРМ найдут путь к объединению с революционными синдикалистами всех стран» [59].
Помимо резолюций о ситуации и деятельности в конкретных странах, участники пленума приняли ряд решений относительно задач Секретариата МАТ. Так, ему было поручено вступить в связь с секциями для подготовки издания органа или журнала МАТ на разных языках. Должен был продолжиться выпуск пресс-бюллетсня Интернационала, в том числе и на испанском языке. Пленум обратился ко всем секциям и симпатизирующим организациям с призывом предоставить финансовые средства, необходимые для ведения пропаганды и осуществления солидарности, причем размеры предоставляемых средств должны были определяться национальными профцентрами самостоятельно. Для организации сбора средств в романских странах, особенно в Латинской Америке, было решено выпустить и распространить «марки солидарности и пропаганды». Секретариат должен был публиковать данные о поступлениях. Проведение II конгресса МАТ было намечено на сентябрь 1924 г.; место проведения предстояло уточнить через Секретариат [60].
От пленума в Инсбруке до П конгресса
В этот период направления деятельности Секретариата МАТ оставались в целом прежними. Определяя задачи Интернационала, секретарь МАТ Шапиро в первом номере нового печатного органа международной организации — журнала «Ди Интернационале» выражи надежду на то, что второй год его существования станет началом второго и более длительного «периода собирания», когда секции перейдут от «платонического присоединения» к совместным оборонительным и наступательным действиям, а «фракционные колебания внутри МАТ» уступят место «взаимной терпимости, несмотря на сохраняющиеся различия в мнениях». За этим, по его мнению, должен был последовать третий период существования Интернационала — «период действия» [61].
Секретариат все настойчивее ставил вопрос о налаживании согласованных интернациональных действий, проведении международных бойкотов, актов протеста против преследований революционеров и стачек солидарности, о борьбе за единый уровень реальной зарплаты и единую продолжительность рабочего времени по всему миру, поскольку, «пока различия в условиях труда и жизни между отдельными странами слишком велики, экономические действия рабочих всегда будут иметь национальный характер» [62].
В идейном и практическом отношении МАТ официально провозгласила себя наследницей антиавторитарного крыла Первого Интернационала. Секретариат МАТ опубликовал «Воззвание к мировому пролетариату» по случаю исполнявшейся в сентябре 1924 г. 60-й годовщины со времени создания Первого Интернационала, возводя идеи анархо-синдикализма к дискуссиям, которые происходили в его рамках: «На конгрессе в Базеле [1869 г.] бельгиец Хинсразвивал великие идеи о политическом единстве общин и экономичсской реорганизации общества профсоюзами. "Из этой двойной формы организации местных объединений работников и всеобщих отраслевых союзов, — говорил Хинс, — вырастет, с одной стороны, политическая администрация общин, а с другой — всеобщее представительство труда, на региональном, национальном и международном уровнях. Советы профессиональных и отраслевых организаций заменят нынешнее правительство, и это представительство труда раз и навсегда придет на смену старым политическим системам прошлого”». Анархо-синдикалисты считали достижением антиавторитариев Первого Интернационала понимание того, «что вместе с монополией на обладание должна пасть и монополия на власть», противопоставление «правительственной политике партий экономической политики труда», сознание необходимости «предпринять на предприятиях и в отраслях производства социалистическую реорганизацию общества», из чего, по их мнению, «родилась идея Советов». «Либертарное направление внутри Интернационала полностью понимало, что социализм не может быть продиктован никаким правительством, что он, напротив, должен развиться снизу вверх, из недр трудового народа, и что сами трудящиеся должны взять в свои руки управление производством и потреблением». В этом смысле в ходе борьбы между бакунистами и марксистами «речь шла о двух различных пониманиях социализма и в особенности о двух различных путях, которые должны были вести к социализму», подчеркивал Секретариат МАТ. «Для членов Интернационала социализм был символом новой обществснной культуры, призванной прийти на смену цивилизации капиталистической эры». Отметив, что Второй Интсрнационал «врос в буржуазное государство», а Третий превратился в орудие политики российского правительства, анархо-синдикалисты заявили:
Идеи старого Интернационала не погибли. Они и сегодня находят выражение в организациях, которые сплотились в Международной ассоциации трудящихся, альянсе против наемного рабства и государственной опеки» [63]
МАТ уделяла первостепеннос внимание интернационализму, совместной борьбе трудящихся, невзирая на границы и нации. В связи с бурным ростом миграции рабочей силы после Первой мировой войны, усилением притока рабочих из Польши, Италии и арабских стран, частично — из Испании и Германии во Францию, латиноамериканские и иные государства, перед анархо-синдикалистами встала проблема конфликтов между приезжими и местными трудящимися. Они считали ее настолько важной, что секретарь [64].
тернационала Сухи предложил вынести ее на обсуждение конгресса МАТ. Он признал существование различий в уровне жизни и соответственно готовность приехавших работать за более низкую зарплату. «...Это противоречие, — писал Сухи, — может привести к пробуждению национальной ненависти среди массово несознательных и нс обученных социализму местных рабочих». Остановившись на некоторых из таких конфликтов подробнее, он сделал вывод, что речь идет не о «национальных вопросах», а о «следствиях капиталистической системы», поскольку операция со снижением зарплаты «намеренно организуется капитализмом», который действует по принципу «Разделяй и властвуй!». Выходом из полохснњя Сухи считал усиление профсоюзов и их контроля над миграцией рабочей силы. «Ни один иммигрант из-за рубежа не должен приступить к работе на каком-либо предприятии или на стройплощадке, если он не организован» в профсоюз. Секретарь МАТ предложил, чтобы профсоюзы стран, откуда едут эмигранты, заранее информировали рабочие организации стран иммирации о прибытии работников. Другой важной задачей в этой связи он считал вовлечение приехавших в профсоюзы. Это позволило бы, по его мнению, сорвать планы предпринимателей по снижению зарплаты 64 К практике такого информирования активно прибегали рабочие организации южноамериканских стран. Так, аргентинская ФОРА в 1923 г. несколько раз предостерегала европейских трудящихся от вербовщиков из Аргентины, разъясняя, что реальные условия в стране далеко не столь блестящи, и предлагая каждый раз обращаться непосредственно к ней. Подобный призыв был направлен, например, чехословацким синдикалиста [65]. Португальская ВКТ также рекомендовала зарубежным рабочим запрашивать у нее информацию, прежде чем ехать работать в Португалию [66].
Интернационал продолжал расти. 21 января 1924 г. Секретариат на своем заседании признал присоединение ВКТ Мексики, а 5 февраля 1924 г. — Всеобщего рабочего союза Верхнего Эльзаса [67].
Общая линия МАТ была выражена в воззвании Административного бюро МАТ «К западноевропейскому пролетариату!». «После того как революционное наступление рабочих остановилось», говорилось в документе, — реакция перешла в контрнаступление повсюду — в Италии, Испании, Германии. Трудящиеся оказывали сопротивление. МАТ приветствовала борьбу за сохранение 8-часового рабочего дня в Германии и призвала рабочих Франции, Бельгии (оккупирующих часть немецкой территории) и других стран поддержать ее, оказать давление на правительства своих стран, чтобы нс допустить помощи ОККУПаЦИОННЫХ властей немецким капиталистам. Анархо-синдикалисты выступили за всеобщую стачку рабочих Франции, Бельгии и Германии за 8-часовой рабочий день [68].
Интернационал продолжал активно выступать против СОЦИ&Лдемократического и коммунистического влияния в профсоюзном движении. В связи с ориентацией Профинтерна на сотрудничество с МФП и борьбу с анархо-синдикализмом, Административное бюро МАТ выпустило воззвание «К организациям МАТ! К рабочим всех стран!», в котором осуждались решения Третьего конгресса Профинтерна [69].
МАТ организовывала международные кампании, приурочивая их к различным годовщинам и памятным датам. В январе 1924 г. Административное бюро МАТ призвало все секции почтить память основоположника революционного синдикализма Ф. Пеллутье проведением акций в 23-ю годовщину его смерти [70].
Антимилитаристские выступления анархо-синдикалистов были приурочены к годовщине первого мирового военного конфликта. МАТ выпустила «Призыв к мировому пролетариату к 10-й годовшине начала мировой войны». В Европе по-прежнему нет покоя и мира, утверждала она, ссылаясь на продолжение гонки вооружений, рост национализма, поражение революционных движений и установление диктатур. Синдикалисты призвали организовать в этот день протесты и стачки против милитаризма, а также в принципе отказываться от работы на военном производстве. В случае угрозы войны они рекомендовали прекратить всякое производство, прервать сообщение и связь, молущие служить войне. МАТ заявила, что из-за раскола мирового пролетариата она практически в одиночку ведет борьбу с милитаризмом под лозунюм «Война войне!» [71].
Практическая работа Секретариата МАТ по оказанию финансовой помощи участникам рабочих выступлений, преследуемым революционерам и беженцам сдерживалась нехваткой финансовых средств и нерегулярным поступлением взносов от секций. Согласно решению конгресса МАТ, каждая секция должна была перечислять Интернационалу 0,570 взноса каждого своего члена. Но на практике этого сделать не удалось.
В соответствии с утвержденным на конференции в Инсбруке планом, распространялись «марки солидарности и пропаганды» МАТ (особенно в странах, откуда не поступали регулярные взносы). Так, в Аргентину было послано 55 тысяч марок, в Мексику и Францию — по 50 тысяч, в Португалию — 42 тысячи, в Испанию — 40 тысяч и в Норвегию — 5 тысяч. Однако план распространения осуществился лишь в недостаточной мере. В другие страны марки не посылались: в Швецию — поскольку САК сочла эту практику неоправданной и сама издавала множество марок по сбору средств, в Германию — из-за тяжслого экономического положения [72]. В Германии, гдс местные союзы ФАУД пользовались автономией, а единая центральная касса отсутствовала, Административная комиссия выпустила собственные марки сбора в пользу МАТ. В 1924 г. удалось собрать и передать Интернационалу 2125 золотых марок. Шведская САК, активно распространявцпЯ по призыву МАТ первомайские марки, перечислила в 1924 г. Интернационалу треть собранной суммы — 430 крон. Она передала на международную помощь еще 550 крон [73].
Несмотря на трудности, анархо-синдикалистский Интернационал пытался осуществлять международную поддержку забастовочных выступлений в отдельных странах. «Соотношение сил для рабочего движения, с одной стороны, и реформистская тактика Амстердамцев, с другой, не всегда позволяли вести самостоятельную борьбу посредством прямого действия, — отмечалось в отчете Секретариата МАТ о работе в 1923—1924 гг. — Однако там, где рабочие вступали в борьбу, наши страновые организации находились в первых рядах. Секретариат МАТ был всегда готов поддержать эту борьбу и вдохнуть в трудящихся мужество и надежду» [74].
В феврале 1924 г. в связи со стачкой немецких моряков в британских портах с требованием распространить на них английские условия труда и уровень зарплаты МАТ призвала синдикалистские организации Голландии и Скандинавских стран связаться с профобъединениями моряков своих стран, чтобы побудить их к солидарности с немецкими моряками [75].
Зимой 1924 г. Интернационал повторил обращение к рабочим не ехать на работу в Португалию в связи со стачкой и локаутом в стекольной промышленности этой страны [76].
В мае 1924 г. Секретариат выпустил воззвание «Помогите бастующим шахтерам Германии!», призвав рабочих мира оказать моральную и материальную помощь бастовавшим с 7 мая за лучшую оплату труда и против продления рабочего дня немецким шахтерам, ставшим жертвой локаута. МАТ призвала не допустить поставок угля в Германию, бойкотировать немецкие товары во время забастовки, собирать деньги в помощь жертвам локаута [77]. Но, как признавал Сухи на II конгрессе МАТ, призыв «встретил лишь платоническое эхо» [78].
Секретариат направил в 1924 г. приветствиe бастовавшим металлистам Норвегии, выразив солидарность и моральную поддержку рабочим. Шведская организация САК оказала им финансовую помощь [79].
Интернационал координировал оказание финансовой поддержки борющимся рабочим и членам их семей. В соответствии с решением пленума в Инсбруке, Секретариат выпустил 10 января 1924 г. воззвание «К революционным синдикалистам! К революционному пролетариату всех стран!», призвав к сбору средств в помощь «детям революционных пролетариев Германии» [80]. В рамках кампании «Детской помощи МАТ» были созданы комитеты помощи немецким детям в Голландии, Швеции и Норвегии, собирались средства. Голландские анархо-синдикалисты намеревались принять 100 детей рабочих Рура для ухода за ними, но план не был осуществлен, поскольку все силы голландской секции поглотила забастовка текстильщиков, и мера была перенесена на следующий год. Норвежские синдикалисты в течение нескольких месяцев принимали у себя 20 детей из Берлина. Члены португальской ВКТ собирали деньги и одежду; средства были направлены в Секретариат, однако одежда так и не дошла. Шведские синдикалисты собрали 10 тысяч крон, позволившие построить детский дом отдыха в Германии и обеспечить отдых 150 детей немецких рабочих из Рура и Берлина. Средства собирались также в Бразилии, особенно среди членов Союза немецких рабочих [81]. сeкретариат передал все собранные средства ФАУД и от его имени поблагодарил всех, принимавших участие в кампании [82].
10 июня 1924 г. итальянский УСИ попросил Секретариат МАТ распространить помощь детям на итальянских товарищей. Комитет помощи детям начал соответствующую акцию и призвал секции изучить возможность принять детей членов УСИ, посылать продукты или финансовые средства. Члены ФАУД провели сбор средств в помощь арестованным итальянским товарищам и членам их семей. Деньги собирались также в Аргентине и были посланы по назначению. Шведская САК выделила из своей кассы на эти цели 2 тыс. крон; собранные средства посылались непосредственно УСИ [83].
Преследования революционеров в России оставались в центре внимания международного анархо-синдикализма. Секретариат МАТ опубликовал список 150 арестованных и направил воззвание «К организациям МАТ! К пролетариату всех стран!» с призывом: «Помогите заключенным революционерам в России», потребовав их освобождения до мая 1924 г. [85]. В соответствии с этим призывом МАТ, были созданы комитеты помощи в Германии и Швеции; выступления протеста против репрессий в Советской России были организованы в Испании, Голландии, Мексике и Южной Америке, Норвегии. Несмотря на противодействие коммунистов, тысячи рабочих приняли участие в митинге протеста в Берлине. Кампания нашла отклик и среди рабочих Парижа [86].
По инициативе революционных синдикалистов и анархистов Франции возникла Группа защиты заключенных революционеров в России, секретарем которой стал Ж. Рекло. 25 мая 1924 г. она обратилась с призывом ко всем рабочим организациям страны с призывом развернуть кампанию за освобождение арестованных в преддверие предстоящего съезда Российской компартии и конгрессов Коминтерна и Профинтерна. Группа попросила рабочие организации посылать телеграммы протеста в Россию, требовать амнистии для арестованных революционеров, создать по всей Франции пропагандистские комитеты и организовать массовые митинги. Были выпущены и активно распространялись открытки с портретами заключенных — левой эсерки Марии Спиридоновой, анархистов Аарона Барона и Когана [87]. Активисты и сторонники группы расклеивали плакаты и раздавали тысячи листовок солидарности с арестованными и собирали средства, которые передавали затем Комитету помощи в Берлине. Финансовую помощь группе оказали некоторые профсоюзы У ВКТ (федерация строителей, профсоюзы строителей Туротга в Уазе и Клермон-феррана, союзы механиков Сены и литографов Лиона) и ВКТ (департаментские союзы профсоюзов Сены, Луаре, Мен и Луары, Соммы, Синдикальная палата служащих Сены, совет профсоюзов Ренна, федерации железнодорожников, почтовых и телеграфных агентов, кожевников, работников пищевой промышленности, почтовиков, стекольщиков, Национальный профсоюз работников почт и телеграфа, профсоюзы почтово-телеграфных служащих, шляпников, стенографисток и машинисток), автономные профсоюзы (землекопов Сены и Сены и Уазы, работников гостиничной отрасли, металлургов Лиона, коммунальных работников Тулона, мостовых рабочих Гавра, объединенный синдикат строителей, региональный союз Юры, Эн и Ду, союз профсоюзов Бельфора и биржа труда Орлеана), а также анархистские группы («Фрюктидор», группы 20-го округа Парижа, Круа, Рубэ) и отдельные рабочие активисты [88].
В Париже были проведены крупные собрания в залах общества ученых и Мютюалитэ, в Бельвиле. Акции протеста синдикалистов и анархистов в июне — июле прошли также в Шербуре, Нанте, Лилле и других городах. Телеграммы с требованием освободить арестованных направили в Москву Союз профсоюзов ССНЫ, Объединенная федерация строителей, Группа защиты и др. 89 По призыву группы многие французские интеллектуалы подписали заявление протеста против «арестов и ссылок трудящихся российским правитсльством». Среди подписавших были писатели Пьер Амп, Антуан Сёль, Шарль Вильдрак, Поль Брюла, Хан Райнер, Леон Фрапи, Эмиль Жилльомен, Жерар де Лаказ-Дютьер, Эли Фор, поэты Анри-Жак, Жорж Пиош, Морис Бушор, Эжен Олланд, Жан Риктюс, профессора и ученые Ш. Сеньобос, Л. Лсви-Брюль, Л. Зоретти, Жак Адамар, Шарль Рише, видные деятели искусства Франц Журден, Фирмен Жемье, Флоран Шмит, Жак Копо, Максимилиен Люс [9О].
Секретариат МАТ послал протест председателю Совнаркома СССР Рыкову в связи с отказом освободить объявившего голодовку анархо-синдикалистского издателя Э. Б. Майера-Рубинчика [91]. И в последующем в пресс-бюллетене МАТ регулярно публиковались данные о репрессиях в России, положении рабочих и т.д. [92].
В 1924 г. Итальянский синдикальный союз (УС И) информировал МАТ о событиях в стране, связанных с убийством депутата-антифашиста Маттеоти и последовавшим за этим политическим кризисом. Административное бюро МАТ опубликовало воззвание «К борьбе против убийственного фашизма». В нем высказывалось мнение, что совершснное фашистским режимом политическое убийство стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, и теперь даже буржуазные демократы в Италии больше не поддерживают режим. МАТ призвала провести по всему миру демонстрации протеста против итальянского фашизма, организовать собрания и манифестации перед итаЛЬЯНСКИМИ представительствами за рубежом, расширить антифашистскую агитацию [93]. В конце 1924 г. в связи с ужесточением репрессий в Италии после «кризиса Матгеоти» Секретариат МАТ вновь выступил с призывом к сбору средств в пользу УСИ [94]. Большую помощь УСИ оказывала также итальянская секция североамериканских Индустриальных рабочих мира [95].
Другим объектом солидарности стали трудящиеся Испании, в которой свирепствовала диктатура Примо де Риверы. Административное бюро МАТ приняло обращение «Против реакции в Испании», призвав рабочих всех стран проводить акции протеста, посылать телекраммы испанским властям, публиковать и распространять информацию о правительственном терроре, бойкотировать испанские товары и заказы, а также собирать средства в помощь испанСКИМ товарищам. МАТ призывала спасти жизнь Николау Матеу и Х. Баутисты Ачера [96]. В конце 1924 г. Секретариат МАТ выпустил воззвание к мировому пролетариату «Товарищи! На борьбу против белого террора в Испании». В нем сообщалось о начале борьбы против диктатуры Примо де Риверы, о восстании и кровавых столкновениях в Барселоне. «Эти бои являются авангардными сражениями испанской революции, накануне которой мы находимся», утверждал Секретариат. Однако восстание было подавлено, за ним последовали террор и смертные приговоры. МАТ призвала к бойкоту испанских товаров, к отказу от разгрузки испанских судов, от производства товаров для Испании и их транспортировки в эту страну, к организации массовых демонстраций и протестов. Французским рабочим был адресован призыв: заставить власти освободить арестованных испанских эмигрантов и предоставить им убежище [97].
Практически не имел результата призыв бойкотировать товары из Калифорнии в связи с репрессиями против рабочего движения в этом штате США. Так, САК сообщала, что не могла побудить другие рабочие организации поддержать эту идею. Вообще же «мы придерживаемся мнения, писали шведские синдикалисты в отчете II конгрессу МАТ что нельзя объявлять бойкот, если нет шансов, что он будет удачным» [98].
В международном анархо-синдикалистском движении сохранялись существенные расхождения во мнениях по многим вопросам.
Среди европейских синдикалистов преобладало представление о том, что в предреволюционный период следует как можно в большей мере развить революционную теорию и программу, заняться практической подготовкой и заложить основные элементы будущего общественного строя в виде профсоюзной организации, готовой взять в свои руки управление экономикой и социальными делами в ходе всеобщей экспроприационной стачки. В этой связи секретарь МАТ Шапиро критиковал как притязания анархистов на гегемонию, так и политическую и идейную нейтральность «чистого синдикализма». В результате первый, по его мнению, отрывался от реальной жизни и от рабочего движения как единственного средства совершить революцию, а второй — попадал под влияние поЛИТИЧеСКИХ партий. МАТ и ес синдикаты как боевая экономическая организация представлялись ему оптимальным соединением анархизма и синдикализма, борьбы за повседневные интересы и за социальную революцию [99].
Большое внимание анархо-синдикалисты уделяли проблеме рабочего контроля на производстве. С их точки зрения, это было необходимо не только для того, чтобы успешно бороться с милитаризмом, противодействуя производству военных материалов, но и с точки зрения перспективы организации социалистической экономики. «При капиталистическом способе производства, — говорилось в редакционной статье печатного органа МАТ — журнала «Ди Интернационале», — целью производства благ является не удовлетворенис потребностей народа, а получение прибыли предпринимателями. Это обстоятельство приводит к изготовлению товаров плохого качества, к полной бесплановости всего производства и к эксплуатации рабочих как потребителей. Далее возникает недопотребление рабочих масс... Рука об руку с этим идет безработица». Рабочий контроль на производстве был призван, с точки зрения анархо-синдикалистов, выявить эти проблемы и обнаружить пути их устранения в ходе социальной революции. При этом они всли речь о «контроле снизу», а не о закрепленном законодатсльством участии представителей рабочих в предпринимательском управлении. «Контроль над производством не должен пониматься в наивном духе реформистов, где он низводится до требования о ”равноправии между капиталом и трудом”; он должен вести, напротив, к стремлению ликвидировать капиталистическую экономику прибыли и ввести социалистическое производство, ориентированное на потребности» [100]
Европейские синдикалисты, которые отстаивали такую форму организации, как рабочие советы, теперь с беспокойством следили за тем, как социал-демократы и контролируемые ими профсоты пытались узаконить этот орган, «привлечь производственные Советы к задаче контроля над производством в духе экономической демократии». Синдикалисты опасались, что в этом случае деятельность Советов будет «осуществляться лишь в рамках законов буржуазного государства» и в итоге они превратятся из потенциального революционного органа в часть существующей системы [101].
В России Советы на производстве превратились в придаток компартии, в Германии они были санкционированы законодательством, отмечал секретарь МАТ Сухи. «Это так называемое ”узаконение” идеи советов с помощью Закона о производственных советах является незаконным детищем идеи Советов, костью, брошенной правящим классом рабочим, чтобы их успокоить, писал он. — В этой связи уместно указать на бесполезность рабочего законодательства... Социальное законодательство не открываст путь к социальному освобождению, а только преграждает его. Тем самым среди пролетариата сеются иллюзии, будто он может что-либо ожидать от государства... Вера в собственные силы и доверие к ним ослабляются в той мере, в какой усиливается надежда на государственную власть и вера в ее заботу о подданных» [102]. Законодатсльно оформленные производственные советы превратились в «орудие предпринимателей». Сухи высказался за создание «действительно революционных производственных Советов», независимых от «буржуазных законов», инструментов классовой борьбы, подготовки социальной революции, а в будущем — органов рабочего управления производством. Он призвал, не дожидаясь революции, приступить к избранию на предприятиях «доверенных лиц», которые и должны стать таким революционным производственным Советом. В отличие от аналогичных институтов и органов, создаваемых реформистскими профсоюзами, они должны были строиться на федералистской основе. В задачи таких явочным образом созданных Советов, по мысли Сухи, входило распространение на предприятиях, в ходе общих собраний и т.д. взглядов и представлений революционного синдикализма, противодействие деятельности партийных политиков и их сторонников, подготовка к занятию предприятий и управлению ими, подготовка трудящихся к этой конечной цели рабочего движения [103]
Хотя синдикализм традиционно скорее позитивно относился к техническому и экономическому развитию, росту производства и т.д., в середине 20-х годов начинают появляться и все более критические высказывания относительно последствий капиталистической формы производства для человеческой личности. Не случайно одним из первых на страницах органа МАТ «Ди Интернационале» высказался Макс Багинский — анархист из США, страны, в которой зародились тейлористские методы организации экономики. «Капиталистический режим гигантски увеличил число пролетариев, сбил их в массу; на вопрос, приблизил ли он их к революции с точки зрения инициативы, волевой энергии, мышления и чувств, нельзя просто так ответить положительно, — писал он. — Капиталистический способ труда воздействует таким образом, что калечит индивидуальный элемент в человеке, заставляет выступать на первый план монотонное, типичное. Частичный труд и машина втягивают работника в ужасающий круг навязанных ему смертельно отупляющих привычек. Самое интенсивное напряжение, растрата физических сил лишают его свежей, спонтанной энергии мыслей и чувств, которая и отличает революционера от равнодушного и живущего в вечном угаре обывателя» ш Однако вопрос о «капиталистической рационализации» стал предметом широкого обсуждения в МАТ лишь позднее.
Со своей стороны, аргентинская ФОРА в этот период окончательно обосновала свою собственную теорию анархистского рабочего движения. Она выступала против разделения на «специфические» (идейные) анархистские группы и широкое синдикальное движение, открытое для рабочих с различными взглядами. Она придерживалась концепции массового анархистского рабочего движения. «ФОРА изначально всегда была синДикалистской организациeй с ясно выраженной анархистской тенденцией, как Юрская федерация, Испанская федерация [Первого] Интернационала и т.д. И характерно, что в Аргентине никогДа не смогла появиться анархистская идея без синдикалистской тенденции, как мы сегодня наблюдаем, к примеру, в Италии, во Франции, в скандинавских и германских странах, где существуют подчеркнуто анархистские организации, которые... своей замкнутостью наносят ущерб своей деятельности в рабочем движении в целом, — подчеркивалось в докладе ФОРА II конгрессу МАТ в 1925 г. — ФОРА проделала здоровое развитие к чисто анархистскому мировоззрению, поскольку ее членами были частью анархисты, частью — симпатизировавшие анархизму рабочие». В результате все анархистское движение образовапо единую «среду», «гармоничное, взаимопроникающее целое»: «ФОРА рассматривает все движение, питаемос либсртарными идеями, как свое собственное излучение. Границы между синдикатами, группами и отдельными членами, все из которых рассматривают анархизм как свою конечную цель, не различимы». Напротив, европейскую теорию синдикализма, изложенную в «Амьенской хартии» французской ВКТ, аргентинцы воспринимали как возникшую «под покровительством социал-демократии» и заявляли о своей «очистительной оппозиции» по отношению к ней [105].
Теоретики ФОРА задались в эти годы целью дать серьезное обоснование своей традиционной критике революционного синдикализма (как полу-«марксистского» по своей сути) и европейского анархо-синдикализма (как попытки синтсзировать анархизм и революционный синдикализм). Они оспаривали представления о синдикальном устройстве послереволюционного общества и о едином классовом фронте пролетариата. Одновременно они подвергли критике и концепцию отдельной «идейно-политичсской» организации анархистов, «извне» работающей в рабочем движении (как это предлагали Малатсста, с одной стороны, и «платформисты», с другой). В противовес этому ФОРА выдвинула модель «анархистской организации трудящихся», построснной как синдикат, но выросшей не из строго экономических задач, а из идеи солидарности, взаимопомощи и анархистского коммунизма.
ФОРА предложила одну из первых в ХХ веке целостную критику марксистско-индустриалистского взгляда на историю, современный капитализм и социальную революцию. Прежде всего она отвергла теории линейного прогресса и марксистского исторического материализма, утверждая (вслед за Кропоткиным), что развитием человечества движут не столько экономические закономерности, сколько эволюция этических представлений и «идей-сил». В силу этого ФОРА резко осуждала экономический и исторический детерминизм и отрицала прогрессивность капитализма и его экономической организации. Теоретики ФОРА воспринимали хозяйственную структуру индустриально-капиталистического общества (фабричную систему, отраслевую специализацию, жесткое разделенис труда и т.д.) как «экономическое государство» — наряду с «политичсским государством» — властью. Новое, свободное общество должно не вырастать из закономерностей старого, а быть решительным, радикальным разрывом с ним, с самой его логикой. В его основе должны лежать вольная коммуна и свободная ассоциация, сго лозунг не «Вся власть синдикатам!», а «Никакой власти никому!». Система анархического коммунизма ни в коем случае не должна строиться «в недрах» старого социального организма, иначе его ждет судьба русской революции, — предупреждал ведущий идеолог ФОРА Эмилио Лопес Аранго [106]. Пролетариат «обязан стать стеной, которая остановит экспансию индустриального империализма. Только так, создавая этические ценности, способные развить в пролетариате понимание социальных проблем независимо от буржуазной цивилизации, можно прийти к созданию неразрушимых основ антикапиталистической и антимарксистской революции революции, которая разрушит режим крупной индустрии и финансовых, промышленных и торговых трестов» [107]. Чисто экономические интересы пролетариев при капитализме вполне реализуемы в рамках существующей системы прежде всего за счет других пролетариев, поэтому единый пролетарский фронт невозможен. Важно распространение навыков и идей солидарности и свободы; произойти это может и в ходе экономического прямого действия, но при этом никогда не следует упускать из виду цель. Поэтому анархистская рабочая организация должна быть открыта не просто «для всех трудящихся», а в первую очередь для тех, кто разделяет идею анархистского коммунизма.
Выступая за анархистский коммунизм, теоретики ФОРА в то экс самое время вверяли его осуществление стихийным революционным действиям масс, проникнутым анархистскими идеями. Поэтому они возражали против того, чтобы анархисты разрабатывали какие-либо конструктивные программы и схемы функционирования будущего свободного общества, в том числе и синдикалистскис модели социального устройства. «...Любос ограничение творческой спонтанности революционной волны есть авторитарная конфискация плодов революции и свободы». Регламентация неминусмо потребует создания нового аппарата власти, объяснял Абад де Сантильян в статье «Сегодняшние и завтрашние проблемы» опубликованной в приложении к «Ла Протеста» 16 июля l923 г. Нс менее решительно аргентинские анархисты полемизировали с привержснцами идеи «единства рабочего движения» на классовой основс как не примыкающего ни к одной из идейно-политических тсндснций. Такого «чистого» рабочего движения, доказывал Абад де СаНТИЛЬЯН в приложении к «Ла Протеста» 15 февраля 1926 г., нс существует и не может быть. Необходимо «сформировать в каждой стране революционную, то есть анархистскую синдикальную силу», с помощью которой можно будет «мало-помалу противостоять вторжению в рабочее движение тенденций, течений и политики, враждебных революции» [1О8]
Аргентинские рабочие анархисты непримиримо отвергали социальное и трудовое законодательство. «...Мы рассматриваем социальное законодательство, так прочно утвердившееся в таких странах, как Германия и Швейцария, и так ценимое в Советской Республике, как столь же реакционнос и антисоциалистическое, как фашистский террор или даже как еще более реакционное, поскольку фашистский террор основан на страхе, а социальное законодательство можно осуществить лишь при помощи рабочих масс; оно приучает последних смотреть на него как на прямую выгоду... — писал представитель ФОРА [109]. Абад де Сантильян. — Социальное законодательство — это великолепное средство держать трудящихся в постоянной летаргии» м. При этом ФОРА заявляла, что она не против немедленного улучшения условий жизни и труда людей, не дожидаясь социальной революции, еще в рамках существующего строя. Но они утверждали, что это можно завоевать не в рамках и с санкции законов, а исключительно с помощью прямого действия самих трудящихся.
В 1924—1925 годах отношения между ФОРА и европейскими анархо-синдикалистами ухудшились. В основе лежали прежние принципиальные разногласия, но непосредственным поводом послужила статья ведущего деятеля испанской НКТ [110]. Пестаньи в газете «Солидаридад обрера» с резкими нападками на ФОРА. Аргентинцы восприняли ее как «оскорбительную для аргентинского пролетариата, входящего в ФОРА». Федеральный совет ФОРА обратился с письмом к Национальному комитету НКТ, в котором наряду с выражением поддержки и предложением помощи испанской организации запрашивалось официальное мнение НКТ относительно статьи Пестаньи. Ответа не было. Более того, в «Солидаридад пролетариа» появился еще один материал об Аргентине в сопровождении редакционного комментария, КОТОРЫЙ аргентинские анархисты сочли «не имеющим никакого отношения к истине». 5 декабря l924 г. Федеральный совет ФОРА направил комитету НКТ новое послание, потребовав объяснить, «солидаризируетесь ли вы с ней (редакцией. — В.д.) и склонны ли вы, с вашей стороны, поддержать тяжелые обвинения, которые хулитель, известный здссь своим аморальным поведением, сформулировал против нас в упомянутой газете». «... Мы находимся в вашем распоряжении для того, чтобы начать дебаты, которые будут сочтены уместными, писали аргентинцы. — Отсутствие ответа на настоящее послание означало бы, что вы стали нашими открытыми врагами, расположенными к тому, чтобы обвинять нас, не выслушав» [111] . В статье, опубликованной в «Ла Протеста» 5 апреля 1925 г., газета «Солидаридад пролетариа» была названа «органом-хамелеоном», который «намеревается превратить НКТ в гибридное образование, гибкое по отношению к любым политическим изменениям», в духе «нейтрального синдикализма», а Пестанья, Карбо и Пейро именовались «анархистами, которые забыли элементарные правила анархизма» ш Возмущение ФОРА вызвал и контакт между Секретариатом МАТ и Аргентинским синдикальным союзом (УСА), созданным противниками ФОРА. На конгрессе МАТ Сухи пояснил, что переписка не имела продолжения: УСА обратился с письмом в МАТ, а Секретариат ответил на него, «на чем дело закончилось» [112].
Аргентинские рабочие анархисты были недовольны также заявлением Роккера, опубликованным в испанской синдикалистской прессе. Перед II конгрессом МАТ в 1925 г. представители ФОРА обсуждали возможность действий с целью изменения курса МАТ и придания ему более анархистского характера. Секретарь МАТ Сухи писал в этой связи Д. Абаду де Сантильяну: «Я не знаю, что за ультиматум хотят ВКТ (аргентинская. — Прим. В.Д.) и ФОРА направить МАТ. Однако мне кажется, что, если они обе захотят выйти из МАТ, это не принесет им успеха. Если они хотят остаться анархистски настроенными, то для них нет другого Интернационала» [113].
Сложными оставались отношения МАТ с Францией. В январе 1924 г. Секретариат направил телеграмму соболезнования федерации строительных рабочих Франции в связи с убийством се ЧЛСНОВ французскими коммунистами [114]. «Оставаться при нынешних обстоятельствах в Унитарной всеобщей конфедерации труда (У ВКТ) означало бы, с одной стороны, одобрить убийство наших товарищей, а с другой — играть в игры российского правительства. Это было бы недостойно революционно-синдикалистского меньшинства» — писала МАТ французским товарищам [115]. МАТ осуждала нерешительность французских синдикалистов, их внутреннюю борьбу и колебания в вопросе о разрыве с реформистами и коммунистами. В анархо-синдикалистском Интернационале говорили о «трагедии французского синдикализма» [116]. «... Болен не революционный синдикализм, больны его представители, товарищи, которые его сегодня защищают... — в резких выражениях писал секретарь МАТ Шапиро. — Это инфекционное заболевание, страдающие от которого товарищи боятся своей собственной тени, так что при каждом шаге вперед они многократно оборачиваются назад, чтобы посмотреть, не видно ли тени» [117]. Анархо-синдикалисты приветствовали создание осенью 1924 г. «Федеративного союза автономных профсоюзов Франции». Сообщение в бюллетене МАТ об этом шаге было озаглавлено: «Синдикализм спасен» [118]. «Кризис революционного синдикализма еще не преодолен... — замечал Шапиро.
Однако процесс выздоровления идет... Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но даже теперь меньшинство не отваживается твердо идти до конца и взять на себя всю ответственность», то есть решиться на создание нового общенационального профцентра. Секретарь МАТ призывал сделать решительный шаг и прекратить строить планы объединения всех профсоюзных центров в одну организацию: «Единство не должно превращаться в фетиш, которому надо подчиняться любой ценой» [119].
Что касается Индустриальных рабочих мира, то подтверждение независимости ИРМ от партий на их ХУ конгрессе в ноябре 1923 г. укрепило надежды анархо-синдикалистов на будущее присоединение их к Интернационалу. Бюллетень МАТ приветствовал также выход профсоюза рабочих лесной промышленности канадской провинции Онтарио из сближавшегося с Профинтерном профобъединения Единый большой союз и его вступление с января 1924 г. в ИРМ [120]. Однако отношения между МАТ и ИРМ в 1924—1925 годах оставались холодными. В письме от 18 июля 1924 г. Интернационал призвал ИРМ собирать средства в помощь бастующим шахтерам Рура и направлять их через Комитет международной рабочей помощи, а также опубликовать информацию о стачке в газете ИРМ «Индастриал солидарити». В ответе от 5 августа генеральный секретарь ИРМ Том Дойл отклонил просьбу, сославшись на то, что организация расходует все имеющиеся средства на острые классовые конфликты в Калифорнии, «где около ста наших товарищей находятся в тюрьме», и в Сентралия (штат Вашингтон), где члены ИРМ были брошены в тюрьму по обвинению в нападении на демонстрацию ультраправого «Американского легиона». Кроме того, ИРМ отказались направлять какие-либо средства через Рабочую помощь, заявив, что эта организация контролируется коммунистами и лучше посылать помощь непосредственно шахтерам. Т. Дойл сообщил, что у ИРМ нет средств и для созданных МАТ фондов помощи жертвам итальянского и испанского фашизма и голодающим детям Германии и Италии, но что он передаст просьбы Генсральному комитету защиты [200].
В номере «Индастриал солидарити» от 13 августа 1924 г. была помещена редакционная статья, которую Сскрстариат МАТ счел открыто враждебной, поскольку Интернационал назывался в ней «берлинской толпой». В ней также содержались ОбВИНСНИЯ в «финансовой нечестности» в адрес барселонской организации испанской НКТ и критика статьи о ИРМ, помещенной в газетс ВКТ Мексики «Нуэстра палабра» [122]. В письме от 19 сентября Секретариат МАТ заявил, что не несет ответственности за действия или заявления отдельных организаций, и потребовал опубликования опровсржения [123]. На это послание ответа не последовало, и 3 января 1925 г. Секретариат МАТ повторил свое требование, тем более что НКТ, по его словам, никаких денег от ИРМ не получала [124] Это письмо также осталось без ответа.
Секретариат МАТ поддерживал связи с секциями (ФОРА, организацией немецких рабочих в бразильском городе Порту-Алегри, ФАУД, голландского НСП, Революционным рабочим союзом Дании, НКТ, УС И, ВК Т Мексики, норвежской НСФ, ВК Т Португалии, ФОРУ, шведской САК, Синдикалистской федерацией Шпицбергена, ИРМ Чили), с близкими профсоюзами, организациями и группами из Австрии (САС), Бельгии, Кубы, Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Японии, Китая, с американскими ИРМ и т.д. [125].
МАТ продолжала выпускать пресс-бюллстень на немецком, испанском, французском и английском языках, а в январе 1925 г. попыталась даже издать два номера на эсперанто. Секретариат признавал, что у него, «к сожалению, нет достаточно средств, чтобы оформлять пресс-бюллстень более совершенно». Об этом можно будет подумать лишь тогда, когда «технический аппарат МАТ будет так расширен, чтобы для всех переводов и канцелярской работы привлекались оплачиваемые силы» [126].
В соответствии с решением пленума в Инсбруке, Секретариат приступил к выпуску печатного органа МАТ. Первоначально бланировалось осуществлять издание на немецком и испанском языках, но это сразу же натолкнулось на финансовые трудности. Первый номер журнала «Ди Интернационале» на немецком языке был датирован мартом 1924 г. и увидел свет в апреле. Объем первого номера составил 48 страниц; содержавшиеся в нем материалы имели преимущественно информационный характер. Тираж составил 3 тысячи экземпляров. Первоначально предполагалось, что издание будет выходить ежемесячно, но из-за недостаточно организованного распространения от этого пришлось отказаться. Второй номер, в котором уже содержались также теоретические и дискуссионные статьи, был датирован июнем, третий — сентябрем 1924 г., четвертый — январсм 1925 г. Тираж пришлось снизить до 500 экземпляров. В конце 1924 г. был выпущен первый (и единственный) номер журнала МАТ «Ла Интернасиональ» на испанском языке. Объем номера тиражом в 2 тыс. экземпляров составил 72 страницы, включив те же материалы, что и в немецком варианте, а также специфические испанские. Часть тиража была конфискована испанскими властями. Возникли проблемы с распространснием, и убытки составили около 6 тыс. франков. Планировалось также издавать журнал на французском и английском языках, однако это сделать нe удалось из-за трудностей с распространенисм [127].
Делегат МАТ присутствовал на конгрессе Норвежской синдикалистской федерации в сентябре—октябре 1924 г. [128]. Были запланированы такжс поездки представителей МАТ по Испании, Португалии и Южной Америке, но они не состоялись [129].
Секретариат МАТ регулярно публиковал в пресс-бюллетсне информацию о предстоящем конгрессе. В рамках подготовки ко П конгрессу МАТ, проведение которого было намечено в Амстердаме на 20 сентября 1924 г., ряд членов бюро предложил добавить дополнитсльные пункты повестки дня: об отношснии к производственным советам и о создании синдикалистской молодежной организации. Секретариат МАТ призывал секции присылать свои предложения по повестке [130].
В мае 1924 г. были подтверждены место и время проведения конгресса МАТ, а также некоторые основные докладчики [131]. Роккер (о течениях в рабочем движении), Сухи (о производственных сове В июне Секретариат сообщил, что о намeрeнии послать делегатов уже сообщили организации Мексики, Бразилии, Швеции, Норвегии, Голландии и Германии. Однако летом по предложению двух членов Административного бюро МАТ Секретариат провел опрос секций по вопросу о возможности отложить проведение конгрссса. Большинство организаций высказалось за то, чтобы отлбжить его по меньшей мере до весны 1925 г. [132]. В октябре 1924 г. было объявлено, что конгресс пройдет в Амстердаме 15 марта 1925 г.; Секретариат просил секции прислать до о ситуации до конца 1924 г., с тем чтобы их успели перевести [133]. Он намеревался также представить собственный доклад.
В начале 1925 г нидерландские анархо-синдикалисты предложили, чтобы предстоящий конгресс обсудил также отношение МАТ к плану Дауэса, разработанном американским государственным деятелем Чарльзом Дауэсом плане взыскания с Германии долгов по репарациям), к практическим действиям в рамках капиталистического общества и к использованию международного языка эсперанто. Голландцы хотели бы также, чтобы конгресс уполномочил Секретариат публиковать в журнале МАТ «Ди Интернационале» исторические статьи о синдикалистском движении в отдельных странах, рассмотрел вопрос о создании международных синдикалистских профсоюзов или отраслевых объединений и высказался за 45-часовую рабочую неделю [134].
Секретариат МАТ предложил также провести по окончании II конгресса МАТ международную конференцию синдикалистских рабочих-строителей и обратился с этой целью к федерациям строительных рабочих португальской ВКТ и Франции, попросив их организовать такую встречу вместе со строителями Германии и Голландии. Однако португальцы сочли план преждевременным и выступили за то, чтобы отложить его до лета 1925 г. [135].
Второй конгресс МАТ
Второй конгресс МАТ заседал с 21 по 27 марта 1925 г. в Амстердаме. На нем были представлены с решающим голосом 16 делегатов от организаций 12 стран: ФОРА (Диас, Абад де Сантильян), бразильской Рабочей федерации Риу-Гранди-ду-Сул (Роккер), Свободного рабочего союза Германии (Ф. Катер), Революционного рабочего союза Дании (Альберт Йенсен), испанской НКТ (Карбо), итальянского УСИ (Борги), ВКТ Мексики (Абад де Сантильян), Нидерландского синдикалистского профобъединения (А. Руссо, Лансинк, А. Й.П. Хоозе, Г. Бланкен, А. ван ден Берг, О. Деккер, Х. Хаве, О. Вонк, К. Вольфф), ВКТ Португалии (М. Силва ду Кампуш), ФОРУ Уругвая (Хулио Диас), шведской САК (Йенсен). В качестве гостей присутствовали представители Анархистско-синдикалистской молодежи Германии (Э. Бетцер, Роккер), Всеобщего рабочего союза — Единой организации (Франц Пфeмферт) и Интернационального информационного бюро («ИНО») (Эрнст Либетрау) [136].
Конгресс открыли председатель голландского НСП Руссо и секретарь МАТ Сухи. Выступая с приветственной речью, Роккер подвел итог первого периода существования международной анархосиндикалистской организации: «Нам следовало защитить наследие старого Интернационала в противовес влиянию реформистских устремлений справа и в то же самое время — в противовес влиянию коммунистической партийной диктатуры. Если мы сегодня можем сказать, что революционные синдикалисты всех стран, за единственным исключением Франции, объединены в МАТ, то это успех, правильно оценить который мы сможем, возможно, лишь впоследствии. Поэтому МАТ может по праву претендовать на то, что она спасла движение революционного синдикализма в момент угрожавшего ему тяжелейшего С приветствием выступил также представитель Международного антимилитаристского бюро [137]. Йeтсен, заявивший о глубинной связи с МАТ. «Мы все стоим на почве Первого Интернационала», — подчеркнул он [138]. Были зачитаны приветственные послания и телеграммы от ряда организаций МАТ (НСФ Норвегии, Биржи труда Амстердама, федераций металлистов и кожевенников Португалии, союза профсоюзов Порту и Лиссабона), от молодых синдикалистов Португалии и Берлина, а также от Зарубежной делегации союза левых социалистов-революционеров и максималистов (И. Штейнберг), Союза антиавторитарных социалистов Австрии, Всемирной лиги безгосударственных эсперантистов и берлинской группы анархо-синдикалистских эсперантистов, Объединенного комитета защиты заключенных революционеров в Советской России (Беркман), конференции российских, болгарских, польских и еврейских анархистов в Париже.
По предложению испанского делегата Карбо конгресс направил приветствие политическим заключенным во всех странах и телеграмму поддержки российским анархистам А. Барону и Рубинчику, находившимся в заключении в СССР [139].
Важнейшими вопросами на повестке дня были: отчет Секретариата (докладчик Сухи) и отчеты о положении в отдельных странах, отношение МАТ к различным течениям в рабочем движении (Роккер), к практической повседневной борьбе (Лансинк из Голландии и Х. диас из Аргентины), к производственным советам (Сухи), к плану Дауэса (Лансинк, Роккср), к международному вспомогательному языку (Руссо), борьба против международной реакЦИИ (Борги), международная солидарность (Шапиро), создание отраслевых федераций (Руссо), молодежное синдикалистское движение (Силва ди Кампуш), издания МАТ (Сухи), внесснис изменений в статуты, избрание нового Секретариата и определение мсста и времени проведения следующего конгрссса [140].
При обсуждении доклада Секретариата немедленно вспыхнула полемика, которая выявила сохранение существенных разногласий. Сама сго деятельность не вызвала особых споров; делегаты единогласно одобрили работу Секретариата и финансовый отчет. Возражение латиноамериканских делегатов вызвало в первую очередь подтвержденное в докладе Сухи стремление Секретариата привлечь в МАТ североамериканские ИРМ, то есть, по существу, расширить категорию тех, кто относился к международному ревоЛЮЦИОННОМУ синдикалистскому движению. Абад де Сантильян от имени мексиканской ВКТ и Х. Диас от имени ФОРА заявили, что о вступлении ИРМ в МАТ не может быть и речи, что их принципы несовместимы, а ИРМ ведут кампанию против анархо-синдикалистского Интернационала. Они обвинили ИРМ в попытках проникнуть в Аргентину и другие латинские страны, а вошедшее в МАТ чилийское отделение — в стремлении не допустить возникновения в Чили организации «фористского» толка. Сантильян критиковал также политику Секретариата во Франции, сочтя, что если бы она была иной, то положение в синдикалистском движснии этой страны теперь было бы иным. Европейские анархо-синдикалисты, напротив, взяли ИРМ под защиту: Борги (УСИ) подчеркнул, что итальянские и русские члены ИРМ в Северной Америке поддерживают МАТ и могут способствовать сближению, делегаты НКТ и ВКТ Португалии Карбо и Кампуш подчеркнули, что не следует отталкивать ИРМ и исключать из организации несогласных, наоборот, надо «собрать все силы». Они заявили, что в НКТ и ВК Т исключаются вожди компартии, но имеются рядовые рабочие-коммунисты, несмотря на несогласие с их тактикой и взглядами. Если их изгнать, «от этого пострадала бы пропаганда». Отвечая на поставленные вопросы, Сухи предложил изменить тактику в отношении ИРМ и призвать их итальянскую, русскую и шведскую секции вступить в МАТ [141].
Проблеме взаимоотношений между анархо-синдикалистами и другими течениями в рабочем движении был посвящен доклад секретаря МАТ Роккера. Остановившись на истории движения, профсоюзов и Первого Интернационала, на возникновении различных социалистических течений, он заявил затем: «...Наша позиция по отношению к современным рабочим партиям ясна. Уже наши пионеры эпохи Первого Интернационала предсказывали сторонникам парламентского действия, что их тактика неминуемо должна привести к полному отказу от всех социал истических принципов и к обуржуазиванию всего движения... Ревизионизм победил по всей линии, и социалистические рабочие партии всех стран сегодня настолько сильно срослись со структурами национальных буржуазных государств, что могут рассматриваться лишь как eго составные части и больше вообще нe могут быть пригодны для стремления к интернациональному освобождению работников от цепей наемного рабства и классового государства... Совершенно ясно и само собой разумеется, что МАТ нс может заключать пакты с этими течениями», поскольку «вся VLX принципиальная и тактическая позиция диаметрально противоположна нашей». Столь же невозможно, по словам Роккера, и соглашение с компартиями, которые довели «все ошибки... централизованной партийной системы до крайности», «насквозь авторитарны», служат «всего лишь органами внешней политики российского комиссародержавия» и — как и социал-демократы — не могут послужить делу освобождения трудящихся. Он охарактеризовал позиции анархо-синдикалистов, с одной стороны, и социал-демократов и коммунистов, с другой, как несовместимые: «Здесь — социализм, там — государственный капитализм. Здесь — организация снизу вверх на основс федерализма и свободного соглашения, там — диктаторская опека над массами со стороны определенной олигархии вождей на основе централизма. Здесь — свобода, там — авторитет. И из этого различия в принципах проистекает различие в методах, поскольку они теснейшим образом взаимосвязаны».
То же самое, по мнению Роккера, относится и к соответствующим Интернационалам — Амстердамскому и Московскому. Он сослался на решение ФАУД, запретившего вступление членов любой политической партии, хотя и оговорился, что не намерен навязывать это МАТ в целом.
Роккер назвал «оппортунистическим» стремление достичь организационного единства с другими течениями в рабочем движении. Он подверг критике французских синдикалистов, которые хотят таким способом спасти революционный синно в действительности «невольно губят» его. «...Совершенно ясно, — заявил он, — что МАТ должна при любых обстоятельствах сохранять свою самостоятельность по отношению ко всем остальным направлениям в рабочем движении...»
В то жс самос время и при условии сохранения организационной самостоятельности, Роккер допускал возможность сотрудничества с другими организациями и течениями. Прежде всего речь шла об анархистских группах, признававших необходимость профсоюзной работы и разделявших цели МАТ. «Было бы идиотизмом пытаться поставить любую группу на одну ступень с политической партией», — заметил он, обозначая тем самым еще один важный пункт отличия от довоенного революционного синдикализма. В Испании и Южной Америке «анархизм... наполнил профсоюзы своим духом, придал им цель и направление», а «профсоюзное движение уберегло анархистов от потери тесного контакта с рабочим движением и его повседневной борьбой». Роккер выступил также за сотрудничество с антимилитаристскими организациями и идейно близкими культурными группами.
Кромс того, он считал возможным в определенных случаях и совместные действия с другими течениями в рабочем движении. «Подобные случаи сами собой определяются внезапными событиями политического или социального характера», когда рабочие «совместно выступают против реакции». В качестве примера Роккср назвал «Капповский путч» — попытку реакционного монархического переворота в Германии в 1920 г., против которого выступили все рабочие течения [142]. Роккер предложил резолюцию по теме своего доклада.
Одновременно Шапиро предложил окончательную резолюцию об отрицательном отношении МАТ к Амстердамскому и Московскому Интернационалам [143]. Оба проекта обсуждались совместно. Здесь снова обнаружились расхождения между европейскими и латиноамериканскими делегациями, которые сочли высказанные мнения «слишком европейскими» [144].
В принципе все выступавшие (голландец Руссо, аргентинец диас, итальянец Борги, немец Катер, португалец Силва ду Кампуш, наблюдатель от немецкого левокоммунистического Всеобщего рабочего союза — Единой организации Пфемферт) высказались за то, чтобы в резолюции было зафиксировано жесткое осуждение Амстердамского и Московского Интернационалов и невозможность какого-либо единства с ними [145]. Возражения латиноамериканских синдикалистов вызывали прежде всего положение о возможности сотрудничества с другими течениями в рабочем движении, а также вопрос об ИРМ. диас (ФОРА) призвал принять резолюцию с последовательным отклонением обоих Интернационалов. Он повторил традиционную позицию аргентинского рабочего анархизма: объединение пролетариата возможно не на экономической, а на идейной основе; необходимо противодействовать влиянию политических партий и формуле «Вся власть профсоюзам». Идеал коммумистического анархизма должен оказывать влияние и на повседневную работу синдикалистов, заявил он. диас обвинил ИРМ в стремлении «к власти в рабочем движении», нереволюционности и борьбе против анархистов [146]. Абад де Сантильян предложил положить в основу немецкий текст проекта, в котором шла речь о «Совместных действиях», а не о «согласии» с другими течениями [147].
Напротив, большинство европейских делегатов высказали 60лее сдержанную позицию. Так, Борги (УСИ) заявил, что синдикалистские организации «должны держаться вместе и иметь свободу рук в отношении других организаций». Фашистская диктатура в Италии, по его словам, делала необходимыми совместн ые действия различных течений рабочего движения. Борги призвал «не бояться анархистов», поскольку они «не собираются захватывать профсоюзы», однако и не ограничиваться одними анархистами. «В ФОРА в большинстве анархисты; очень хорошо, — отметил он. Но не всюду это так», и исключение неанархистов привело бы к краху движения. В этой связи он выступил за развитие отношений с ИРМ, которых нельзя ставить на одну доску с Амстердамом и Москвой [148]. Представитель немецких анархо-синдикалистов Катер защищал оспариваемый южноамериканцами пункт о возможности совместных действий с другими направлениями рабочего движения, «если эти акции нс противоречат нашим устремлениям и Делегат португальской ВКТ Силва ду Кампуш подчеркнул в то же самое время стремление к хорошим отношениям с ИРМ [150]. Сухи предложил, чтобы конгресс принял специальную резолюцию по вопросу об ИРМ, потребовав от них прекращения нападок на МАТ под угрозой, что в противном случае те СЖЦИИ и сторонниКи МАТ, которые поддерживают с ними связи, порвут их [151]
В ходе обсуждения в поддержку проекта Роккера высказались делегаты из Аргентины, Италии, Германии, за проскт Шапиро — дслсгат Португалии. В конечном счете все проекты и предложения были переданы в редакционную комиссию [152]. Она представила делегатам переработанный текст резолюции Роккера, и делегаты единодушно утвердили документ [153]. В нем подчеркивалось, что «лишь антиавторитарные рабочие организации представляют собой естественные и подлинные формы организации», могущие осуществить изменение жизни на основе либертарного коммунизма, в то время как политические партии, «какое бы имя они ни носили», не способны на это. Партии стремятся к завоеванию политической власти, однако одной из главных целей рабочего движения должно стать «исключение любого организма централизованной власти из жизни общества». Рабочее движение, указывалось в резолюции, должно быть независимым, любая опека над профсоюзами лишь уведет рабочий класс от его действительных целей и задач. Поэтому «любая коалиция между профсоюзами и партийно-политическими организациями является вредной». В то же время в резолюции проводилось различие между партиями, стремящимися к власти, и «идсйными группами, которые действуют ради социального преобразования помимо любого государственного и авторитарного принципа». Долг революционных синдикалистов состоит в том, чтобы энергичнее пропагандировать синдикализм, не участвовать ни в каких «комедиях единства», идущих лишь на пользу партиям и «превратить МАТ в место сбора всех революционных антигосударственных профсоюзов мира» [154].
С докладами о борьбе за повседневные требования выступили представитель голландского НСП Лансинк и делегат ФОРА диас. Лансинк подчеркнул, что революционные синдикалисты стремятся не только к революции, но и к немедленному улучшению условий жизни и труда работников, однако хотят добиться этого «не с помощью законов, а путем действия рабочих снизу», революционными методами. «При любой борьбе за конечную цель нельзя забывать о практической повседневной борьбе». Кроме того, он говорил о необходимости уже теперь приступить к созданию потребительских и производственных кооперативов, бороться с реакцией, фашистскими и военными диктатурами. Здесь опять встал вопрос о сотрудничестве с другими силами. Лансинк заметил, что такая борьба «должна вестись на основе как можно более широкой платформы» и что нельзя исиючать из синдикалистских организаций членов политических партий [155]. Диас, конечно, не разделял последних замечаний, но повторил идею ФОРА о том, что как чистый идеализм, так и просто массовое движение недостаточны, поэтому нужно «соединить то и другое, быть массовым движением с ясными идеалами». Однако в принципе он был согласен с Лансинком в вопросе борьбы за частичные требования и подчеркнул в особенности требование сокращения рабочего времени. Дальнейшая дискуссия, в которой приняли участие Роккер, Пфемферт, Сухи, Борги и Абад де Сантильян, выявила принципиальнос совпадение позиций и еДИНОДУШИе: с одной стороны, НСоОодимо сочетать борьбу за социальную революцию с борьбой за текущее улучшение положения трудящихся, с другой, вести се следовало не на уровнс законов, парламентов, национальных и международных учреждений, но исключительно методами прямого действия. Предложенная резолюция была принята единогласно [156]. «...Практичсская борьба за достижение лучших условий жизни рабочих внутри капиталистического общества, — подчеркивалось в документе, — имеет выдающееся значение для развития революционной инициативы, а также для подъема уровня во всех областях материальной и духовной жизни». Констатировав, что «научное усовершенствованис» производства в интересах увеличения прибылей ведет к растрате жизненной энергии, перенапряжению физических сил работника, перепроизводству и росту безработицы, анархо-синдикалисты потребовали, чтобы внедрение новой техники сопровождалось сокращением рабочего времени. «...МАТ всеми силами, Ню(ОДЯЩИмися в се распоряжении, поддержит любое дсйствис и любую борьбу, которые имеют целью практическое улучшение жизни рабочего масса». Конгресс призвал к борьбе за 6-часовой рабочий день [157].
Одним из важнейших вопросов, который обсуждался на конгрессе, была тема борьбы с международной реакцией. ДОЮидчИкОМ по ней был Борги, делегат от анархо-синдикалистов Италии страны, в которой уже несколько лет царила фашистская диктатура Муссолини. Выступление Борги было, по существу, одной из первых попыток анархо-синдикалистского анализа фашизма как общественно-политического явления, причем докладчик опирался, разумеется, прежде всего на итальянский опыт. Прежде всего он предложил разделять «реакцию в старом стиле» Бисмарка и Криспи, с одной стороны, и новую реакцию, к которой он отнес большсвизм и фашизм, причем изменение характера реакции Борги связывал с усилением пролетарской борьбы. Отличие между этими различными видами реакции, с точки зрения итальянского синдикалиста, состояло в том, что «реакция в старом стиле» имела «определенную форму», соблюдала «известные ограничения», действовала в рамках «определенной ответственности» и следовала определенному политическому представлению о государстве «воюющем государстве», «клерикальном государстве», «абсолютной монархии», «военном правлении», «государстве в состоянии осадного положения» и т.д. Фашизм, по мнению Борги, представлял собой совершенно инос явление. «Он не знает ни ограничений, ни ответственности, для него не сущсствуст ни закона, ни определенного представления о праве. Фашизм — это не реакция Бисмарка, клерикализма или монархии, он не воплощает в себе ни Вандею, ни национализм, в его основе вообще не лежат какие-либо органические или исторические идеи, которые прежде вели к иным формам реакции. Фашизм — это соединение самого худшего из всех этих идей и всех реакционных следствий и злоупотреблений, которые из них вытекают. Это чудовищная смесь демагогии и так называемой «революции»». Таким образом, Борги отмечал политическую новизну фашистского феномена, а также его идейную всеядность: «...Фашизм является винегретом из всех возможных идей, своего рода политическим футуризмом, который никогда не сможет обрести равновесие и стабильность... Фашизм является монархическим и республиканским, атеистическим и догматическим, ватикански,м, индивидуалистическим и авторитарным, демократическим и аристократическим, парламентским и абсолютистским, профсоюзным и про-предпринимательским. Он на 24 часа заимствует из любой идеи то, что ему нужно, чтобы бороться с враждебной идеей, обмануть или успокоить ту или иную партию, которую обстоятельства сделали его врагом». Как видим, Борги правильно подмечал политическую и идейную всеядность фашизма, однако недооценивал его способность выработать собственную идейную доктрину. В то же время вывод о гетерогенности фашизма и его готовности быстро сменить лозунги подводил итальянского синдикалиста к более глубокому и совершенно правильному выводу о том, что же действительно лежит в основе фашизма и новых типов реакции вообще: это доведенный до крайности этатизм. «Как и большевизм — а фашизм есть лишь большевизм, поставленный с ног на голову, — он хотел превратить государство в силу, которая диктует экономике свои законы и должна с помощью декретов определять ход экономического процесса, как с помощью болес интенсивной эксплуатации трудящихся в пользу богачей ...так и путем принуждения капиталистов и банков служить не просто государству, но государству, монополизированному фашистской партией...» Поэтому, заключал Борги, буржуазия может быть заинтересована в фашизме в борьбе с массами, но не всегда и не во всем. Отсюда появился под флагом восстановления демократии и «ряд антифашистских течений, которые несут в себе опасность для пролетариата».
В связи с этим анархо-синдикалистам предстояло дать ответ на ряд тактических вопросов: «Во-первых: можем ли мы заключить блок с демократией против фашизма? Во-вторых: можем ли мы заключить блок с демократией и против другой формы реакции, которая находит свое выражение в большевизме?» На оба эти вопроса Борги давал отрицательный ответ. Он подчеркивал ответственность «буржуазной демократии» за победу фашизма и ее своекорыстность. «На обоих этапах своего существования фашизм получал поддержку государства. На первой фазе [до прихода к власти] демократическое государство покрывало фашизм и прокладывало ему дорогу, снабжая его приверженцев необходимым им оружием». Именно «буржуазия, демократия», по словам итальянского синдикалиста, «открыли дорогу фашизму». После того как они совместно одержали победу над пролетариатом, в лагере победителей началась борьба, но не следует обманываться: это «драка за добычу», и именно она заставила «буржуазную демократию» перейти в оппозицию.
Борги подчеркнул: речь не идет о том, что не нужно отстаивать традиционные политические права и свободы, добытые в ходе предшествовавших революций, отказ от этого был бы «самоубийством». Но это не значило, по его словам, что следует «наложить мораторий» на анархо-синдикалистские идеи. Он призвал отстаивать свободы, но «не покидая области наших идей и методов». Делегат УСИ предсказывал, что буржуазия будет бороться с фашизмом «гомеопатическими методами», опасаясь вооруженного восстания трудящихся. Он предложил «не делать ни единого шага, который смог бы нас компрометировать», и подытожил: «Итак, никакого совместного действия между революционным пролетариатом и демократией! Даже если иногда может возникнуть ситуация, что в определенные моменты наши силы перекрещиваются с силами демократии в борьбе с фашизмом, как это было, к примеру, в Германии во время капповского путча, то ни о каком совместном действии в борьбе против большевизма не может быть и речи. Это борьба, которую мы должны вести в одиночку и которая должна при всех обстоятельствах в то же самое время направляться против демократической буржуазии, обладающей государственной властью, ибо мы видели, что демократия отнюдь не против диктатуры, но и в серьезном случае поддержит диктатуру, чтобы остановить революционное наступление рабочих [158]. Продолжая обсуждение темы, делегат Н КТ Карбо сообщил о попытках своей организации наладить сотрудничество с каталонскими националистами, чтобы получить от них оружие для свсржения диктатуры Примо де Риверы. «Тем не менее, — утверждал он, — НКТ, несмотря ни на что, остается верна своим принципам, даже если временно действует вместе с политическими партиями», поскольку «стоит на той позиции, что социальная революция должна быть совершена самими рабочими, без всяких политических партий» [159].
Проект резолюции о борьбе против реакции, представленный редакционной комиссией, был единогласно принят делегатами [160]. В резолюции подчеркивалось стремление защищать свободы печати, слова и коалиции либо добиваться их восстановления, поскольку они «необходимы для борьбы рабочих», служат «бесценным наследисм» и «итогом прежних революций». Однако эту защиту никогда нельзя доверять правительствам, нельзя идти на компромисс с партиями и организациями, стремящимися к власти, дажс если пути с ними «перекрещиваются в борьбе против военной или буржуазной диктатуры». В борьбе против большевистской диктатуры невозможно никакое совместное действие «с какими-либо государственными элементами или организациями». При этом пролетариату не следует питать иллюзии в отношении буржуазной демократии, всегда готовой пойти на диктатуру, нсльзя превращаться «в орудие демократии», «пленника политических последствий этого компромисса». Резолюция призвала трудящихся в странах, где существуют диктаторские режимы, продолжать классовую борьбу, объединяться на рабочих местах. Такая экономическая борьба, по мнению анархо-синдикалистов, являлась «подлинной борьбой против диктатуры» [161].
Шапиро выступил с докладом о международной солидарности, посвятив его проблеме организационного укрепления и повышения дееспособности МАТ. Рост реакции и репрессий во многих странах делает необходимым оказание международной помощи в рамках МАТ, заявил докладчик. «Международная солидарность должна стать высшим долгом». Однако «у многих революционносиндикалистских организаций эта взаимопомощь и солидарность основаны только на чувствах», они «импульсивны» и осуществляются лишь «от случая к случаю». Шапиро призвал к осуществлению иной формы солидарности, которая позволяла бы действовать 60лее оперативно, ссрьсзно и основательно, немедленно откликаться на любой сигнал о помощи. Он назвал ес «упреждающей, систематической солидарностью». Кроме того, Шапиро говорил о необходимости расширить пропаганду идей революционного синдикализма. «К сожалению, за время существования МАТ эту пропаганду удавалось вести лишь в весьма ограниченном масштабе, признал он. — Как устная, так и письменная пропаганда МАТ имеет крупные изъяны. Уплачиваемые до сих пор взносы слишком незначительны и поступают нерегулярно. Многие организации нс платят регулярные взносы». Шапиро предложил урегулировать этот вопрос и создать фонд МАТ для оказания систематической помощи и пропаганды [162].
Предложения Шапиро были критически встречены латиноамеРИКаНСКИМИ делегатами. ФОРА и ес сторонники, как обычно, выступили против того, что они сочли попытками централизации и формализации движения. Абад дс Сантильян назвал проект докладчика «неосуществимой утопией»; он заявил, что деньги не могут остановить международную реакцию, поскольку на ее стороне все равно стоят куда большие суммы, а что касается пропаганды, то она должна вестись не столько в международных масштабах, сколько прежде всего соответствующими организациями на уровне отдсльных стран. «Сила международной пропаганды и действия заключсна не в Секретариате и не в Административном комитете, а в организованных рабочих и организациях отдельных стран... Если мы собираем в наших кассах большие суммы, мы подвергаем их ИМИнистраторов опасности коррупции... Аргентина не может согласиться с твердо фиксированными взносами, как это требуется в предложениях, по крайней мере, сейчас. Функции бюро должны быть ограничены, тогда не потребуется и столь большой и дорогостоящий аппарат. Можно вести пропаганду, не имея больших денег», — заявил Диас, сославшись на опыт ФОРА [163].
Европейские синдикалисты в целом поддержали предложения Шапиро, касающиеся систематических и регулярных взносов в МАТ и необходимости тратить больше средств на нужды помощи и пропаганды. Катер (ФАУД) напомнил о том, что решение об оказании солидарной помощи через посредство Секретариата было принято еще на конгрессе. Он подверг критике секции, которые за время между конгрессами не уплачивали достаточные взносы в МАТ. Свои обязательства выполнили только Швеция, Норвегия и Германия: последняя, несмотря на тяжелые условия и инфляцию, сумела внести 2517 марок, в то время как ФОРА — только 400 песо. «В международной организации все должны иметь не только равные права, но и равные обязанности, — подчеркнул он. — Секретариат должен имсть возможность выполнять свою работу». В том же духе высказались Лансинк (голландское НСП), Карбо (НКТ), Иенсен (от имени скандинавских синдикалистов), Сухи и Силва ди Кампуш (португальская ВКТ); последний предложил, правда, чтобы фонд находился не в руках Секретариата, а в распоряжении всех секции [164].
Парируя критику со стороны европейцев, Абад де Сантильян вновь оттенил существующие расхождения: «К южноамериканцам относятся как к неким мечтателям, романтикам. В качестве образцового примера выдвигается шведская секция МАТ». Он утверждал, напротив, что ФОРА оказывает самую крупную поддержку зарубежным товарищам, особенно в Испании и Италии, но делает это напрямую, а не через Секретариат. Кроме того, она тратит крупные суммы в помощь собственным жертвам репрессий и на пропаганду МАТ [165].
Секретарю МАТ Роккеру, как нередко бывало, пришлось взять на себя роль «посредника между привыкшими к регулярным взносам североевропейцами и импульсивно действующими романцами». Он объяснил, что деньги необходимы для оказания помощи, поездок делегаций на конгрессы секций, издания брошюр и т.д. При этом Роккер заверил, что полностью признает работу арген • ' !СКИХ товарищей, и посоветовал «не быть столь страстными, ведь мы должны вместе делать одно дело». В свою очередь, Шапиро подчеркнул, что никогда нe утверждал, будто «деньги могут нас спасти», однако отметил, в первую очередь, важность оперативного оказания помощи, что могло потребовать немедленных наличных средств [166]. В концe концов предложение Шапиро было в принципе приняло шестью голосами секций из Германии, Голландии, Швеции, Норвегии, Испании, Португалии. Против голосовали делегаты Аргентины, Мексики и Уругвая. Воздержались представители Италии, Бразилии и Дании, причем Борги объяснил, что УСИ принципиально поддерживает предложение, но не может его соблюдать, поскольку находится на нелегальном положении.
Конгресс единодушно утвердил предложенную редакционной комиссией резолюцию о международной деятельности МАТ [167]. Предусматривалось создание в каждой стране «комиссии по международным действиям» во главе с одним из членов бюро МАТ или тем, кто его заменяет. Такие комиссии должны были организовывать работу по практическому оказанию помощи «революционному пролетариату различных стран», стремясь в случае надобности к сотрудничеству с профсоюзами или другими революционными организациями. Заинтересованные в получении помощи секции должны были обращаться в Секретариат, который рассылал всем секциям эти просьбы, материалы и поступившие предложения. В экстренных случаях комиссии могли приступать к действиям самостоятельно, не дожидаясь рассылки информации через Секретариат. Комиссии были обязаны представлять секциям ежемесячный отчет, копия которого направлялась в Секретариат МАТ [168]. Делегаты единогласно приняли проект финансовой комиссии о финансировании Интернационала, что отменяло прежние нормы, которые были зафиксированы в статутах. Средства собирались «с тем, чтобы МАТ могла расширять и углублять свою международную деятельность, поставить на солидную основу свою письменную пропаганду, с тем чтобы ее периодические издания могли публиковаться регулярно, чтобы МАТ могла принимать участие во всех проявлениях революционного синдикализма всех стран и была в состоянии усилить и углубить распространение идей революционного синдикализма в тех странах, где наши идеи и тактика лишь слабо представлены, наконец, для того, чтобы МАТ была в состоянии всегда в равной мере и непосредственно реагировать на просьбы о солидарности». Был устаноњяен единый международный взнос: каждый член одной из секций МАТ ежегодно уплачивал в пользу Интернационала сумму, эквивалентную 10 американским центам. Взнос этот собирался местными организациями, в членские билеты воеивалась специальная марка. Секции обязывались перечислять собранные средства в Секретариат каждые 1—3 месяца. Треть из них направлялась в Фонд международной солидарности, а две трети должны были тратиться на пропагандистские нужды. В случае просьбы той или иной секции о предоставлении ей помощи на пропаганду МАТ, средства выделялись из ее собственных взносов. Средства из Фонда солидарности могли быть выданы только «ответственным орган изациям» [169].
При этом представители ВКТ Португалии и Мексики оговорили, что тяжелый экономический кризис не позволяет им в полном объеме выполнить эти обязательства, однако они сделают все, чтобы поддержать МАТ [170].
На конгресс была вынесена проблема международной координации борьбы рабочих отдельных отраслей производства. Лансинк (голландское НСП) представил проект создания международных комиссий или комитетов отраслевых федераций с тем, чтобы координировать и поддерживать забастовочное движение в различных странах, организовывать международные стачки и не давать предпринимателям переносить производство из страны, охваченной стачкой, использовать штрейкбрехеров и т.д. Он предложил образовать комиссию для разработки соответствующего решения [171]. Секретари МАТ Шапиро и Сухи приветствовали предложение Руссо; Сухи подчеркнул роль таких международных федераций в борьбе за введение единого уровня зарплаты по всему миру — первоначально в горном деле, а затем и в других отраслях — морском деле, сельском хозяйстве, строительстве и т.д. Однако Катер (ФАУД) напомнил, что отраслевые федерации существуют далеко не во всех отраслях и секциях, а потому конгресс не может принять окончательного решения по этому вопросу, но в состоянии лишь наметить путь развития, утвсрдив принципиальное решение. Сначала должны образоваться такие федерации, а затем уж могут возникнуть международные комиссии. В том же духе высказались Абад де Сантильян, Роккер и Шапиро [172]. Проект резолюции, представленный редакционной комиссией, был принят единогласно. Делегаты подчеркнули «необходимость более тесных связей между отдельными отраслевыми федерациями или профессиональными организациями различных стран» и постановили образовать первоначально три международных секретариата: строительных рабочих (в Португалии), металлистов (в Германии) и моряков (в Голландии). Секретариат Интернационала должен был иметь в виду создание и других подобных секретариатов [173].
Лансинк ПРСДЛОЖИЛ на рассмотрение делегатов также проект резолюции против «плана Дауэса». Этот план выплаты Германией 21 *
репараций в связи с Первой мировой войной был выдвинут комиссией американского банкира Чарльза Дауэса в 1924 г. Он предусматривал, что Германия начнет уплату с 1924—1925 годов, выплатив в первый год млрд золотых марок и постепенно довсдя эту сумму до 2,5 млрд. ежегодно, начиная с пятого года. В обмен сй предоставлялся кредит на уплату первого взноса в размере 800 млн золотых марок. для обеспечения уплаты в Германии должны были быть, в частности, повышены налоги и таможенные сборы, кредиторы допускались к руководству германским Рейхсбанком и железными дорогами. План был принят как державами-победитсльницами, так и немецким правительством и вступил в действие сентября 1924 г.
Анархо-синдикалисты рассматривали «соглашение Дауэса» как «результат Версальского договора» между капиталистическими державами и потому отвергали его. Оно преследует цель «подавлять немецких рабочих, систематически эксплуатировать их», поскольку именно на трудящихся ляжет в первую очередь ценовое и налоговое бремя, — подчеркнул Лансинк. Кроме того, соглашение будет способствовать росту национализма в Германии, в том числе среди трудящихся. Лансинк призвал принять специальную резолюцию об отношении МАТ к «плану Дауэса» и довести свое мнснис до рабочих.
Проект Лансинка не встретил серьезных возражений. Общес мнение выразил Роккер, который заявил: «Мы являемся противниками соглашения Дауэса, как являемся и противниками Версальского договора. Оба они являются результатами хищнической империалистической политики международного капитализма, и по этой причине мы боремся с ними не на жизнь, а на смерть». Одновременно он подчеркнул отличие анархо-синдикалистской позиции против послевоенной системы международных отношений от той, которой придерживаются немецкие националисты: те несут свою долю вины за войну и потому «не имеют права протестовать». Роккер предложил специально упомянуть в резолюции об ответственности немецкого национализма, социал-демократии и верных ей профсоюзов в связи с войной и Рурским кризисом 1923 г. К этому присоединился наблюдатель от немецкого Всеобщего рабочего союза — Единой организации Пфемферт, который подчеркнул, что, «если в резолюции МАТ против рекомендаций Дауэса не будет выражено осуждение... социал-демократической партии, это окажет в Германии патриотическое воздействие», то есть будет способствовать росту национализма. Иенсен (САК) заметил в этой связи, что опасно порождать «чувства коллективного мученичества среди рабочих той ШлИ иной страны»: им надо напомнить об их ответственности, об их долге вести борьбу с национализмом и капитализмом. Сухи призвал учитывать мнение революционных синдикалистов Франции, отсутствующих на конгрессе [174]. Разработанный проект резолюции был представлен конгрессу и одобрен им. Она отвергала соглашение как «результат позорного Версальского договора», несущего на себе «клеймо империалистической политики», не гарантирующего сохранение мира и таящего в себе зерна новых конфликтов. В резолюции указывалось, что «международный империализм» подавляет рабочий класс Германии и «в то же самое время угрожает экономическому положению пролетариата других стран». Осудив тактику рабочих партий и «их профсоюзных придатков», которые одобрили соглашение Дауэса и тем самым дали возможным имущим классам решить свои проблемы за счет трудящихся, МАТ призвала пролетариат отвергнуть «любое национальное взаимодействие между носителями капитализма и рабочими», а секции Интернационала — развернуть во всем мире пропаганду с разоблачением соглашения Дауэса и планов империалистов [175]. Было высказано также пожелание, чтобы Секретариат издал брошюру и статью о «соглашении Дауэса». Аналогичное принятой резолюции предложение Карбо было приобщено к протоколам [176].
Делегаты конгресса обсудили внесение изменений в статуты МАТ. Большинство из предложенных изменений носили стилистический характер и были приняты. Острую дискуссию вызвал Шапиро, представивший проект дополнения ко второму параграфу «Декларации принципов революционного синдикализма». В нем подтверждалась опасность «соединения с политическими партиями и движениями, которые либо стремятся к завоеванию политической власти и видят в организованном рабочем классе всего лишь инструмент, используемый в интересах партии, либо заявляют, что они против завоевания государственной власти, но еще не окончательно порвали с государственнической идеологией, пусть даже носящей переходный характер». Одновременно в проекте Шапиро указывалось, что не следует опасаться тех организаций и движений, которые, хотя и не признают безоговорочно классовую борьбу и роль экономических организаций трудящихся, но выступают за уничтожение системы предпринимательства и государства, против вмешательства извне в рабочее движение. «С такими силами, оргаНИЗаЦИЯМИ и движениями революционные синдикалисты должны найти основу для соглашения и сосуществования» с тем, чтобы «пропаганда идей либертарного коммунизма и антигосударственного революционного синдикализма могла взаимно дополнять друг друга». По существу, речь шла о возможности сотрудничества с несиндикалистскими анархистами, и это вызвало резкие возражения ряда делегатов. Представители голландского НСП Руссо и Лансинк категорически отвергли перспективу совместных действий с «индивидуалистическими анархистами», которые не признают организацию и стачки. Катер (ФАУД) также предостерег от «путаницы», но являются апостолами голода». Борги (УСИ) и Роккер призвали к более дифференцированному подходу и указали на необходимость взять из проекта его правильные моменты. Сухи предложил вообще снять вопрос с обсуждения, поскольку, по его мнению, он в достаточной мере был отражен в других частях декларации. Защищая свою точку зрения, Шапиро повторил призыв к сотрудничеству с анархистами, тем более что они участвовали в создании МАТ и в данном конгрессе. «Взаимный спор между анархистами и синдикалистами опасен для обеих сторон», — заявил он, пояснив, что имеет в виду не анархо-индивидуалистов, но лишь сторонников либертарного коммунизма. Наконец, аргентинец Диас заметил, что к Латинской Америке эта проблема не имеет никакого отношения, поскольку там все анархисты работают в рабочих союзах. При голосовании предложение Шапиро поддержали делегации Италии, Португалии, Испании и Швеции; представители Германии и Голландии голосовали против; секции из Аргентины, Бразилии, Мексики, Норвегии, Уругвая и Дании воздержались. В результате проект был направлен на изучение воздержавшимся секциям [177].
К неменьшим спорам привело и предложение изъять из текста статутов упоминание о том, что членом Интернационального бюро (то есть представителями секций в МАТ) не может быть человек, выполняющий одновременно политические функции. В поддержку снятия этого положения выступили Борги и Иенсен, заявившие, что анархисты иногда также называют себя «партией» и данное определение может быть направлено и против них (Иенсен сам являлся членом шведской анархистской организации, именовавшейся МЛИОСОЦИШIИСТИЧеСКОЙ партией). За изъятие из статутов этого запрета высказались также португалец Силва ди Кампуш, напомнивший, что в его ВКТ имсются также члены компартии, Сухи, ссылавшийся на то, что на практике члена партии, стремяЩеЙСЯ к завоеванию власти, никогда не выбирают в комитеты. Шапиро предложил сделать оговорку, что речь идет лишь о партиях, пытающихся завладеть политической мастью, а не о таких, к примеру, как российские левые эсеры и максималисты. Карбо (НКТ) был за то, чтобы отложить обсуждение вопроса до следующего конгресса. За сохранение запрета решительно выступили голландцы у которых имелся опыт проникновения коммунистов на руководящие посты в синдикалистской организации. Что касается латиноамериканцев, то они выступали против любого партийного влияния в синдикатах, а не только за запрет членам партий быть в составе Интернационального бюро. В результате подавляющее большинство делегаций голосовало за исключение пункта из статутов [178].
Катер (ФАУД) предложил установить практику, в соответствии с которой требовалось запросить секцию, уже существующую в данной стране, при решении относительно приема в Интернационал другой организации из той же страны. Абадде Сантильян заявил, что в этом случае вторая организация должна прийти к соглашению с уже существующей и с МАТ. Представитель голландского НСП Лансинк внес предложение о том, чтобы в каждой стране в МАТ состояла только одна секция. Поскольку такие споры существовали или могли возникнуть в различных странах, Шапиро выступил за создание комиссии, которой предстояло бы заняться этим вопросом [179].
Важное место делегаты уделили проблемам, связанным с работой МАТ в аналитической области, в деле организации международной солидарности, работой с молодежью, антимилитаристской борьбой и т.д.
Сухи предложил интенсифицировать пропагандистскую работу в странах, где революционный синдикализм еще не был известен. С этой целью он подчеркнул важность издания пресс-бюллетеня МАТ на английском языке, несмотря на его конфискацию в Индии [180]. В резолюции о «прессе МАТ» конгресс поручил Секретариату издать пропагандистский плакат МАТ, иллюстрированный альбом о международном синдикалистском движении, еженедельно выпускать пресс-бюллетень на немецком, испанском, эсперанто, французском и английском языках, а также ежемесячный сокращенный вариант на русском языке, ежемесячный международный журнал на различных языках, периодический журнал на итальянском языке (совместно с УСИ), а также пропагандистские брошюры. Конгресс рекомендовал, чтобы каждый орган секций шти сторонников МАТ регулярно публиковал призывы к международной солидарности и пропаганду МАТ, а члены бюро Интернационала публиковали статьи о деятельности международной организации [181].
По предложению Шапиро [182], конгресс одобрил создание «Международной исследовательской комиссии», в задачи которой входило «обсуждать важные проблемы международных явлений борьбы против государства и капитализма, теоретически объяснять их и издавать в форме брошюр». Комиссия должна была заседать в Стокгольме, а в ее состав предполагалось включить председателя Йенсена (Швеция), Роккера (Германия), Карбо (Испания), Джованнетти (Италия), Г. Максимова (видного русского анархо-синдикалиста, эмигрировавшего в США) и Нити (Южная Америка) [183].
Специально обсуждался на форуме молодежный вопрос. Силва ди Кампуш выступил с докладом на тему «МАТ и синдикалистская молодежь», предложив резолюцию о необходимости специальных МОЛОдСЖНЫХ организаций анархо-синдикалистов. «Молодежь должна учиться теоретически и диалектически, чтобы быть в состоянии однажды заменить стариков, — сказал он. — При этом она должна уметь ограничиваться своей задачей и ограничить сферу своей работы охватыванием пролетарской молодежи, ее образованием и боевыми усилиями в классовой борьбе». Представитель немецкой «Синдикалистско-анархистской молодежи» Бетцер призвал МАТ способствовать объединению синдикалистского и анархистского молодежного ДВИЖСНИЯ и поручить это португальской организации. В поддержку организации анархо-синдикалистской молодежи высказались также Роккер и Руссо (голландское НСП). Предложенная УСИ резолюция по этому вопросу была обработана редакционной комиссией и единогласно принята [184]. Охарактеризовав молодых синдикалистов как «ядро, на которое пролетариат возлагает все будущие надежды на победу свободы и социального равенства», МАТ призвала секции «уделять особое внимание подрастающему поколению синдикалистского молодежного движения и развивать в нем чувства благородства и великодушия, дух солидарности и самопожертвования, пробуждать склонность к полезному труду, вызывать тягу к тому, чтобы вникать в технологию производства, и к изучению особых экономических проблем». Было предложено широко создавать школы и кружки для изучения социальной экономики, содействовать публикации брошюр и книг для молодежи, проводить просветительную пропагандистскую работу для борьбы с предрассудками буржуазной идеологии, способствовать уклонению от спорта, «поскол ьку спорт сегодня является лишь средством в руках капиталистов» с целью отвлечения молодежи «от классовой борьбы и от более высокого духовного развития» и превращает ее «в механический... инструмент». Интернационал призвал способствовать вовлечению молодежи в профсоюзное движение, созданию синдикалистских молодежных организаций в тех странах, где их еще нет, и проведению международных конференций с целью объединения молодежи поверх всех границ [185].
Аргентинская делегация письменно оговорила свою особую позицию по данному вопросу (ФОРА выступала в принципе против «специфических» организаций анархистов, отдельных от рабочих союзов).
Перейдя к вопросу о борьбе с милитаризмом, конгресс одобрил предложение голландца Лансинка и призвал все оргаНИЗаЦИИ МАТ провести в первое воскресенье августа 1925 г. демонстрации и манифестации против войны, по возможности вместе с другими организациями, однако лишь теми, было добавлено по просьбе Борги, «которые не могут быть обвинены в начале войны» [186]. Не обсуждался другой антимилитаристский проект, внесенный Карбо (НК Т). Испанский делегат предложил, чтобы организации МАТ исключали из своих рядов членов, принимающих участие в производстве и изготовлснии бесполезных или вредных материалов, воючая военные, и чтобы члены Интернационала приняли на себя обязательство бойкотировать военную службу, в случае необходимости сорвать мобилизацию с помощью всеобщей стачки, а такжс принять все иные меры для того, чтобы сделать войну и милитаризм невозможными. Шапиро объяснил, что конгресс не может взять на себя ответственность за такое решение, и вопрос был передан на обсуждение секциям [187].
Конгрессу пришлось заниматься и проблемами, возникающими между различными синдикалистскими организациями. Так, вновь встал вопрос о напряженных отношениях между аргентинской ФОРА и НКТ. Абад де Сантильян подверг критике испанскую НКТ, которая не платит взносы, ссылаясь на репрессии, хотя такие же преследования не мешают латиноамериканским организациям выполнять свой долг. «Поражение НКТ объясняется нe реакцией, а тем, что она отказалась от анархистских принципов», заявил он, комментируя информацию о сотрудничестве НКТ с каталонскими националистами [188]. В ответ Карбо обвинил Мадо де Сантильяна в непонимании ситуации, в которой НКТ потребовалось оружие. «Статьи Пестаньи были его личным мнением, которое было опубликовано не в официальном органе НКТ, а в каталонском региональном органе ”Солидаридад обрера”. НКТ в Испании не сделала возможным подъем коммунистов, со сторонниками диктатуры со временем было покончено». Карбо потребовал, чтобы Сантильян ответил точно, «когда и в какой связи НКТ отказалась от своих анархистских В свою очередь, Сантильян и Диас продолжали требовать от НКТ объяснений по поводу публикации статьи Пестаньи и се отношения к ФОРА [189]. Карбо сделал по этому поводу письменное заявление. В нем он сообщал об отказе признать какую-либо ответственность за публикацию спорных статей, поскольку у него нет необходимой «основы для вынесения суждений», а вмешательство людей, не знающих сути вопроса, может лишь нанести вред. Карбо заявил, что «не видел ни одной публикации, изданной по данному вопросу Центральным [Национальным] комитетом», и призвал прекратить «эти споры, которые ведут лишь к ослаблению наших сил [19о].
По предложению ФОРА делегаты образовали комиссию, которая должна была рассмотреть вопрос о конфликте между нею и рядом других либертарных групп Аргентины, которые также апеллировали к МАТ. В нее были включены Силва ди Кампуш (ВКТ Португалии), Карбо (НКТ), Йенсен (САК), Абад де Сантильян (от мексиканской ВКТ) и Роккер [191]. Присутствовавший на конгрессе в качестве гостя член «Либертарного альянса Аргентины» Филиппо выразил недовольство тем, что в пресс-бюллетене МАТ его организация была обвинена в «шпионаже». Роккер объяснил, что речь идет не об официальном мнении Интернационального бюро МАТ, а о перепечатке материала из аргентинской анархистской газеты «Ла Протеста», ответственность за которую взяла на себя ФОРА, что было подтверждено ее делегатами на конгрессе. Другие спорные моменты так и не были обсуждены комиссией за недостатком временит
Конгрессу предстояло принять решение в отношении просьбы австрийского Союза антиавторитарных социалистов о вступлении в МАТ. Сложности возникали в связи с тем, что союз был не анархо-синдикалистской, а чисто анархистской организацией, хотя и вел синдикалистскую пропагандy. С решительными возражениями против приема выступил делегат ФАУД Катер, опасавшийся «создать прецедент» и тем самым преградить путь для создания в Австрии анархо-синдикалистской организации. По предложению Шапиро конгресс поручил Секретариату сообщить САС, что прием пока не состоится, поскольку следует обождать, не появится ли в стране синдикалистское движение [192].
Наблюдатель от немецкого левокоммунистического Всеобщего рабочего союза — Единой организации Пфемферт, подтвердив желание своего союза вступить в МАТ, обратился к конгрессу с жалобой на немецкого анархо-синдикалиста Катера, который подверг ВРС-Е резкой критике в издаваемой ФАУД газете «Дер Синдикалист [193]» Он не оспаривал, что между его организацией и синдикалистами существуют различия: ВРС строится на фабричной, а не профессиональной основе, выступает за «применение насилия, диктатуру Советов». В то же время Пфемферт отмечал наличие общих черт: и члены ВРС и синдикалисты основываются на экономической необходимости, полагают, что освобождение трудящихся должно быть их собственным делом. Однако делегаты отказались обсуждать проблемы между ВРС-Е и ФА УД, сочтя их «немецким делом» [194].
Обсуждение ряда важных вопросов не состоялось из-за нехватки времени. Так, Сухи вынужден был отказаться от своего доклада по вопросу о производственных Советах, проект резолюции был разослан секциям для ознакомления и дальнейшей дискуссии [195]. Тем не менее текст проекта Сухи заслуживает интереса, так как отражает отношение европейского анархо-синдикализма к проблеме рабочих Советов.
Проект документа подчеркивал, что «революционный синдикализм стоит на почве федералистской системы Советов». Создание советов на производстве как «прямого представительства трудящихся масс» должно было начаться еще в условиях существующей капиталистической системы, причем они должны были служить как конечной цели социального освобождения и либертарного коммунизма, так и решению насущных задач, ведя «в согласии с синдикалистскими профсоюзами» борьбу «за освобождение рабочего класса». Прежде всего создание производственных Советов должно было сблизить рабочих, «пробудить их массовое сознание» и помочь им осознать общность своих интересов в противовес предпринимателю. Став проявлением «развития собственной инициативы рабочих», оно могло стать первым шагом «к контролю над производством, к самоуправлению и занятию предприятий» работниками. Таким образом, Советы представали одновременно как органы классовой борьбы и как «каркас будущей структуры управления предприятием».
В то же время анархо-синдикалисты выстулали против законодательного признания и закрепления производственных советов, как это имело место в России, Германии и Норвегии. Узаконив их, правительства воспользовались последствием революционной волны и сделали это «в интересах поддержания своего господства, чтобы перевести революционное рабочее движение в ложное русло и притушить его ударную силу». Подлинные задачи производственных Советов «лежат по ту сторону... законов». «В странах, где существуют узаконенные производственные Советы, — говорилось в проекте, — задача рсвОЛЮциОнныХ синдикалистов состоит в том, чтобы указывать рабочим на их непригодность, расширять круг их задач и вести пропаганду в пользу подлинно революционных производственных Советов, цели которых должны выходить за рамки существующего общества». Там же, где узаконенных органов нет, синдикалистским организациям следует призвать рабочих избрать производственные советы. «Синдикалистские производственные Советы должны всегда находиться под контролем синдикалистских профсоюзов». Таким Советам предстояло затем защищать интерссы рабочих в конфликтах с предпринимателями и государством, возглавлять движение в ходе выступлений за повышение зарплаты, сокращение рабочего времени, улучшение условий труда и т.д. С целью подготовки рабочих к взятию производства в свои руки в проекте предлагалось, чтобы Советы всех предприятий населенного пункта проводили регулярные собрания, обменивались опытом и планами. Должны были также собираться территориальные конФеренции Советов для разработки (совместно с профсоюзами) общих действий — вплоть до общенационального конгресса Советов. Следовало также организовать курсы для подготовки Советов к взятию управления производством в свои руки [196].
Пришлось отказаться и от обсуждения вопроса об использовании международного вспомогательного языка эсперанто [197].
Наконец, делегаты постановили, что Секретариат должен и далее находиться в Берлине. Борги предложил вновь переизбрать прежних членов Роккера, Сухи и Шапиро, однако российский анархо-синдикалист отказался, хотя и заявил о намерении продолжать оказывать помощь МАТ. Вместо него в состав Секретариата был избран голландец Лансинк. Третий конгресс Интернационала было намечено провести в Стокгольме или Лиссабоне, детали предстояло определить Секретариату [198].
В целом II конгресс МАТ продемонстрировал, что всемирное объединение революционных синдикалистов и анархо-синдикалистов состоялось и, несмотря на трудности и сбои, действует. В то же время он выявил сохраняющуюся разнородность движения. По многим принципиальным вопросам не было достигнуто единого мнения. На одном полюсе сосредоточились латиноамериканские рабочие анархисты и синдикалисты, которые подчеркивали первостепенную важность либертарной идеологии, решительно выступали против всяких компромиссов и прочного сотрудн ичества с другими течениями рабочего движения, против того, что они считали организационной формализацией (усиление роли Секретариата, создание новых международных структур, централизация взносов и финансов). На другом оказалось большинство европейских анархо-синдикалистских и революционно-синдикалистских организаций, которые, нс отрицая идеологии, ставили в основу дсятсльности и борьбы экономические интересы трудящихся, более снисходительно относились к возможности взаимодействия с другими течениями рабочего движения и выступали за укрепление организационных структур МАТ, обосновывая это необходимостью более эффективных действий. Отражением противоречий стало предложение латиноамериканских делегатов Диаса и Абада де Сантильяна заменить в официальных документах сам термин «революционный синдикализм» выражением «антиавторитарное профсоюзное движение» пли «антиавторитарные профсоюзы». Была достигнута договоренность «учесть пожелания аргентинцев», которая должна была позволить использовать в различных странах адекватные термины [199].
МАТ межд II и III конгpессами (1425—1928 гг.)
МАТ возникла в период, когда революционная волна, охватившая мир после войны, отступала. Подъем революционно-синдикалистского движения был сбит, «мировой революции не произошло», «наступила реакция». «Круг задач революционного синдикализма стал теперь иным, — признавали анархо-синдикалисты. — Речь в первую очередь шла о том, чтобы поддерживать организации, затронутые реакцией, помогать преследуемым товарищам, поддерживать существование РСВОЛЮЦИОННЫХ центров в каждой стране, организовывать борьбу против международной реакции, сопротивляться ухудшениям материального положения...» Задача Интернационала понималась теперь прежде всего следующим образом: «МАТ получает сигналы о явлениях революционной классовой борьбы и организует помощы [200].
Установление диктаторских, фашистских или профашистских режимов в ряде стран чувствительно ударило по международному анархо-синдикалистскому движению. Ведь оно, как подчеркивалось в отчете Секретариата III конгрессу МАТ в 1928 г., «было наиболее сильно как раз в странах, где царит реакция» и где его деятельность в результате стала невозможнои [201].
Ведущие активисты МАТ были убеждены, что анархо-синдикалисты не в состоянии отразить наступление мировой реакции в одиночку, и выступали за совместные действия рабочих всех течений. Но, сетовали анархо-синдикалисты, ни Амстердамский Интернационал (Международная федерация профсоюзов), ни «Красный Профинтерн» не желают «сотрудничества всех самостоятельных сњл пролетариата». Однако идейное и организационное слияние течений в рамках единого всемирного объединения профсоюзов они считали невозможным и нежелательным. «Каждый из трех сущеСТВУЮЩИХ профсоюзных Интернационалов, МОП, Профинтерн и МАТ, имеют свою особую цель и особую тактику... Объединение этих трех направлений невозможно при сохранении принципов каждого из них», — подчеркивалось в журнале МАТ «Ди Интернационале» [202].
Такому «единству сверху», за счет собственных принципов и тактики, анархо-синдикалисты противопоставляли «единство снизу», осуществляемое самими трудящимися в ходе борьбы за уничтожение капитализма и государства, и одновременное укрепление собственных организаций. Они надеялись на скорейшее возвращение революционного этапа: «...Мы находимся в революционном периоде, поскольку темные тени, лежаЩИе на странах, где царит реакция, как в Испании или в Италии, есть лишь признак грядущей бури...» [20З].
После ll конгресса приступил к выполнению обязанностей новый состав Секретариата Интернационала (Роккер, Сухи и Лансинк). В Административное бюро, действовавшее в период между П и III конгрессами, входили: Катер (ФАУД), Йенсен (САК), Юар (РСВКТ, после ее создания), Абад де Сантильян (ФОРА), Борги (Италия) [204]. В мае 1926 г. Секретариат созвал пленарную конференцию бюро в Париже. В ней приняли участие делегаты ФАУД (Сухи), Союза федералистских профсоюзов Франции (Бенар), голландского НСП (Руссо, Лансинк), португальской ВКТ (Мануэль Ж. ди Соуза), САК (Йенсен), УСИ (Персичи, Борги), НКТ (Арменгод), польского эмигрантского комитета (Скирский), Международного антимилитаристского бюро (Альберт де Ионг, А. Мюллер-Ленинг), Российского анархо-синдикалистского комитета (Шапиро) и Секретариата МАТ (Сухи, Лансинк). Собравшиеся заслушали отчеты Секретариата, НКТ и УСИ, обсудили вопросы о ведении пропаганды МАТ во Франции, Польше, Финляндии, на Балканах, в Северной Америке и Канаде, об отношении к Международному антимилитаристскому бюро и об отношениях между ФОРА и МАТ [205].
Общая линия и текущие лозунги МАТ отражались в традиционных Первомайских воззваниях Интернационала. Так, в апреле 1925 г. Административное бюро выпустило воззвание «К трудящимся классам всех стран» к мая [206]. В первомайском обращении Административного бюро 1926 г. «к мировому пролетариату» вновь констатировалось отступление революции, которая «была остановлена прежде, чем смогла полностью развернуться», и торжество реакции, пытающейся отнять у трудящихся их завоевания, включая 8-часовой рабочий день. Частью наступления реакции анархосиндикалисты считали дело Сакко и Ванцетти и рост угрозы войны. МАТ подчеркнула длительный, а не преходящий характер безработицы и то тяжелое воздействие, какое она оказывает на рабочий пасс. Бюро призвало рабочих выйти на демонстрации I мая с требованиями 6-часового рабочего дня [207]. В воззвании МАТ к мая 1927 г. Интернационал подтвердил требования идею 6-часового рабочего дня и антивоенные лозунги 208 . Первомайское обращение 1928 г. было также направлено против международной реакции и опасности войны, выдвигало требование 6-часового рабочего дня. Однако здесь появилась новая характерная деталь — лозунг рабочего «участия и влияния на процесс производства» уже при существующей экономической системе. В этом виделась подготовка к окончательному захвату предприятий трудящимися [209].
Международные выступления приурочивались и к другим памятным датам и годовщинам. Так, в мае 1926 г. пленарная конференция Административного бюро МАТ в Париже обратилась «К пролетариату всех стран! Ко всем организациям МАТ!» с призывом отметить 50-лeтие со дня смерти «великого предшественника» Бакунина, во взглядах которого «уже содержались все элементы идей и методов борьбы, нашедшие сегодня свое международное выражение в МАТ». Организации МАТ должны были выпустить специальные номера своих изданий, материалы или статьи о Бакунине и провести 1 июля 1926 г. памятные собрания или другие публичные мероприятия [210]. В рамках «Бакунинских празднеств» в Германии были выпущены специальный номер печатного органа ФАУД и юбилейный сборник, проведены публичные собрания и праздничные мероприятия в Берлине, Дюссельдорфе, Касселе и других городах. В Голландии анархо-синдикалисты и анархистские группы создали совместный Бакунинский комитет, который выпустил открытку и организовал собрания. Во Франции издано пятитысячным тиражом в виде листовки на многих языках и распространено юбилейное обращение МАТ, а образованный в мае 1926 г. Комитет деЙствиЙ провел крупные собрания и публичную манифестацию. Статьи о Бакунине появились в газетах Швейцарии, Швеции, Норвегии и др. [211].
В соответствии с решениями конгресса МАТ, была начата работа по созданию международных отраслевых федераций. Он постановил создать три международных секретариата — моряков, строителей и металлистов [212]. Весной 1925 г. был учрежден Международный секретариат синдикалистских рабочих-металлистов во главе с немецким анархо-синдикалистом Райнхольдом Визбсргом [213]. Летом 1926 г. он разослал «Обращение ко всем синдикалистским металлистам мира», пригласив их представителей на конференцию, проведение которой было намечено на осень того же года в Германии [214]. В конференции в Гамбурге приняли участие делегаты синдикалистских федераций металлистов Германии и Голландии и союз рабочих-мсталлистов Копенгагена; согласие с созданием международного объединения прислали также организации из Швеции и Франции. Обсуждалась возможность присоединения синдиката механиков Льежа [215].
Португальские строители проинформировали Секретариат МАТ о том, что из-за репрессий и тяжелого положения в стране они не могут взять на себя организацию международной федерации строителей. Эта задача была возложена на немецких строителей в сотрудничестве с коллегами из Голландии и Швеции [216] В июле 1926 г. в Дюссельдорфе состоялась конференция синдикалистов — строителей из Германии и Нидерландов. На ней обсуждалась подготовка международной конференции, в которой должны были принять участие синдикалистские федерации строительных рабочих из Германии, Голландии, Франции, Португалии, Швеции, Бразилии и Аргентины. Ее проведение было запланировано на декабрь 1926 г. [217]. Однако в итоге она состоялась в ноябре 1926 г. в Лионе (Франция) по окончании конгресса Французской федерации строителей. На Лионской конференции присутствовали делегаты от федераций строительных рабочих Германии, Швеции, Голландии, Франции и Португалии; представитель испанской НКТ Пестанья не сумел приехать вследствие ареста. В результате была образована Международная синдикалистская федерация строительных рабочих, которая стояла «на почве МАТ» и намеревалась «вести борьбу в сообществе с товарищами из МАТ». цель и задача федерации состояла во «взаимной международной поддержкс в массовых конфликтах, передаче информации о размерах зарплаты, рабочего времени и об условиях труда, консультации при эмиграции и иммиграции рабочих-строителей, поддержка при международных стачках, проведение международных бойкотов и т.д.». В объединение немедленно вошли присутствовавшие организации; ожидалось вступление также профсоюзов из Бельгии, Аргентины, Бразилии и Мексики. Все члены федерации должны были принадлежать к секциям МАТ. Был избран Секретариат из четырех человек (голландец Лансинк, француз Жув, немец Р. Бут) сроком на два года. Его местопребыванием стал Амстердам (Нидерланды), откуда предстояло избрать четвертого члена Секретариата; установлены единые членские взносы [218]. Позднее к федерации присоединились бельгийские строители.
Однако, как признавал на III конгрессе МАТ Лансинк, федерация «с самого начала функционировала плохо». Португальская и испанская организации нс подавали признаков жизни, поддерживать связи со строителями Латинской Америки не удавалось. Трудное положение в синдикалистском движении Голландии не позволило организовать новую международную конференцию [219].
Тяжелой проблемой для Международной федерации строителей стал раскол в немецкой секции. Представитель той части федерации строительных рабочих, которая осталась в составе ФАУД, Марков, выступая на III конгрессе МАТ, подверг резкой критике деятельность Лансинка 220 . Международная федерация моряков так и нс была создана [221].
По решению конгресса МАТ должна была быть образована Международная исследовательская комиссия, в задачи которой входило изучать и публиковать материалы о проблемах развития революционно-синдикалистского движения в различных странах. Назначенный главой комиссии швед Иенсен нс смог исполнять эти функции по состоянию здоровья, и Секретариат МАТ передал сс руководство Шапиро. Секретариат обратился ко всем секциям с просьбой присылать иллюстрации для запланированного издания Иллюстрированного альбома интернационального синдикалистского движения [222] Но в конечном счете комиссия так и нс приступила к работе. Секретариат МАТ предложил, в связи с этим начать с издания брошюр и исследований и обратился с этой целью к различным лицам и организациям [223] Запланированное издание Альбома по международному анархо-синдикалистскому движению также не состоялось, поскольку не удалось получить фотографий из Испании и Южной Америки [224].
Анархо-синдикалистский Интернационал по-прежнему предпринимал усилия с целью организации международной поддержки забастовочных выступлений в отдельных странах. Так, в мае 1925 г. Секретариат МАТ выпустил призыв «Помогите нашим борющимся товарищам Норвсгии!», предложив собирать средства в помощь бастовавших и безработных членов норвежской секции НСФ [225]. Сообщалось о том, что денежную помощь НСФ предоставили в особенности анархо-синдикалистские организации Швеции, Германии и Голландии. Так, шведские синдикалисты выделили сумму в размере 2 тыс. марок, ФАУД — 2173 марки [226].
В связи с всеобщей стачкой в Англии в мае 1926 г. пленум Административного бюро МАТ в Париже направил приветствие бастующим рабочим, проявившим солидарность с начавшими это выступление британскими горняками. МАТ призвала свои секции бойкотировать транспорты из Великобритании и все британские рынки, а также «быть готовыми в надлежащий момент в согласии с международным рабочим движением, если это потребуется, провозгласить всеобщую стачку солидарности с нашими английскими товарищами». Анархо-синдикалисты предупреждали, что поражение британских шахтеров приведет к повсеместной «новой волне экономической реакции» [227]. Секретариат Интернационала выпустил листовку «К организованным рабочим всего мира!», в которой выразил поддержку всеобщей забастовке английского пролетариата и призвал рабочих всех стран, в особенности шахтеров и транспортников, прекратить любое производство товаров для Англии и отправку любых транспортов и товаров в Англию и на английские рынки. Анархо-синдикалисты в Голландии, Германии, Швеции и других странах собирали деньги для бастовавших британских горняков [228].
Летом 1927 г. в связи с забастовкой норвежских рабочих в Мальме МАТ убеждала трудящихся из других стран не ехать на работу в Норвегию, чтобы не становиться штрейкбрехерами [229]. Весной 1928 г. настала очередь Швеции: Секретариат МАТ призвал к поддержке уволенных шведских синдикалистов, сбору средств в помощь им и т.д. Руководящая комиссия ФАУД сообЩИЛа, что немецкая секция немедленно приступила к сбору средств [23О]. Впрочем, некоторые анархо-синдикалисты сочли помощь, оказанную шведским товарищам, недостаточной. Об этом заявил, например, на III конгрессе МАТ бельгийский делегат Бреню. А САК была настолько раздражена, что ее представитель на конгрессе Иенсен заметил: «Шведы настолько разочарованы недостатком солидарности в других странах, что в будущем будут, вероятно, менее щедры» в своих пожертвованиях и Важнейшей мерой в борьбе с безработицей [231], которая продолжала нарастать в эти годы экономического восстановления и роста, анархо-синдикалисты считали борьбу за введение 6-часового рабочего дня без снижения зарплаты. В соответствии с резолюцией II конгресса, Секретариат пропагандировал этот лозунг в различн ых своих обращениях и воззваниях, но, по собственному признанию, сделать больше было не в его силах [232]. Секции МАТ в большей или меньшей степени переняли это требование. ВКТ Мексики организовала однодневную всеобщую стачку за 6-часовой рабочий день, но не добилась большого успеха. В рамках кампании была издана пропагандистская брошюра Абада де Сантильяна; ВКТ Мексики напечатала ее и распространила тиражом в 10 тыс. экземпляров. РСВКТ Франции выпустила меморандум и большое количество листовок, активно пропагандировала лозунг. ФАУД также вел соответствующую агитацию, его печатные органы призывали рабочих добиваться сокращения рабочего времени до шести часов в день. Такие же призывы делала португальская ВКТ. Однако шведская САК отложила решение вопроса до своего следующего конгресса [233]. Дело в том, что в рабочем движении существовала точка зрения, будто сокращение рабочего времени не ведет к уменьшению прибыльности производства и не влияет на проблему безработицы, поскольку в ответ предприниматель пытается внедрить новую технику и увеличить индивидуальную нагрузку на каждого отдельного работника [234]. В шведской организации сохранялись расхождения по этому вопросу; некоторые синдикалисты сомневались в действенности 6-часового рабочего дня для борьбы с безработицей. В первые месяцы 1927 г. Секретариат МАТ и САК обменялись письмами в связи с Первомайским призывом МАТ, в котором секциям рекомендовалось провести демонстрации за 6-часовой рабочий день и побудить другие профсоюзные Интернационалы поддержать это требование. Особое недовольство шведских синдикалистов вызвала формулировка: тот, кто не за эту меру, тот «стоит по другую сторону баррикады». Комитет САК заявил, что не может опубликовать Майское воззвание МАТ. Секретариат МАТ предложил шведской организации опустить при публикации те места, которые она считала непригодными в своей стране. В будущем предполагалось, что при издании призывов, касающихся всех стран, будут проводиться консультации с членами Бюро МАТ от соответствующих стран и организаций. Это способствовало урегулированию конфликта 235 . Шведские синдикалисты активно пропагандировали лозунг 8-часового рабочего дня, ликвидацию совместительства и сверхурочного труда, распространив соответствующее обращение тиражом в 50 тыс. экземпляров [2З6].
В целом, признавал Секретариат, пропаганда 6-часового рабочего дня все же не велась «с достаточной силой» [237].
Анализируя экономическое и социальное развитие 1920-х годов, анархо-синдикалисты подчеркивали, что, несмотря на экономический подъем, условия жизни многих трудящихся продолжают ухудшаться, и «рабочие не смогли сдержать реакционную волну в хозяйственной области». Они призывали активнее выдвигать требования о повышснии зарплаты, невзирая на какие-либо конъюнктурные соображения. С их точки зрения, рабочие не должны были учитывать аргументы о «трудном» положении в промышленности, поскольку нс они владели и управляли ею. «Рабочим организациям следовало бы вообще отказаться принимать во внимание состояние ”экономики” при выдвижении требований о зарплате, — писал секретарь Интернационала Сухи. — Не люди существуют для экономики, а экономика для людсй» [238]. Анархо-синдикалисты предвидели, что экономический подъем 20-х годов носит лишь временный характер, в то время как, по существу, речь идет о глубинно.м долгосрочном кризисе со своими циклами. «...Главная причина лихорадочного ускорения производственного процесса лежит в индустриальной рационализации, которой рабочий ЮиСС не сумел противопоставить необходимое сокращение рабочего времени», — отмечал итальянский синдикалист Джованнетги. Такое положение вело к росту безработицы и, как следствие, к тому, что рост покупательной способности масс отстает от увеличения производства. «...Производство существенно превосходит потребление», а «крупные массы пролетариата искусственно исключаются из потребления» [239]. СиндикИисты предсказывали, что эта ситуация неминуемо приведет к взрыву.
Большое внимание анархо-синдикал исты уделяли антимилитаристской агитации. В соответствии с резолюцией II конгресса, Секретариат МАТ призывал к ежегодному проведению собраний против милитаризма и войны в первое воскресенье августа. Они организовывались во всех странах, где имелись секции МАТ.
Так, Секретариат МАТ предложил провести 2 августа 1925 г. международный антимилитаристский день с антивоенными митингами и демонстрациями по всему миру. В поддержку этого предложения высказались конгрессы немецкого ФАУД и швсдской САК [240]. В воззвании МАТ и Международного антимилитаристского бюро к очередной годовщине начала войны 1 августа 1925 г. анархо-синдикалисты напомнили о своем принципиальном отношении к вооруженным конфликтам между капиталистическими государствами. Причины войн, указывали они, следует искать в самих капиталистических отношениях, и в рамках существующего строя они неустранимы. Все государства усиленно готовятся к новой бойне под флагом «защиты отечества», предупреждала МАТ. Интернационал повторил, что рабочие каждой страны должны вести борьбу нс с другим народом, а с «собственным» государством и правительством, и ответить на любую мобилизацико всеобщей стачкой и революцией против войны [241].
В рамках начавшейся 2 августа 1925 г. «международной антимилитаристской недели» прошли выступления во многих странах мира. ФАУД и молодые синдикалисты провели многотысячный рабочий митинг и демонстрацию в Берлине. Митинги состоялись также в других немецких городах — Гамбурге, Дрездене, Дюссельдорфе, где мероприятия Синдикалистской молодежи вылились в уличные акции, и иных центрах Рейнской области и Вестфалии. Принятые резолюции призывали рабочих нс допустить новой войны с помощью всеобщей стачки, отказа от участия в производстве оружия и от воинской службы. В Швеции САК обратилась к другим рабочим организациям с предложением провести совместные антивоенные выступления, но социал-демократы и коммунисты не ответили. В акциях приняли участие члсны САК, анархисты и коммунисты, оппозиционные Москве. В ходе антимилитаристской недели прошли собрания во всех крупных городах страны. В Португалии ВКТ организовала митинги в Лиссабоне, Порту, КастеллуБранку, Эворе, Поку-ди-Биспу, Фару, Баррсйру и др. В Голландии состоялись манифестации Нидерландского синдикалистского профобъсдинсния и антимилитаристских организаций [242]. Акции против милитаризма и угрозы войны проводились синдикалистами каждый август. Так, в Швеции в 1926 г. в рамках этой кампании было организовано 40 собраний, в 1927 г. уже 200 собрании [243].
В связи с активизацией колониальной войны Испании и Франции против восставших рифских племен в Марокко, Интернационал обратился в 1925 г. к рабочему классу Испании и Франции с воззванием «Преступление в Марокко», в котором разъяснялось: в основе конфликта лежат интересы капиталистов, стремящихся к изњлечению новых прибылей. Анархо-синдикалисты призывали трудящихся положить конец войне [244]. В период подъема революции в Китае в 1925 г. Секретариат МАТ призвал рабочих помешать правительствам своих стран подавить движение [245].
Анархо-синдикалисты осуждали колониализм, угнетение народов колоний и национальных меньшинств. Но их отношение к «национальному освобождению» было критическим. Они утверждали, что «национальное освобождение и смена господина имеют мало значения для социальной и экономической освободительной борьбы рабочего масса. Только тот, кто стремится к политической власти, может придаваться национальному идиотизму. Для рабочих имеет смысл стремиться лишь к экономическому и социальному освобождению. Если им удастся осушествить социальное освобождение, они смогут и освободиться от национального угнетения», — писал шведский синдикалист А.В. Иоханссон [246].
В качестве союзника в борьбе с милитаризмом МАТ рассматривала Международное антимилитаристское бюро (МАБ), делегация которого приняла участие в пленарной конференции МАТ в Париже 8—12 мая 1926 г. Конференция утвердила решение о сотрудничестве обеих организаций. Они образовывали паритетную Международную антимилитаристскую комиссию (МАК) из шести членов. Она была ответственна как перед МАТ, так и перед МАБ и должна была ежегодно отчитываться перед ними. МАК основывалась «на принципах МАБ и МАТ» и должна была информировать революционную прессу о ходе войн и подготовке к ним (особенно о производстве вооружений), вскрывать причины настоящих и будущих военных конфликтов, выступать и бороться за разоружение, демонстрировать ошибочность пацифизма и «псевдо-антимилитаризма», показывать действительные пути осуществления «практического антимилитаризма», издавать воззвания и брошюры. Предполагалось, что комиссия разработает полугодовую смету расходов и представит ее на утверждение обеим интернациональным организациям, причем расходы будут распределены между ними поровну. Конференция призвала присоединиться к МАК все секции МАТ, антимилитаристские и анархистские группы, стоящие «на почве МАБ» [247]. Секретарем МАК стал Альберт де Йонг.
В выпущенном в июле 1926 г. заявлении Секретариата МАТ по случаю 12-й годовщины Первой мировой войны вновь указывалось на продолжающиеся постоянные войны — национальные и ражданские — и на экономический кризис. Анархо-синдикалисты обвинили реформистов в «приукрашивании» ситуации и констатировали, что СССР также не является антимилитаристской и свободной альтернативой, поскольку он проводит «внутри страны — угнетение революционных стремлений, вовне — империалистическую политику экспансии». По оценке МАТ, война приближалась, и единственное средство противостоять «угрозе войны и реакции» состояло во всеобщей революционной стачке248 . Аналогичный по духу призыв «против угрозы войны и реакции» был выпущен МАТ к годовщине войны в 1927 г. [249].
Оценивая итоги антимилитаристской деятельности анархо-синдикалистов перед III конгрессом МАТ, секретарь Интернационала Сухи отмечал: «Работа, которая была проделана до сих пор, была уже кое-чем, но еще далеко не достаточна перед лицом грозящей опасности войны и роста вооружений во всех странах». Синдикалисты заявляли, что ни коммунисты, ни социал-демократы не ведут искренней борьбы против милитаризма, поскольку они «связаны с государственной политикой их соответствующей страны и делают основной упор в своей пропаганде на законодательные меры в национальном и интернациональном масштабе». Между тем, по представлению МАТ, покончить с войной могли не те или иные государства или их союзы, Лига Наций и т.д., а «широкие рабочие массы» и «прямое антимилитаристское действие», причем строящееся конкретно, в зависимости от условий той или иной страны. Анархо-синдикалисты отвергали постоянные армии, как основанные на всеобщей воинской повинности, так и на наемной основе, и призывали к борьбе с ними, к подготовке к всеобщей стачке и к тому, чтобы уже сейчас прекратить производство военных материалов [250].
Одним из направлений работы Интернационала оставалось создание секций в тех странах, где их еще не было. В первую очередь речь шла о Франции. По окончании II конгресса МАТ был организован крупный пропагандистский митинг в Париже м Вопрос об анархо-синдикалистской работе во Франции, в том числе среди рабочих-иммигрантов из различных стран, обсуждался на международной конференции МАТ, проведенной 8—12 мая 1926 г. в Париже Административным бюро Интернационала с участием всех европейских секций и делегации Международного антимилитаристского бюро. Пленум постановил создать в столице Франции Комитет действий, в который должно было войти по одному представителю от испанской НКТ, итальянского УСИ, португальской ВКТ, Комитета польских анархо-синдикалистов во Франции и, как предполагалось, Союза автономных профсоюзов Франции [151]. Секретарь комитета избирался пленумом Административного бюро и должен был отчитываться перед Секретариатом МАТ. Комитет действий имел задачу «развернуть пропаганду за МАТ среди рабочих тех стран, в которых внутренняя ситуация принуждает большие массы активных членов профсоюзов к эмиграции и где в настоящее время невозможно вести малейшую революционную деятельность». Комитет был призван предоставлять средства УСИ для издания его органа и по возможности для организации итальянских рабочих во Франции («в согласии с революционными профсоюзами Франции»); способствовать налаживанико взаимодействия между испанскими эмигрантами во Франции и НКТ с помощью издания органа для пропаганды идей, принципов и тактики МАТ; издавать ежемесячный орган МАТ для пропаганды революционного синдикализма во Франции, найти основу для сотрудничества с Союзом автономных профсоюзов Франции и «по возможности оказать ему помощь в восстановлении революционного синдикализма во Франции; поддерживать Польский анархо-синдикалистский комитет в деле развития пропаганды МАТ среди польских рабочих во Франции и в самой Польше; выпускать ежемесячный бюллетень МАТ на русском языке. Интернационал выделял в распоряжение комитета треть своих ежегодных доходов. Пленум постановил также произвести международный сбор средств на усиление пропаганды «революционно-синдикалистских, антигосударственных и федералистских идей» в странах, где царили фашизм или террор [252].
Секретарем Комитета действий в Париже стал Шапиро, который исполнял эту функцию в течение 9 месяцев. Несмотря на трудности, связанные с ограничениями на деятельность эмигрантов во Франции, комитету удалось способствовать организации французской секции и анархо-синдикалистской работе среди иностранных трудящихся (оказывалась помощь в выпуске листовок, газет УСИ и НКТ и т.д.). С августа 1926 г. было начато издание органа МАТ на французском языке — журнала «Ла Вуа дю травай» [253]. В конце года МАТ уже смогла приветствовать решение о создании РСВКТ и ее решение вступить в Интернационал [254]. На учредительном конгрессе французской секции присутствовали делегаты от МАТ и ряда ее организаций: Лансинк (Голландия), Миранда (Португалия), Северин (Швеция) и Бут (Германия) [255]. МАТ дважды предоставляла РСВКТ помощь в размере 20 тыс. франков, однако французская организация переживала трудности [256].
В конце 1927 г. в отношениях между МАТ и ее новой французской секцией возникли серьезные проблемы. В связи с 10 летием Русской революции члены бюро МАТ Шапиро и Бенар вместе с делегатами РСВ КТ решили организовать массовое собрание в Париже, на котором должны были быть выражены протесты против действий правительства СССР и выдвинуты требования об освобождении политзаключенных. Организаторы обратились к МАТ с просьбой предоставить средства на проведение мероприятия. Однако Бенар неожиданно выступил против выделения денег Секретариатом МАТ. Он заявил, что РСВКТ нуждается в срочной помощи Интернационала и просила о ее предоставлении, но эти деньги так и не были получены, что, по его словам, поставило французскую секцию в крайне трудное положение. В знак протеста Бснар подал в отставку с поста члена Административного бюро МАТ. Секретариат отверг заявление Бенара и принял его отставку к сведению.
РСВКТ вначале поддержала Бенара, но затем этот личный момент отошел на второй план перед лицом трудностей французской организации. Административная комиссия РСВКТ попросила МАТ о ежемесячной помощи в 5 тыс. франков. 19 января 1928 г. Секретариат обсудил этот вопрос и постановил направить одного из своих членов в Лион для выяснения ситуации на месте. 5 февраля состоялось заседание Административной комиссии РСВКТ с участием секретаря МАТ. Люсьен Юар объяснил, что французская секция будет в течение некоторого времени нуждаться для своей стабилизации в помощи извне. Секретариат МАТ единогласно постановил выделять РСВКТ ежемесячно до конгресса по 500 марок; большинство членов бюро МАТ согласилось с таким решением [257]. Всего в период до конгресса МАТ предоставила французской секции 1500 марок. На конгрессе Юар поблагодарил Интернационал за помощь, без которой, по его признанию, РСВКТ нс выжила бы, и охарактеризовал разногласия конца 1927 — начала 1928 г. как «недоразумение» [258].
В Восточной и Центральной Европе, как сообщил секретарь МАТ Сухи на llI конгрессе МАТ в 1928 г., Секретариату удалось завязать контакты в Болгарии, Чехословакии и Югославии [259].
Сразу после ll конгресса МАТ аргентинский делегат Хулио Диас по поручению МАТ и ФОРА провел многомесячное успешное турнс по Мексике, Центриьной и Южной Америке, способствовав развитию связей Интернационала с новыми группами и организациями в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Панаме и т.д. [260]. Чтобы укрепить отношения с секциями в Латинской Америке, пленарная конференция МАТ в мае 1926 г. постановила направить делегации на предстоявший конгресс мексиканской ВКТ и запланированную Панамериканскую конференцию революционных синдикиистов в Буэнос-Айресе [261]. Делегатом был назначен Абад де Сантильян. Пленум поручил ему приветствовать образование Панамериканской федерации «антигосударственных и федералистских рабочих организаций», стоящих на почве классовой борьбы, отстаивать федералистские отношения между членами этой федерации, а также МСЖДУ нею и МАТ (при сохранении членства в МАТ нынешних ес американских секций), обратить внимание конгресса на опасность реформистского и большевистского течений, а также на необходимость для тех, кто присоединится к анархо-синдикалистскому Интернационалу, соблюдать обязательства перед международной организацией.
Панамериканский конгресс 1926 г. не состоялся. Приехавшие делегаты были арестованы панамской полицией по требованию американских властей и высланы из страны [262]. двое членов Секретариата МАТ посетили Бельгию и помогли организовать собрание, которое приняло решение о присоединении бельгийских федералистских профсоюзов к Интернационалу. Рудольф Роккер совершил поездку по Северной Америке и попытался укрепить связи с революционными организациями региона, прежде всего с ИРМ и с «Единым большим союзом» Канады. Однако договориться об их вступлении в МАТ так и не удалось [263]. «Несомненно, в интересах нашего движения было бы поддерживать отношения с ИРМ, — подытоживал свои впечатления Роккер, выступая на III конгрессе Интернационала. — Не следует забывать, что МАТ является организацией, которая должна охватывать в экономической области все тенденции от чистого синдикализма до чистого анархизма». Однако он замечал, что ИРМ считают себя международным движением и пытались создать отделения в Европе и в Мексике, что привело к трениям с ВКТ. Поэтому «было бы сложно достичь согласия с ними, и превращение нынешней платонической дружбы в действенное сотрудничество следовало бы предоставить времени» [264].
В этот период МАТ стала предпринимать первые попытки оргаНИиЦИИ международных антифашистских акций. В январе 1926 г. «по поручению нескольких секций» (УСИ, САК и др.) Секретариат разослал обращение к МФП и Профинтерну с предложением о мерах по совместной борьбе с фашизмом. Выдвигалась, в частности, идея международного бойкота фашистской Италии и ее товаров. МФП отвергла это предложение, а Профинтерн вообще нс ответил на него [265].
Летом 1926 г. в воззвании «К революционным рабочим всех стран» Административное бюро МАТ призвало «к борьбе против международного фашизма», указав на то, что «упадок буржуазной демократии», доказавший «ее полную неспособность экономически и политически реорганизовать общественную жизнь на стабильной основе», привел к оживлению «духа разрушения» и диктатуры. Вначале этот дух проявился в России, где частный капитализм был заменен на государственный. Но он также породил у правящих классов реакцию «против их собственной ”демократической” системы организации эксплуатации и политического угнетения» и выдвинул «против большевистской диктатуры» фашистскую. Эта последняя, по мнению анархо-синдикалистов, имела вначале политическую основу, «но вскоре превратилась во всемогущий режим, который контролировал малейшее действие самого незначительного из сограждан и беспощадно разрушал все, что вставало на его пути». В итоге «Европа разорвана на две части, каждая из которых опасна для рабочего масса». К диктатуре «государственного коммунизма» в России и фашизма в Италии добавились диктатуры в Испании, Польше, Болгарии, Венгрии и Греции. «Реакция стучится в двери всех стран, ни одна не является исключением». МАТ выражала сожаление, что революционные рабочие фашистских стран «не в состоянии объединить свои силы» и вынуждены эмигрироваты Она призывала рабочих оказать сопротивление «фашистским и коммунистическим волнам» и помочь организациям, пострадавшим от ударов реакции. Синдикалисты и анархисты призваны помочь себе, собрать необходимые средства и т.д. Это должно позволить «восстановить революционно-синдикалистские и антигосударственные силы» [266].
Что касается создания Международного фонда борьбы против террора и реакции и организации интернациональной солидарности, то решение II конгресса об учреждении во всех странах комиссий международных действий реализовать не удалось. Такие органы так и не были образованы. Лишь в Германии 15-й конгресс ФАУД назначил секретариат для создания комиссии местными союзами, но дальше этого дело не пошло. «Резолюция МАТ осталась на бумаге», — признавал Секретариата МАТ в отчете III конгрессу, рекомендуя отменить ее. Функции организации солидарной помощи выполнялись самими секциями Интернационала [267].
16-й конгресс ФАУД в мае 1927 г. принял решение о введении особого членского взноса солидарности в размере 50 пфеннигов в квартал. Голландское НСП учредило «Фонд международной солидарности Гронинген» и призвало все свои местные организации ввести его отделения и специальный взнос. В последующие годы по стране возникали его отделения [268]. Федерация солидарности работала в Португалии. Аналогичные организации солидарности имелись в Испании, Голландии, Германии, Швеции (взнос солидарности был включен в размер обычных членских взносов), Аргентине, Мексике, у итальянских анархо-синдикалистов и у анархистов США. Во Франции имелся «Комитет взаимопомощи». Португальские анархо-синдикалисты призывали МАТ объединить организации солидарности, существовавшие в отдельных странах, в международный союз — Интернациональный фонд солидарности [269].
В рамках солидарности с жертвами реакции МАТ проводила кампании протеста против преследованиий революционеров в различНЫХ странах. Провозглашались меры бойкота против фашистской Италии, против реакции на Кубе, в Чили, Бразилии, а также связи с делом Сакко и Ванцетти — против США. «Во всех этих случаях, — признавал Секретариат Интернационала в отчете III конгрессу, — МАТ, к сожалению, все еще не могла проводить необходимые акции с желаемым результатом, поскольку в странах, где шла речь о подобных акциях, имеется лишь сравнительно слабое революционносиндикалистское движение». Приходилось обращаться с призывом к совместным действиям к реформистским организациям, но те на это не шли [270].
Организации МАТ активно участвовали в международных выступлениях в поддержку американских анархистов Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, которые 14 июля 1921 г. были приговорены судом США к смерти по сфабрикованному обвинению в ограблении и убийстве кассира обувной фабрики. В последующие годы общественность и защита добивались отмены приговора и пересмотра дела. Когда Верховный суд штата Массачусетс подтвердил смертный приговор, кампания вступила в решающую стадию. Летом 1926 г. Секретариат МАТ выпустил воззвание «На борьбу за освобождение Сакко и Ванцетти!», призвав рабочих по всему миру организовывать демонстрации и митинги протеста против их осуждения и сообщать об этом представителям США [271]. Крупные собрания состоялись во Франции. В Аргентине акции протеста были организованы всеми рабочими союзами, включая ФОРА; перед зданием Посольства США в Буэнос-Айресе взорвалась бомба. Мероприятия были проведены также в Голландии, Швеции, Германии, Швейцарии, Португалии и других странах. Даже в фашистской Италии состоялась встреча рабочих организаций в Милане; на ней было принято письмо протеста, которое подписали соцпартия, компартия, анархистские группы и УСИ [272]. 5-й конгресс мексиканской ВКТ в июле 1926 г. принял решение развернуть агитацию за освобождение Сакко и Ванцетти в Мексике. 5 июля ВКТ провела 5-тысячную демонстрацию, 10 августа — весьма агрессивную по тону и духу манифестацию в Федеральном округе, организованную профсоюзом обувщиков, а 25 августа — серию собраний и митингов в столице, Федеральном округе, прежде всего в местностях, где существовали организации ВКТ (Сан-Анхель, Ла-Кольмена), в Толуке и Сан-Мартине (штат Пуэбла). В ходе протестов в Мексике произошли серьезные волнения. Так, в Тампико демонстранты забросали камнями консулаты США и Италии, а также редакцию реакционной газеты «Эль Мундо» и выбили стекла; шесть человек были арестованы [273].
По призыву МАТ анархо-синдикалисты всех стран организовали в конце 1926 г. демонстрации в поддержку Сакко и Ванцетти. Большая часть синдикалистских организаций самостоятельно проводила собрания, публиковала статьи, собирала манифестации у посольства США и т.д. Секретариат МАТ направил телеграмму губернатору штата Массачусетс с требованием освободить осужденНЫХ [274]. Когда весной 1927 г. удалось добиться назначения комиссии по пересмотру дела, Интернационал призывал продолжать выступления в поддержку Сакко и Ванцетти. Портовые рабочие БуэносАйреса провели 48-часовую стачку солидарности. В Швеции синдикалисты, анархисты и коммунисты решили совместно послать адвоката на пересмотр дела. Японские анархисты явились в американское посольство, чтобы заявить протест; два человека были арестованы [275]. Мексиканская ВКТ начала 10 мая 1927 г. кампанию за освобождение Сакко и Ванцетти; были организованы акции протеста в Монтеррее, Веракрусе и Федеральном округе [276]. В Эквадоре синдикалистский Рабочий комитет за единый фронт провел демонстрацию солидарности с осужденными, два члена организации были арестованы [277]. В ходе выступлений солидарности в Бразилии власти произвели аресты анархистов, но затем отпустили их [278].
Однако свидетельства в пользу невиновности обоих анархистов не были приняты во внимание, и судебная комиссия подтвердила смертный приговор. Информировав об этом трудящихся мира, Секретариат МАТ призвал их к действию, а также вновь направил телеграмму губернатору штата Массачусетс [279]. После того как губернатор утвердил намеченную казнь, по всему миру прокатились новые протесты. МАТ, Международное антимилитаристское бюро и шведский комитет за Сакко и Ванцетти направили телеграмму протеста президенту США Кулиджу, Секретариат МАТ отправил также послание конгрессу Международной федерации профсоюзов в Париже с призывом выступить в поддержку Сакко и Ванцетти. Он распространил также воззвание «К организованным рабочим всего мира! Борьба против судебного убийства в Бостоне». Аргентинская ФОРА вместе с другими рабочими организациями страны объявила всеобщую стачку протеста. Парижский комитет поддержки провел внушительную демонстрацию [280]. В Шанхае китайские и корейские либертарные организации совершили акции протеста и призвали к бойкоту американских учреждений [282]. В Швеции было проведено в общей сложности около тысячи публичных собраний, в одном только Стокгольме в ходе двух манифестаций на улицы вышло 55 тысяч человек. Многие из этих акций были организованы синдикалистами. 22 августа 1927 г. рабочие Швеции объявили 24-часовую всеобщую стачку протеста; несмотря на официальный отказ реформистских профсоюзов, ряд их низовых организаций также принял участие в забастовке282 . Мексиканская ВКТ провела манифестации 5, 10 и 20 августа 1927 г.; интенсивная кампания велась в городе Тампико, где к ней присоедини«пот лись также коммунисты из реформистских организаций [283].
Несмотря на все протесты, 23 августа 1927 г. казнь совершилась. Этот акт вызвал протесты во многих странах. В Париже состоялась многосоттысячная демонстрация, в первых рядах шли анархисты и синдикалисты; в течение нескольких дней продолжались стихийные манифестации и столкновения с полицией.
Сразу после казни МАТ призвала к всемирному бойкоту всех изделий из США. Однако эту меру лишь мало где удалось провести в жизнь. Наиболее успешные мероприятия этого рода имели место в Аргентине, Швеции и Норвегии [284]. В Швеции был объявлен бойкот американских кинофильмов [285]. Первоначально он имел успех, но затем был сорван реформистскими профсоюзами. В других странах организовать бойкот фильмов не удалось. В Аргентине в ФОРА существовали расхождения по вопросу о возможности бойкота изделий из США, поскольку в страну ввозились не столько североамериканские товары, сколько капиталы [286].
Осенью 1926 г. Секретариат МАТ выступил с обращением «Против новых арестов в Италии», осудив арест виднейшего итальянского анархиста Эррико Малатесты. Он послал ему в тюрьму телеграмму поддержки и призвал трудящихся мира протестовать, направлять Малатесте послания солидарности, проводить акции перед представительствами Италии и организовать бойкот фашистского режима [287]. Демонстрации против итальянского фашизма прошли во многих странах. даже в далекой Японии 10 декабря 1926 г. члены революционных профсоюзов и анархисты из «Лиги черной молодежи» провели демонстрацию протеста около итальянского посольства и направили телеграмму поддержки Малатесте. В феврале 1927 г. конгресс Токийского профсоюза печатников провозгласил бойкот итальянских товаров [288]. В бюллетене МАТ регулярно сообщалось о новых случаях арестов и преследований анархистов и синдикалистов в Италии [289]. В то же время Интернационал пытался защитить революционных эмигрантов и беженцев из Италии. Так, в сентябре 1927 г., когда видному итальянскому анархо-синдикалисту Борги грозила высылка из США в фашистскую Италию, Секретариат МАТ предпринимал меры, чтобы добиться для него свободного выезда из страны [29О].
В начале 1927 г. Секретариат МАТ поддержал призыв эмигрантского комитета УСИ во Франции «К организованным рабочим всех стран мира» о сборе средств в помощь итальянским синдикалистам. Новое обращение такого рода было сделано эмигрантским комитетом УСИ и МАТ в конце 1927 г. [291]. Деньги для преследуемых итальянских товарищей собирали анархисты Аргентины [292].
После того как в июне 1926 г. французская полиция арестовала испанских анархистов Ф. Аскасо, Б. Дуррути и Г. Ховера (приговоренных в октябре того же года соответственно к 6, З и 2 месяцам заключения), а власти Аргентины и Испании потребовали их выдачи по обвинению в причастности к покушениям и ограблениям банков, поднялось мощное движение против их высылки и за освобождение арестованных. Была развернута агитация в анархистской прессе Франции. Международный анархистский комитет защиты, созданный в Париже шля организации защиты Сакко и Ванцепи, создал специальный комитет «Убежище для Дуррути, Аскасо и Ховера». Комитет начал активную работу с проведения митинга 25 октября 1926 г. Следующие митинги прошли 15 и 30 ноября, 14 декабря 1926 г., 7 января, февраля 1927 г. и т.д. Адвокат Л. Лекуан обеспечивал юридическую сторону дела и контакты с депутатами. Митинги состоялись также в Аргентине. 8 июля 1927 г. трое анархистов были освобождены [293].
Когда в 1926 г. во Франции был организован суд над анархистом С. Шварцбартом, убившим лидера украинских националистов С. Петлюру в качестве мести за расправу над его семьей в период Гражданской войны, анархисты из различных стран, жившие во Франции, также оказывали поддержку обвиняемому. В итоге он был оправдан [294].
Весной 1925 г. МАТ выпустила воззвание против террора болгарских властей, призвав к проведению по всему миру акций протеста и демонстраций, а также к оказанию моральной и денежной помощи болгарским товарищам. Средства были выделены прежде всего шведскими и немецкими синдикалистами [295]. Так, синдикалисты Швеции в январе 1926 г. предоставили 1 тыс. крон на поддержку болгарским беженцам 296 В начале 1927 г. пресс-бюллетень МАТ опубликовал обращения Комитета помощи преследуемым анархистам и революционерам в Болгарии [297].
Осенью 1927 г. в связи с официальным запретом португальской ВКТ Секретариат МАТ направил ей послание солидарности [298]. Международная организация анархо-синдикалистов оказывала поддержку борьбе аргентинской ФОРА за освобождение Радовицкого. Интернационал присоединился к призыву аргентинской организации к проведению во всех странах собраний, митингов и демонстраций перед посольствами Аргентины [299]. МАТ поддержала и распространила обращение комитета политзаключенных Риоде-Жанейро к революционным синдикалистам, призвав в знак протеста против репрессий бойкотировать бразильские товары и не эмигрировать в Бразилию [300]..
Анархо-синдикалисты продолжали внимательно следить за ситуацией в России. Пресс-бюллетень регулярно публиковал информацию о политическом и социально-экономическом положении в СССР, сообщения Объединенного комитета в защиту арестованных революционеров в России об арестах, репрессиях и подпольной деятельности либертариев и т.д. [301]. Осенью 1926 г. МАТ решила создать Фонд помощи анархо-синдикалистам и анархистам в российских тюрьмах и ссылках, секретарями которого стали видный русскоамериканский анархист Александр Беркман и российский анархистский эмигрант Марк Мрачный. Интернационал призвал всех присылать средства в этот фонд [302]. Такой фонд был образован по инициативе российских анархистов Секретариатом МАТ в ноябре 1926 г., причем ему были переданы средства, оставшиеся ог анархистского фонда помощи (82,5 доллара США). В декабре был начат выпуск бюллетеня. Фонд состоял из секций в Париже во главе с секретарем и кассиром Беркманом (в ее работе приняли участие и другие анархистские эмигранты Сеня Флешин, Молли Штеймер, В. Волин и Яня) и в Берлине во главе с Мрачным (после его отъезда из Германии работу взяла на себя жена Рудольфа Роккера — М. ВиткопРоккер). После создания нового органа анархисты покинули Общий комитет с левыми эсерами и максималистами, и тот вскоре распался [303]. В начале 1927 г. Беркман и Секретариат МАТ распространили «Призыв к помощи преследуемым товарищам в России» [З04]. Резкое осуждение большевизма содержалось и в воззвании МАТ «к мировому пролетариату» по случаю 10летней годовщины революции в России [305]. Был опубликован список из 94 имен анархистов и анархо-синдикалистов, заключенных в советских тюрьмах [306]. Делегация Секретариата МАТ посетила советское посольство в Германии и вручила письмо в адрес Совнаркома СССР с требованием освободить [307]. Многие местные организации ФАУД взяли «шефство» над отдельными политзаключенными в СССР и помогали им регулярными ежемесячными посылками [308]. В 1928 г., подводя итоги первых полутора лет работы фонда, его секретарь Беркман сообщил, что были изданы 5 бюллетеней тиражом в 6 тысяч экземпляров каждый на английском языке, которые рассылались практически всем анархосиндикалистским и анархистским газетам мира. 1 мая 1927 г. и по случаю 10-й годовщины Октябрьской революции в Германии, во Франции и крупных городах США прошли массовые собрания, митинги протеста и другис акции в поддержку либертариев, заключенных в Советской России. Помощь оказывали также анархистские группы и объединения Нью-Иорка, Чикаго, Кливленда, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Детройта, английские и еврейские анархистские группы Лондона, анархисты Торонто и Монреаля и т.д. Так, анархисты Кливленда выпустили серию открыток, посвященных Сакко и Ванцетти, в которых обращали внимание на судьбы «русских Сакко и Ванцетти» и призывали пролетариат мира к действиям за их освобождение. Фонд поддерживал прямую связь с более чем 60 заключенными и ссыльными; в Россию было отправлено в качестве помощи арестованным и сосланным анархистам 60лее 5 тыс. долларов. Все сотрудники фонда работали безвозмездно [309].
Хотя кампании солидарности с репрессированными были направлены прежде всего на поддержку арестованных и преследуемых либертариев, Секретариат МАТ иногда высказывался за оказание помощи представителям других направлений рабочего движения, даже враждебных анархо-синдикализму. Так, осенью 1925 г. Секретариат распространил обращение «К рабочим всех стран! К революционно-синдикалистским организациям мира!», осудив готовившийся суд в Венгрии над лидером коммунистов [312]. Ракоши. Признав, что он является врагом и сам ответственен за репрессии против либертариев, Секретариат тем не менее призвал к проведению демонстраций против судам [311].
Наконец, МАТ приходилось заниматься и вопросами о взаимоотношениях между своими членами.
II конгресс МАТ не разрешил конфликт между ФОРА и европейскими анархо-синдикалистами. Критика в адрес НКТ продолжалась [313].
Пленарная конференция МАТ в Париже в мае 1926 г. обсудила ситуацию в Испании и приняла резолюцию о тактике испанских товарищей. Представители других секций были недовольны продоткавшимся сотрудничеством НКТ с каталонскими сепаратистами и испанскими республиканцами в борьбе с диктатурой Примо дс Риверы. Делегаты пленума заслушали отчет делегата Н КТ Арменгода и доклад итальянского анархо-синдикалиста Борги, которого МАТ направила ранее в Испанию, чтобы изучить ситуацию и принять участие в конференции НКТ. В духе резолюций П конгресса Интернационала об отношении МАТ к различным политическим партиям и о борьбе против реакции пленум ужесточил прежнюю позицию по этому вопросу. В решении, в частности, говорилось: «Пленум вместе с Н КТ видит опасность возможного уклона революционного движения и предостерегает НКТ от любой постоянной связи с буржуазно-демократическими, военными или коммунистическими партиями, поскольку подобная связь может оказаться пагубной как для существования самой Н КТ, так и для успеха полного освобождения пролетариата». Ссылаясь на опыт «трагических событий» в России, Германии, Италии и Венгрии, участники пленума заявили, что «только укрепление НКТ, повышение ее доверия к самой себе и к своим организационным способностям может принести рабочему массу решающую победу над реакцией, выступает ли она в фашистском, милитаристском, демократическом или марксистском облике». В то же время МАТ заверила НКТ в своей поддержке и помощи. Испанский делегат на пленуме заявил о согласии с мнением МАТ [314]
После Парижского пленума конфликт между южноамериканцами и иберийцами несколько разрядился, публичная взаимная полемика прекратилась. «Сегодня мы находимся в самом лучшем согласии с товарищами из ФОРА, — с удовлетворением констатировал Секретариат МАТ в отчете III конгрессу в 1928 г. — Насколько мы знаем, и противоречий между ФОРА, с одной стороны, и НКТ и ВКТ Португалии, с другой, более не существует» [315]
В начале 1928 г. возник конфликт между МАТ и голландской секцией НСП. Нидерландские синдикалисты выступили за объединение с НСТ, который, в свою очередь, порвал с Москвой и поддержал антисталинскую коммунистическую оппозицию. Одним из условий слияния был нейтралитет объединенного профцентра в международных вопросах, что подразумевало и выход голландцев из МАТ. Один из секретарей МАТ, член НСП Лансинк, также высказался в поддержку этого плана воссоединения, что вызвало острыс разногласия и в самом Секретариате МАТ. Вопрос обсуждал ся на заседании Секретариата в Берлине 19 января 1928 г. с участисм члена бюро Интернационала Катера. Лансинк объяснил ситуацию в Голландии. Никакого решения принято не было, поскольку ССКЦИИ МАТ были автономны в определении своей судьбы. Интернационал направил делегата на конгресс НСП в Утрехте в феврале 1928 г. Он вел себя нейтрально, однако призвал делегатов сохранить верность МАТ [316].
В то же самое время Секретариат МАТ пытался добиться объединения НСП с другой голландской анархо-синдикалистской организацией — Федерацией работников коммунального сектора. По его инициативе в феврале 1927 г. в Амстердаме было организовано заседание президиумов обоих союзов с участием секретаря МАТ. Однако четкого решения достигнуто не было, так как федерация настаивала на том, чтобы НСП запретило своим членам занимать посты в политических партиях и в представительных органах. Участники одобрили призыв к членам федерации вступить в НСП и МАТ. В ходе референдума в федерации большинство высказалось за вступление в МАТ, но лишь меньшинство — за вступление в НСП. Но такой вариант был невозможен, поскольку в каждой стране могла быть лишь одна секция Интернационала. В условиях, когда НСП обсуждало возможность объединения с НСТ и выхода из МАТ, коммунальщики вместе с рядом независимых профсоюзов и местных организаций, вышедших из НСП, образовали Синдикалистскую федерацию фабричных организаций, которая подала просьбу о вступлении в МАТ.
После того как референдум среди членов НСП нс одобрил объединение с НСТ, Секретариат МАТ призвал федерации коммунальщиков, моряков и НСП объединиться на платформе анархо-синдикалистского Интернационала. Совместное заседание было созвано в Амстердаме 20 мая 1928 г. [317].
В немецком анархо-синдикалистском движении в 1928 г. произошел раскол в Федерации строителей ФАУД. Сскрстарь МАТ Лансинк провел в январе 1928 г. в Берлине встречи с представителями обеих федераций, однако так и не добился сближения позиции [318].
Секретариат МАТ пытался сгладить острый кризис в японском либертарном движении, приведший к расколу между сторонниками анархо-коммунизма и синдикализма. Секретарь МАТ Сухи направил 4 октября 1927 г. письмо «Дзэнкоку дзирэн», пожелав успеха его съезду:
«Товарищи, нам стало известно, что в настоящее время в японском либертарном движении идет теоретический диспут, в котором друг другу противостоят чистые анархисты и чистые синдикалисты. Если мы можем выразить наше мнение, то мы не думаем, что сейчас подходящий момент для того, чтобы вести споры по этому вопросу. Он носит чисто теоретический характер. В связи с этим мы хотели бы обратить ваше внимание на Аргентину и страны Южной Америки в целом. В этих странах рабочее движение действует в духе Михаила Бакунина и в то же самое время под духовным руководством нашего неукротимого пионера Эррико Малатесты. В этих странах все анархисты героически участвуют в синдикалистском движении, и в то же самое время все синдикалисты ведут борьбу за ликвидацию репрессивной машины государства и сопротивляются капиталистической эксплуатации. В Испании анархисты и синдикалисты также сходятся относительно экономических вопросов и духовной стороны вещей таким образом, что теоретических споров не возникает» [319],
Письмо Сухи в действительности нс смягчило накал страстей в Японии. В следующем мемце «Кокурэн» потребовала своего приема в МАТ в письме, в котором заявляла, что с 1927 г. ведет борьбу против «предателей, оппортунистов и империалистических синдикалистов», которые проникли в либертарное рабочее объединение «Дзэн коку дзирэн» [320].
Вопрос о взаимоотношениях синдикалистского движения и анархистов продолжал беспокоить либертариев. ФОРА пропагандировала свою идею «анархистского рабочего движения», то есть единой организации, которая совмещала бы в себе анархистскую идеологию и синдикальную форму организации. Эта концепция начала распространяться и в Европе. Так, в Испании появилось течение вокруг издания «Эль Продуктор», разделявшее КОНЦеПЦИЮ «анархистского рабочего движения» ФОРА [321].
Споры на эту тему приобрели международный характер. Итальянский анархист Малатеста в письме, направленном в «Эль Продуктор» и опубликованном этой газетой в январе 1926 г., утверждал, что «рабочее движение с анархистскими целями — не то же самое, что анархистское рабочее движение». Малатсста отстаивал участие анархистов в более широком рабочем движении: ведь анархисты идут в него, чтобы использовать возможности «пропаганды и подготовки будущего общества», а именно этого нельзя будет добиться, работая только с единомышленниками. Задача анархистов, по мнению Малатесты, состояла в том, чтобы способствовать усилению рабочего движения, укреплению его единства и революционности, предотвращать его попадание под контроль и мияние политиков, пропагандировать и применять прямое действие, помогать участникам движения развивать навыки самоорганизации. Это позволит либертариям сохранить контакт с трудящимися, остаться активной и живой силой, а не просто идеологическим движением. Напротив, утверждал Малатеста, анархистское рабочее движение только раскололо бы и ослабило синдикализм, отдало бы неанархистское большинство рабочего класса в руки коммунистов и социалистов. Оно ослабило бы и анархистов, оторвав их от революЦИОННОЙ силы — рабочего класса. Для того же, чтобы защищать свои идеалы и идейную чистоту, в том числе при работе в профсоюзном движении, анархистам нужна, с точки зрения Малатесты, своя независимая организация вне профсоюзов, которая могла бы вести дискуссии по своим идеям. Такой организацией итальянский либертарий считал, например, основанный в 1920 г. Итальянский анархистский союз [322].
На доводы Малатесты и его сторонников, которые, в известной мере, продолжали аргументы критиков синдикализма на Анархистском конгрессе в Амстердаме в 1907 г., дал ответ Абад де Сантильян, бывший в тот период одним из теоретиков ФОРА. Он заявил, что отстаиваемая Малатестой, Луиджи Фаббри и другими либертариями идея «политической организации» анархистов ставит анархизм «на грань самоубийства». Прежде всего Абад де Сантильян считал слишком абстрактным призыв идти туда, «где массы». Массы не только в реформистских профсоюзах с их предательскими вождями, писал он, они также в церквях, армиях, политических партиях. Должны ли анархисты идти туда, чтобы «пропагандироваты.. идеи в этой среде»? Кроме того, сам принцип разделения на идейно-политическую организацию анархистов и массовую рабочую организацию, в которой действуют организованные либертарии, сторонники ФОРА считали авторитарным и партийным. «Этот дуализм, — подчеркивал Абад де Сантильян, — обрекает анархизм на бессилие, поскольку антиавторитарные экономические организации никогда не согласятся на то, чтобы ими руководили организации, автономно работающие вне их рамок и не могущие избавиться от известных партийных интересов». Теоретик ФОРА утверждал, что именно МАТ, «которая не является синдикалистской в классическом смысле слова», может «представлять либертарные силы мира», поскольку ее двери шаг за шагом открываются «для либертарных идей и закрываются для авторитаризма». Главное в этот трудный период — выстоять, «набрать моральную силу, стать идейным знаменем для всех угнетенных и эксплуатирусмых, бастионом антиавторитарных идей, материальной силой...». Если МАТ ясно установит «принципы, которые ее вдохновляют», она переживет тяжкую эпоху наступления реакции И2 Анархо-синдикалисты были недовольны тем, что значительнос число анархистов в различных странах продолжало работать в реформистских профсоюзах. Эти люди «не могут понять и не видят, — сетовал Сухи, — что реформистские профсоюзные организации превратились в составную часть капиталистического общественного строя и, благодаря их сотрудничеству с капитализмом и государством, которое состоит в долгосрочных тарифных соглашениях, признании учреждений арбитража и посредничества, расширении социального законодательства в рамках капиталистического государства, способствуют сохранен ию существующего общественного строя; что дальнейшее пребывание рабочих в этих централистских организациях равнозначно поддержке нынешнего общественного строя». Сухи призвал к преодолению «дуалистического разделения на идейное сообщество и организацию защиты интересов» и к их слиянию, как это имело место в антиавторитарном крыле Первого Интернационала. Правда, он имел в виду не модсль ФОРА, а всего лишь то, что «либертарныс силы» должны состоять и действовать в революционно-синдикалистских профсоюзах [323]..
В то же время испанские анархисты-эмигранты в Брюсселе, ОбЫДИНИВШИССЯ вокруг газеты «Эль Ребсльде», выдвинули предложение о вступлении анархистов в МАТ [324]. Газету, представлявшую из себя испанский вариант брюссельского анархистского еженедельника «Ребелль», издавала группа членов ФАИ и НКТ, называвшаяся «Интернациональной группой СОЦИиЬНЫХ исследований». Наиболее активную роль в издании играли Жозеп Роскильяс Магринья, Вольней Сольтерра и Портос. С первого же номера в январе 1928 г. издание повело агитацию за создание «Всемирного анархистского союза», открытого для различных тенденций движения и тесно связанного с МАТ. Этот союз должен был вступить в МАТ наравне с синдикальными организациями различных стран. «Эль Ребельде» считала такой шаг естественным, с учетом того, что МАТ — «аполитическая рабочая организация» сторонников прямого действия, разделяющая анархистские цели. Газета призвала читателей откликнуться на это предложение. Ответы поступили от ведущих активистов МАТ, ФАИ, Федерации испанских групп во Франции, НКТ и Португальского анархистского союза [325].
Секретарь МАТ Сухи 15 марта пригласил «Эль Ребельде» направить своих представителей на конгресс МАТ в Льеже в мае 1928 г. для обсуждения этого вопроса. Сам он выступал за согласие между анархизмом и синдикализмом, но считал необходимым учитывать различия ситуации в отдельных странах. Так, в Испании связь между ними представлялась естественной, но далско не все секции МАТ имели тесные контакты с анархистами. Сухи полагал, что первым шагом должно стать укрепление связей на национальном, а не на интсрнациональном уровне [326]. Более критически отреагировал на планы «Эль Ребельде» Шапиро. Он писал в ответ, что в МАТ не могут состоять идейные организации, в том числе анархистские. МАТ — это профсоюзный Интернационал, заявлял он. Анархисты, по его мнению, могли образовывать свои собственные объединения и группы, но такие группировки должны были заниматься пропагандистскими вопросами и действовать вне МАТ, если не желали превратиться в «политическую партию», претендующую на власть в движении. С другой стороны, все анархисты, как трудящиеся, должны были состоять в анархо-синдикалистских профсоюзах, которым, собственно, и надлежало подготовить революцию рабочего класса [327].
В самом испанском движении в поддержку кампании, развернугой «Эль Ребельде», выступил Хибансль. Пейро нс высказался непосредственно по этому вопросу, но еще в январе 1928 г. приветствовал появление газеты. Однако многие из бывших соратников Магриньи по газете «Эль Продуктор» не поддержали его идею. Так, Х. Хльберола, Т. Кано Руис и М. Буэнакаса сходились в том, что МАТ — это рабочая, а не анархистская организация, несмотря на то что она разделяет анархистские цели. Поэтому они ратовали за независимую организацию анархистов. Иберийская анархистская федерация (ФАИ) официально не отреагировала на предложения «Эль Ребельде», но, как следует из отчета Полуостровного комитета ФАИ анархистскому конгрессу в Хёйзснс (май 1928 г.), организация испанских анархистов была во многом согласна с ними. ФАИ была против создания особого анархистского Интернационала на основе единой идсологии, которое повлекло бы за собой новые расколы. Вместо этого следовало, по се мнению, образовать Интернационал в составе международных федераций, представляющих отдельные тенденции в анархизме и, в свою очередь, тесно связанных с МАТ через посредство совместной комиссии. Такая комиссия стала бы органом всего мирового анархистского движения [328].
Были начаты шаги по объединению либертарной молодежи различных стран. Еще на Пасху 1923 г. молодые анархисты и антимилитаристы из Австрии, Голландии, Швеции, Англии, Германии, Бельгии, Дании и других североевропейских стран впервые собрались на ежегодную встречу в Голландии — «мобилизацию», ставшую с тех пор регулярной [329]. За объединение молодых анархистов и анархо-синдикалистов высказался и II конгресс МАТ (1925 г.); португальские молодыс синдикалисты планировали созыв всемирной конференции, но она так и не состоялась, в том числе из-за репрессий в Португалии. В мае 1926 г. на третьей «мобилизации» антимилитаристской молодежи в Голландии в Сусте было проведено собрание молодежи из Голландии, Франции, Бельгии, Германии, Англии и Швейцарии. На нем было принято решение о создании «Анархистско-антимилитаристского молодежного Интернационала». В июле 1926 г. функции исполкома «Антимилитаристского молодежного Интернационала» были переданы голландскому Союзу свободной молодежи. Однако основной упор в воззваниях создаваемого объединения делался на антимилитаризм, а не анархизм и синдикализм. Синдикалистские молодежные организации (особенно немецкая) были весьма недовольны этим обстоятельством [330].
В движении преобладали группы из Северной Европы, не имевшие столь тесной связи с синдикалистским движением. В 1927 г. было принято решение о проведении в следующем году конгресса по созданию Интернационала анархистской молодежи. Конгресс состоялся в Хёйзене близ Амстердама в мае 1928 г. В нем приняли участис не только молодые анархисты Северной Европы, но и испанские анархисты. Последних представляли Сольтерра (ФАИ) и активист Федерации испанских групп во Франции. ФАИ предложила участникам образовать анархистский Интернационал, который затем мог бы, в свою очередь, присоединиться к МАТ. Однако участники сочли эту идею «невыполнимой». Большинство анархистских организаций Северной Европы имели весьма сложные отношения с местными синдикалистами. Правда, конгресс в Хёйзене высказался за более тесное сотрудничество с другими международными либертарными организациями и за объединение пресс-бюллетеней Международного антимилитаристского бюро, Интернационала анархистской молодежи и МАТ. Решение о создании молодежного Интернационала было отложено до следующего конгресса. Предложение ФАИ поручить организацию учредительного конгресса французскому Анархо-коммунистическому союзу при помощи испанских групп не было принято. Вместо этого участники постановили созвать его в Брисланде под Берлином в мае 1929 г. После этого испанские анархисты и анархо-синдикалисты потеряли интерес к созданию Молодсжного Интернационала. Только в марте 1931 г. либертарная печать Испании сообщила, что следующий конгресс пройдет в Дании. В тексте приглашения на конгресс секретарь Молодежного Интернационала признавал, что движение вызывает малый интерес за пределами Голландии [332].
Подводя итоги развития МАТ между вторым и третьим конгрессами, Секретариат сделал вывод о том, что основные принципиаль ные решения П конгресса были выполнены как МАТ в целом, так и секциями. Однако решения, носившие практический характер, удалось осуществить лишь частично [333].
Организационная жизнь анархо-синдикалистского Интернационала продолжала сТЮ1КРIВаТься с немалыми трудностями. Решение II конгресса о ввсдснии обязательных международных членских взносов в размере 10 американских центов было выполнено только немецкой, шведской и бельгийской (после ее вступления) секциями. Организации в Италии, Испании и Португалии были разбиты репрессиями; к тому же взносы португальской ВКТ за 1926 г. были списаны в счет помощи стачке синдикалистских железнодорожников в столице Мозамбика Лоуренсу-Маркиш. Французская секция была еще очень слаба, голландская переживала кризис. Из латиноамериканских стран взносы (хотя и нерегулярно) перечисляла уругвайская ФОРУ; чилийская секция оставалась нелегальной. ФОРА по-прежнему платила очень мало, ссылаясь на то, что ведет пропаганду на Американском континенте за свой счет. Секретариат не был согласен с аргументами ФОРА и настаивал на выплатс взносовззз. Примерно две трети всех взносов приходились на САК [334] Голландская секция из-за неопределенности положения и трудностей задолжала МАТ 2 тыс. гульденов [335].
После выхода в январе 1926 г. шестого номера хорнала МАТ «Ди Интернационале» издание было прекращено, поскольку, как указывалось на III конгрессе, «сбыт был слишком мал, и выручка от проданных экземпляров не могла покрыть расходы». МАТ продолжала издавать в Берлине с периодичностью раз в три недели прессбюллетень на немецком, французском, английском, испанском языках и на эсперанто. Кроме того, выходил ежемесячный прессбюллетень Международной антимилитаристской комиссии (на немецком, голландском, французском, английском, а затем и на испанском языках в Гааге), бюллетень Фонда помощи МАТ арестованным в России анархистам (на английском языке, в Париже). В 1926 г. МАТ издавала орган на французском языке «Ля Вуа дё Травай»; газета была призвана помочь распространять идеи анархо-синдикализма во Франции. После создания РСВКТ, начиная с десятого номера издание было передано французской секции. Однако в ноябре 1927 г., после выхода 16 номеров, оно было прекраИ.деНО из-за нехватки средств [336]. По решению II конгресса МАТ выпустила пропагандистский плакат, который распространялся в различных странах (по 2 тыс. экземпляров было отправлено в Германию и Швецию, по тысяче — в Португалию и Мексику, 800 штук — в Аргентину, 500 — в Нидерланды, 250 в Уругвай; 500 плакатов было передано НКТ, по 250 — УСИ и французским синдикалистам). При этом испанским, итальянским и французским анархо-синдикалистам плакаты были переданы безвозмездно, ФОРУ к моменту III конгресса еще не оплатила свою долю, а мексиканская ВКТ долго не могла получить посланный материал изза высоких таможенных пошлин.
Секретариат МАТ выполнял также свою функцию по поддержанию контактов и связи с секциями. Велась регулярная переписка, члены Секретариата или бюро присутствовали на конгрессах или конференциях ФАУД, САК, голландского НСП, РСВКТ, УСИ НКТ, португальской ВКТ [337]. III конгресс МАТ должен был состояться в 1927 г. в Лиссабоне, но из-за переворота в Португалии, а также трудностей и преследований движения в различных странах сго пришлось отложить на год [338]. В феврале 1928 г. Секретариат известил секции о том, что «наконец удалось найти страну, где будет возможно провести конгресс МАТ». Он был намечен на 27—29 мая 1928 г. в Льеже (Бельгия), в помещении анархо-синдикалистских профсоюзов. Секретариат наметил пункты повестки дня и призывал ССКЦИИ как можно быстрее присылать свои собственные предложения по повестке дня [339]
Секретарь МАТ Сухи в статьс к III конгрессу МАТ дал оценку положению либсртарного рабочего движения, проделанной им работе и задач, стоявших перед конгрессом. АнарХО-СИНДИКиИСТЫ полагали, что мировое рабочее движение по-прежнему находится в «тяжелом кризисе» вследствие «проигранных революций, за которыми последовал период все еще продолжающейся реакции». Проявления этого Сухи видел в дальнейшем наступлении предпринимателей на достижения и завоевания наемных работников, в том числе на 8-часовой рабочий день. Говоря о «банкротстве реформизма», он подверг резкой критике социал-демократическое и коммунистичсское течения за неспособность защищать эти завоевания. Вместо этого они стремятся к развитию государственного социального и трудового законодательства, поддерживают органы государственного арбитража, который призван сглаживать и улаживать все конфликты. Секретарь МАТ назвал эту практику новой формой «экономического парламентаризма», «привязывающей пролетариат к законам». Однако «нынешняя государственническая ориентация и вера в законы», «реформистский и государственнический дух» ощущались, по его мнению, и в ходе борьбы за непосредственные ЭкОНОМические интересы и требования рабочих, к примеру, во время знаменитой забастовки британских горняков в 1926 г. «Нс только предательство отдельных лидеров... но и вся тактика в самой Англии и за рубежом и, не в последнюю очередь, негодные формы органиЗаЦИИ с самого начала предопределили поражение рабочих. Централистская форма организации, которая даст отдельным лицам или руководящим органам широкую власть над самими рабочими, служит крупным препятствием для развития свободной инициативы и революционного импульса масс». Пагубны для рабочей борьбы также союзы и сотрудничество с политическими партиями, подчиняющими трудящихся своим властным интересам.
Сухи подчеркнул, что коммунисты, чья профсоюзная политика «терпит крах», все больше сближаются с реформистами и подумывают о роспуске своего собственного Профинтерна, так что «недалеко уже то время, когда в международном рабочем движснии останутся только два направления — государственническое реформистское и либертарное революционное». Коммунисты, по сго словам, сняли свои революционные лозунги и переориентировались на участие в выборах.
Секретарь МАТ констатировал, что анархо-синдикалистское движение находится в тяжслом положении: во многих странах сго организации разгромлены, революционным синдикалистам трудно получить убежище в каких-либо государствах. Тем не менее перед ним стоят важные задачи. Прежде всего следует создать «решительный фронт обороны» против союза реформистов и коммунистов, «новых форм развития в политике и экономике» и «закрепленных законом экономических оргаНИЗаЦИЙ». Но одного лишь сопротивления недостаточно, необходима «позитивная сторона»: «одновременно указать рабочим на тот путь, по которому они должны пойти, чтобы вести экономическую борьбу за улучшение своего положения, не прибегая к помощи такого рода учреждений». Однако, по словам Сухи, в отличие от традиционного анархизма, сосредотачивавшегося главным образом на критике существующего строя в надежде на последующее спонтанное творчество масс, «сегодня в анархо-синдикализме возобладала идся о том, что пролетариат должен заранее создать для себя экономичсскис и культурныс организации» с целью «построить новый, социалистический, безгосударственный экономический и обществснный строй». По мнению секретаря МАТ, это отличие от государствснников, с одной стороны, и от традиционных анархистов, с другой, нужно было разъяснять рабочим, особенно в связи с выборами.
Что касается тактики борьбы за повседневные нужды трудящихся, то изменившаяся ситуация требовала, по мысли Сухи, новых методов: не сбора средств в поддержку бастующих, а организации международных стачек, бойкотов и блокад, и конгресс призван был сделать шаг вперед в их пропаганде. Он призвал также конгресс подтвердить требование 6-часового рабочего дня без снижения зарплаты в качестве меры по снижению нараставшей и ставшей длительным явлением безработицы и как альтернативы введению государственных систем пособий по безработице. В задачи, которые ставились перед грядущим конгрессом, входило также изучение возможности поддержания при помощи товарищей из других стран анархо-синдикалистского движения в государствах, где оно было разгромлено правительственными репрессиями, «с тем, чтобы зародыш продолжал жить и в надлежащий момент, когда реакция прекратится и диктатура будет ликвидирована, смог снова развиться». В странах, где до сих пор не было секций МАТ, также надлежало «сделать попытку нести в рабочее движение наши либертарные идеи и заложить основу революционно-синдикалистской организации». Сухи подчеркивал такжс необходимость активизации и расширения пропаганды за всеобщую антивоенную стачку и прекращение производства военных материалов, причем конгресс МАТ должен был «установить лучший способ сделать это в каждой стране». Далее, он отмечал необходимость создания фонда международной солидарности, который соединил бы организации и учрсждения солидарности, уже образованные анархо-синдикалистами отдельных стран [340].
Идейные дисюуссии в анархо-синдикалистском движении конца 1920-х годов
В условиях временной стабилизации экономики и наступления реакции многие анархисты начали ставить вопрос о кризисе, переживаемом либертарным движением. «Кризис в анархизме» — так озаглавил свою статью видный итальянский анархист Луиджи Фаббри.
« Невозможно отрицать, что революционное рабочее движение почти во всех странах или остановилось в своем развитии или даже демонстрирует спад», — писал в конце 1928 г. секретарь МАТ Сухи. Мнения в отношении причин такого положения значительно расходились. «В то время как одни утверждают, что эпоха реакции неизбежно должна приводить, как следствие, к спаду революционного движения, другие придерживаются того мнения, что это лишь предлог, в лучшем случае, самоутешение, с помощью которого можно уйти от ответственности за совершенные ошибки и упущенные возможности. Есть также товарищи, считающие, что наши идеи недостаточно глубоко и в недостаточном объеме проникли в массы, не смогли закрепиться в них и сейчас снова улетучились и вновь абсолютный перевес получили направления, которые занимаются лишь сегодняшними задачами... В соответствии со своими взглядами на застой организации, одни ищут новые идеи, другие — новые организационные формы, третьи — новые пути...» — констатировал Сухи. Тем не менее сам он считал, что «было бы неверно говорить об упадке синдикализма», потому что он хотя и слабее, чем в революционную эпоху, но все же гораздо сильнее, чем до мировой войны [341].
Роккер, со свойственным ему глубинным историческим взглядом на явления, утверждал, что «все прежние предпосылки Для социализма] не осуществились, что мы сегодня дальше удалены от социализма, чем когда-либо». Прежде всего он связывал это с расколом рабочего движения на партии, с партийным влиянием, в результатс чего вера трудящихся в государство усилилась, и они «проявляют уже мало понимания в отношении великих вопросов социализма». Кромс того, по мнению Рокера, сказывалось антигуманное влияние самого капиталистического развития. Он категорически отвергал утверждения, будто это развитие создает предпосылки для социализма. С его точки зрения, все обстояло совсем наоборот: Капитализм развился в чудовищную, все нивелирующуко власть, не встречая сколько-нибудь заметного сопротивления со стороны организованного рабочего класса. Уйдя от частного капитализма прошлых времен, мы вступили теперь в фазу коллективного капитализма с его национальными и интернациональными трестами и картелями, его распространяющимися на все страны торговыми обществами и его диктатурой экономики. С этой точки зрения практическое осуществление социализма сегодня гораздо труднее, чем когда-либо», тем более в отдельных и изолированных масштабах. Роккер был совершенно нс согласен с мнением многих социалистов о том, что тресты, рационализация экономики, переход от свободной конкуренции к регулированию рынка служат «первыми, неотъемлемыми предпосылками для осущсствления социализма». Такие суждения, по его словам, «не поняли дух и культурное содержание социализма» и воспринимают социализм как государственный капитализм [342].
На взгляды либертариев насчет современного общества и альтернативы ему наложил глубокий отпечаток опыт Российской революции и революционных выступлений рабочих после Первой мировой войны. В это 1920-х годах получил развитие так называемый «анархический ревизионизм» [343]. Среди его пропагандистов были, к примеру, видные итальянские анархисты Малатеста и Камилло Бернери. Малатеста, всегда бывший одним из ведущих теоретиков анархо-коммунизма, не отказываясь от основных своих идейных принципов, теперь счел под влиянием «русского опыта», что «для организации в широких масштабах коммунистического общества необходимо радикально преобразовать всю экономическую жизнь — способ производства, обмена, потребления, а это можно сделать только поэтапно». Он полагал, что в ходе революции анархисты вначале окажутся в меньшинстве и не должны поэтому навязывать всему социуму свои идеи и представления. Революции предстояло, по его мнению, привести вначале к возникновению плюралистического общества, состоящего из многочисленных общин, связанных как коммунистическими, так и коммерческими отношениями [344]. «...Мы не сможем совершить революцию в одиночку, и... было бы даже нежелательно, чтобы мы сделали ее одни... — писал Малатеста октября 1925 г. в журнале «Пенсьеро и волонта». . Мы оказались бы в абсурдном положении: либо заставлять себя отдавать другим приказы, принуждать их и таким образом перестать быть анархистами и убить РСВОЛЮЦИЮ хотя бы уже нашим авторитаризмом, или... отойти назад и допустить, чтобы другие извлсии прибыль из НаШСЙ работы ради целей, противоположных нашим» [345].
Ветеран анархизма выступил теперь сторонником «градуализма», то есть постепенности перехода к либертарному строю, через период, который будет сопровождаться чередованием революционных взрывов и относительно спокойного развития. Этот процесс, полагал он, требует разработки практической программы, которая может быть приспособлена к различным обстоятельствам, могущим возникнуть до, во время и после революции [346]. Он допускал, что после падения фашизма вначале восторжествует «левая» социальная республика, в рамках которой анархистам предстояло заняться усилением своих позиций. «Мы должны... действовать в сообществе со всеми имеющимися прогрессивными силами, со всеми идущими вперед партиями...» А после свержения старой власти анархистам следовало, по мысли Малатесты, неколебимо отстаивать свои цели ликвидации государства и капитала, «требовать и добиваться, даже с помощью силы, нашей полной автономии, права и средств организовываться по-своему и опробовать наши методы на опыте» [347].
«Нам не следует воображать, что следующая революция с первым же натиском приведет нас к полностью либертарному образу жизни, заявляли сторонники такой «постепенности», по существу, своего рода «переходного периода». — Нс являясь пророками, мы без большого труда увидим, что за НЫНСШНИМ монархическим и буржуазным режимом последует режим социальной республики. Нам следует способствовать этой первой псрсмсне, поскольку она приближает нас к нашей цели; но тем временем нам не следует почивать на лаврах. Наши усилия должны быть всегда направлены на осуществление нашего идеала свободы» [348].
Камилло Бернсри выступил за сосуществование различных экономических форм в анархическом обществе. «Все анархисты — атеисты, а я агностик, коммунисты, а я либералист, то есть я за свободную конкуренцию между кооперативными и индивидуальными трудом и торговлей», — писал он [349].
Некоторые анархисты в попытке дать ответ на вопрос, почему большевикам удалось одержать победу в Русской революции, пришли к выводу, что у них есть чему поучиться в тактической и организационной области. Так, «платформисты» (группа во главе с Петром Аршиновым и Нестором Махно) выступили за признание принципа классовой борьбы в истории, за создание прочной организации анархистов (фактически партийного типа), которая могла бы в качестве сплоченной силы участвовать в Советах, в рабочем профсоюзном движении, играть руководящую идсЙную и конструктивную роль в революции. По существу, «платформисты» допускали наличие этапов в революции и выполнение Советами властных функций. Они утверждали, что в производственной системе будущего общества децентрализация и интеграция труда будут не принципиальными, а чисто техническими вопросами, подчиненными интересам единства экономики. Фактически они перенимали индустриальную форму организации производства, предполагая лишь избавить ее от частной собственности и передать под управление фабричных Советов [350]. Другие либертарии (Вeсволод Волин и ряд других русских эмигрантов, Малатеста, Себастьян Фор) подвергли критике такие позиции, сочтя их отходом от антиавторитарных принципов и ценностей вольного коммунизмом [351]. Волин и его товарищи категорически отвергли нe только представление о политической организации анархистов, руководящей массовым движением, но и идею «переходного периода», при котором будут существовать элементы старого и нового строя. Критически высказались в отношении «Платформы» и анархо-синдикалисты. Так, Роккер назвал eе «диско ИДУЩИМИ уступками» «большевистским устремлениям» [352].
Абад де Сантильян в «Ла Протеста» подверг критике марксистскую природу ряда разделов «Платформы». С ним солидаризировался Мигель Хименес, один из основных сторонников концепции анархистского рабочего движения в Испании. Он заявлял, что русские «платформисты», как и испанские синдикалисты, пытаются использовать марксистские идеи. Хименес приветствовал саму попытку разрешить проблему разделения в анархистских рядах, но счел подход «Платформы» с ее противопоставлением анархо-коммунизма и индивидуализма неверным и упрощенным. По его мнению (здесь он как бы повторил то, что говорили русские анархисты вокруг Волина), эти тенденции не противоречат друг другу и не являются самодостаточными. Напротив, различные мнения могут «обогатить анархизм, если их соединить вместе, вместо того чтобы служить причиной разъединенности». Хименес высказался за то, чтобы не строить анархистскую организацию на точке зрения одной тенденции, а включить в нее активистов с различными точками зрения. Подобно Волину, испанский анархист утверждал, что единство движения нельзя навязать сверху, искусственно — результатом станет лишь еще больший раскол. Именно к этому, как он опасался, могла привести «Платформа» [35З].
Против «Платформы» в Испании выступили как синдикалисты, так и сторонники анархистского рабочего движения. Последним не нравились ни аКЦеНТ, сделанный на классовой борьбе, ни игнорирование различий в либертарном движении. В испанском анархистском движении известную поддержку «Платформе» оказали некоторые эмигранты во Франции (прежде всего журнал «Присмас») и лично редактор «Тьемпос нуэвос» А. Хибанель. Но их попытки распространить «платформистские» идеи среди анархистов Испании не увенчались успехом. После встречи испанских эмигрантов в Безье, Хибанель был направлен в конце 1929 — начале 1930 г. в Барселоне, чтобы обсудить «Платформу», но ФАИ не проявила интереса к ней.
Напротив, выдвинутая С. Фором идея анархистского «синтеза» встретила большое понимание среди испанских анархистов. Его предложения были перепечатаны в 1928 г. испанскими либертарными изданиями во Франции и в Бельгии. Их расценили как стремление объединить движение, не навязывая ему жестких структурных рамок «Платформы». Индивидуалистов, которые во Франции отвергли синтез, здесь не опасались, поскольку в испанском движснии — в отличис от французского — они не пользовались существенным влиянием (за исключением идей Ханса Ридера и Эмиля Армана о свободной любви) [354].
Махно, изложившему основные идеи «Платформы» на конгрессе Французского анархистского союза в Орлеане в июле 1926 г., уже на следующем его конгрессе в Париже (30 октября — I ноября 1927 г.) удалось добиться победы своей линии. 12 февраля 1927 г. «платформисты» собрали в Париже международную конференцию по созыву всемирного анархистского конгресса для обсуждения «Платформы». На ней присутствовали и испанские анархосиндикалисты В. Оробон Фернандес, Карбо и Агустин Хибанель. Карбо решительно возражал против идеи создания Интернационала на основе строгой программы, но его протесты были оставлены без внимания. Участники встречи постановили создать комитет по созыву конгресса в составе Махно, Чэна и Ранко. Сам конгресс собрался в Бур-ля-Рэн в Париже 20 марта 1927 г. с участием делегатов от анархистов Франции, России, Польши, Болгарии, Китая, Италии и Испании. Испанское движение представляли анархосиндикалисты Оробон Фернандес, Хибанель и Бруно Каррерас, среди итальянских делегатов был Луиджи Фаббри. Русские «платформисты» предложили вынести на обсуждение такие пункты, как признание массовой борьбы в качестве наиболее важного фактора в анархистской системе взглядов, анархо-коммунизма — в качестве основы движения, а синдикализма — в качестве метода борьбы анархо-коммунистов. Далее они настаивали на принятии необходимости Всеобщего союза анархистов на основе единой идеологии и тактики, коллективной ответственности, а также позитивной программы социальной революции. Фаббри от имени итальянской делегации заявил, что главным фактором в анархистской системе должна быть признана борьба всех угнетенных и эксплуатируемых против власти государства и капитала. При поддеркке испанцев и французов итальянские анархисты согласились с признанием анархо-коммунизма как цели движения, но остальные положения предложили изменить так, чтобы они предусматривали признание рабочей и профсоюзной борьбы как «одного из наиболее важных средств» анархистского революционного действия, необходимость создания в каждой стране «по возможности как можно более всеобщего» союза анархистов с одними и теми же целями и тактикой, а также с коллективной ответственностью, а также разработки позитивной программы действий анархистов в социальной революции. Иными словами, принимая идею усиления координации между анархистскими группами различных стран, делегаты настаивали на уважении к идейным и тактическим рамичиям в движении. Вмешательство полиции прервало работу конгресса. Когда в апреле 1927 г. подготовительный комитет разослал предложения для дискуссии, они практически не учитывали поправки, внесенные делегатами Парижской встречи. После этого итальянские, испанские и многие другие либертарии отвергли проект «платформистского» Интернационала, и он был похоронен [355].
Другой аргумент против немедленного осуществления анархического коммунизма состоял в том, что идея вольной коммуны противоречит «пошлинному духу и тенденциям» индустриального этапа развития общества с его стремлением к универсальности и растущей специализации. Видный историк анархизма Макс Неттлау, например, подверг критике «индустриально-деревенскую атомизацию человечества» в анархо-коммунизме и заявил: «Децентрализация... создала нечто противоположное солидарности и умножила причины трений и напряженности. Надежды на улучшение заточаются в восстановлении солидарности, в федерации более крупных единиц, в разрушен ии новых местных барьеров и ограничений, в коллективном контроле недр земного шара, естественных богатств и других преимуществ» [356]. В то же самое время он полагал, что принципы «коллективизма» (распределения по труду) и денежного вознаграждения за труд более соответствуют индустриальной форме организации производства.
Авторитетная американская анархистка Эмма Гольдман призвала анархистов не довольствоваться прежней пропагандистской литературой, которая уже не давала ответов на многие вопросы современной эпохи. Она подчеркнула необходимость ставить новые вопросы и отвечать на них. Среди этих проблем она называла: отношение анархистов ко всем явлениям современной жизни, актуализацию анархистской пропаганды в свете новых тенденций развития капитиизма, необходимость в большей мере подчеркивать созидательную, а не только разрушительную сторону социальной революции, как, по ее мнению, делалось прежде, отношение анархистской революции к проблеме партий, диктатуры и «переходного государства», роль анархо-синдикализма в революции, характер и методы революции и т.д. [357]. В свою очередь, близкий друг Э. Гольдман — Александр Беркман написал по просьбе Еврейской анархистской федерации Нью- Иорка книгу «Что такое коммунистический анархизм?», изданную в США в 1929 г. В ней он на основе современных фактов и данных обосновывал скорее массическое ВИДеНИС анархо-коммунизма. Безгосударственное общество, в котором нет собственности, все по мере своих сил участвуют в производствс и по мере своих потребностей — в потреблении, возможно, утверждал американский анархист. Он повторял доводы Кропоткина о невозможности определить и оценить трудовой вклад отдельного человека и оспаривал утверждение, будто отсутствие материальной заинтересованности обязательно приведет к лени и отказу от работы. Моральнос уважение и признание могут служить гораздо лучшим стимулом, равно как и солидарность между свободными людьми. Речь должна идти при этом не о карикатурной «уравниловке», то есть обезличивающем усреднении, а, напротив, о максимальном развитии творческого разнообразия, индивидуальных способностей и склонностей каждого. В таком обществс человек «будет расти и развиваться в соответствии со своей природой. Он будет презирать однообразие, а человеческое разнообразие будет давать ему больший интерес и удовлетворяющее чувство богатства жизни. Жизнь для него будет состоять не из функционирования, она будет состоять в переживании...» — писал Беркман. Способом осуществления нового общества он считал не слепой, негативный бунт, а сознательную социальную революцию, которая будет осуществляться в форме всеобщей стачки и низвергнет государство и капитализм. Такая революция «не является чемто случайным или внезапным событием... Идеи не меняются внезапно. Они медленно и постепенно прорастают, как растение или цветок. Вот почему социальная революция... разворачивается до момента, когда значительное число людей усвоят новые идеи и полны решимости осуществить их на практикс» [358]. Но если, таким образом, революция есть результат эволюции (просвещения людей и их идейного развития, складывания в массах представления о том, что и как надо делать на практике, каким образом строить новую жизнь), то, раз начавшись, она уже не должна знать никакие переходные периоды или смешанные формы. В ожидании того момента, когда новое общество сможет производить достаточно для того, чтобы свободно удовлетворять потребности людей. Беркман предлагал ввести равномерное для всех распределение того, чего недостает (при несколько увеличенной доле для больных, стариков, детей и беременных жснщин). При этом деньги, по его мнению, подлежали немедленной ликвидации, а производство переориентировалось на потребности: выявленные через тс же рабочие организации самими потребителями, потребности становились своеобразным «заказом» — регулятором производства. Все производимое безвозмездно отправлялось бы на общественные склады для доставки нуждающимся [359].
Социальная революция, — утверждал Беркман, — «это не разрушение, а созиДание». Она «несет с собой возникновение новых человеческих ценностей и социальных связей, а таюке изменение отношения человека к другим людям... она предполагает иной настрой в индивидуальной и коллективной жизни» [36О]. Такое изменение не возникает само по себе, оно должно быть подготовлено: людям предстоит понять, представить себе и спланировать жизнь без правительства и без принципа авторитета. Все это формируется в трудящихся людях лишь в ходе борьбы за свои права и интересы, за освобождение. Важным моментом является при этом развитие солидарности, объединение в борьбе рабочих, крестьян и специалистов («интеллектуальных пролетариев»). Беркман подчеркивал псрвоочередную роль революционных и либертарных профсоюзов в организации трудящихся, подготовке и осуществлении такой стачки. Он представлял себе организацию таких союзов в виде системы Советов предприятий и их объединений на всех уровнях. По мнению американского анархиста, это должен быть как орган борьбы, так и то место, где работник учится солидарности, изучает производство и его функционирование, понимает свое место в обществе и свои задачи. Уже теперь следовало повсюду создавать на предприятиях такие Советы. В ходе всеобщей стачки рабочим оргаНИЗаЦИЯ (рабочим Советам и их объединениям) предстояло затем взять экономическую и общественную жизнь в свои руки, наладить регулирование производства, потребления (совместно с домовыми и окружными комитетами) и т.д. Важное место в книге Беркмана занимала перестройка системы производства с ориентацией на децентрализацию и, в значительной мере, самообеспечение территориальных общин (в духе Кропоткина). Защиту революции он видел как дело объединенного в федерации вооруженного народа, а не специальной армии, тайной полиции и т.д.
Таким образом, книга Беркмана была основана на соединении идей анархо-коммунизма Кропоткина и анархо-синдикалистских рецептов организации и борьбы. Ее в известной мере можно считать ответом сторонников сохранения классических принципов анархизма на постулаты и доводы «анархо-ревизионистов».
Под влиянием дискуссий в анархистском движении вообще в конце 1920-х годов среди европейских синдикалистов все громче стали раздаваться голоса тех, кто хотел бы найти новые подходы к проблемам, которые стояли перед движением.
Группа испанских и других анархистов и анархо-синдикалистов призвала провести международную встречу для обсуждения важнейших вопросов анархистского движения. Различные дискуссионные статьи стали пояштяться и в аргентинской газете «Ла Протеста» [361]. Испанские анархисты эмигранты из штата Огайо (США) разослали анкету о ряде проблем анархизма, которая также была опубликована в «Ла Протеста» [362]
Прежде всего надлежало дать объяснение того, что развитие анархистского движения затормозилось. Так, Сухи утверждал, что спад или застой движения по всему миру объясняется не какой-либо одной причиной, а «цепью причин», в которой все факторы взаимосвязаны. Соответственно искать выход следовало, по его мнению, не в каком-либо одном направлении. Сыграли свою роль и спад революционной волны, и разочарование масс, повернувшихся к сиюминутным проблемам, и террор реакции. С окончанием периода реакции движение получит новые импульсы. Что же касается таких стран, где развитию не мешает диктатура, например, Германии, то там, полагал секретарь МАТ, «было бы столь же ошибочно искать новые организационныс формы, как и новое содержание для синдикалистского движения. Напротив, будет необходимо заняться вопросом, каким образом сегодня можно завоевать массы». Людей привлекает борьба за ЛУЧИЛИС условия жизни, за более высокую зарплату. «...Мы должны ориентироваться на настоящее, ни на йоту не отказываясь от наших идеалов», — заявлял Сухи. «Наша привлекательная сила должна сегодня состоять в том, что мы также стремимся к повышению зарплаты и сокращению рабочего времени», но «при осуществлении этих требований применяем лучшие средства борьбы» [363].
Еще один путь выхода из сложившейся ситуации виделся в более активной разработке «конструктивных» проблем соЦИиЬНОЙ революции. Европейские синдикалисты и раньше считали, что чем в большей мере трудящиеся готовы к созидательному действию после свержения государства и капитала, тем более вероятен успех. «Нам следует уже сегодня в недрах старого общества пытаться развить элементы, которые необходимы для созидания и обновления общества, подчеркивал теперь вновь Роккер. — Чем лучше будет подготовлено рождение нового, тем легче оно осуществится и тем меньше препятствий ему придется преодолевать» [364].
Это предполагало, что работники еще в условиях капитализма должны представлять себе, как развивается экономика, как работают их предприятия и учреждения. «Если завтра начнется новая революция, — писал журнал «Ди Интернационале», издававшийся с 1927 г. немецким ФАУД, — то пролетариат должен быть подготовлен к ней. Ему предстоит управлять предприятиями, регулировать потребление, управлять общинами, он должен мочь взять это в свои руки. Всс это следует наметить ужс сейчас. Необходимо создать и подготовить сегодня новую жизнь вне государства... Поэтому нужно, чтобы социально-революционные рабочие набрались опыта во всех областях социальной жизни»
Такая подготовка должна была вестись по самым различным направлениям. Прежде всего предлагалось усовершенствовать структуру и работу самой синдикалистской организации как инструмента, пригодного для ведения борьбы с современным капитализмом и для будущего управления социалистической экономикой. «Рационализация экономики и международное трестирование капитализма демонстрируют нам новый уровень развития нынешнего общественного строя, — подчеркивал в 1927 г. журнал немецкого ФАУД. — Рабочее движение должно в духовном и организационном отношении быть на уровне этого нового развития... Вертикальному и горизонтальному расширению капиталистического предприятия должна быть противопоставлена вертикальная и горизонтальная тактика стачки и бойкота... Помощь рабочих всех стран должна состоять не в международных сборах денег, а в международных акциях борьбы» 366 Со своей стороны, ведущий французский теоретик анархо-синдикализма Бенар начал в эти годы разрабатывать план национальной и международной реорганизации революционно-синдикиистского движения, которое должно было строиться снизу доверху так, как устроена капитал истическая экономика, с тем чтобы быть в состоянии взять управление хозяйством в свои руки.
Усилился интерес к различным «конструктивным экспериментам» кооперативам, коммунам, коллективным предприятиям и т.д. Они также воспринимались как возможный путь накопления практического опыта руководства экономикой и общественной жизнью. Роккер утверждал, что социалистическое движение идет навстречу «новой фазе конструктивных экспериментов» [367]. Он опубликовал в журнале ФАУД «Ди Интернационале» серию статей об «экспериментальном» и утопическом социализме под общим названием «Конструктивный социализм» [368]. На страницах того же издания нередко печатались статьи и материалы о кооперативном движении в различных странах. Отношение к производственным кооперативам в синдикалистском движении было неоднозначным. Так, Альберт Йенсен признавал, что среди шведских синдикиистов, например, «раздаются голоса, придерживающиеся мнения о том, что это путь, с помощью которого рабочие могут осуществить ”взятие производства в свои руки”. Но их очень немного. Подавляющее большинство членов синдикалистской организации прекрасно понимает, что с подобными предприятиями нельзя переступить границы капиталистического общества... Напротив, все синдикалисты сходятся в том, что предприятие может иметь воспитательное значение. Рабочие, которые, таким образом, являются своими собственными предпринимателями, могут приобрести известный опыт в управлении и организации производства.. что может быть полезным рабочему классу при будущем взятии производства в свои руки...» [369] Комментируя статью [370]. И. Ипсена о крестьянском кооперативном ДВИЖСНИИ в Дании, редакция «Ди Интернационале» подчеркивала, что «кооперативы являются, несомнснно, правильной формой объединения для регулирования потребления, совместного производства, взаимопомощи в самых разных областях», но в условиях массового общества они неизбсжно будут страдать от группового эгоизма.
Ряд видных анархо-синдикалистов отдал в эти годы дань «анархистскому ревизионизму». Что касается Шапиро, то он еще в годы Русской революции отстаивал идеи «переходного периода». Сухи, по его собственным воспоминаниям, уже в начале 1920-х годов после дискуссий с Х. Корнелиссеном в Париже согласился с ИДСеЙ синдикалистского ветерана о сохранении денежной системы и стоимости и, по существу, наемного труда, по меньшей мерс, на первых этапах существования либертарного общества. «В доиндустриальном обществе можно было, да и сегодня в небольших общинах еще можно ввести чисто распределительную экономику, — подытоживал он выводы, к которым пришли они с Корнелиссеном. Однако в современном индустриальном обществе и при современной взаимозависимости мировой экономики, от которой не может избавиться ни одна цивилизованная страна, при обмене благами неминуемо определение стоимости, говоря конкретно, — цсны, а тем самым и зарплата... даже при социалистическом общественном строе систему зарплаты нельзя будет полностью ликВИдировать.. Мы не исключали в своих дискуссиях эпохи общества всеобщего изобилия, в котором можно будет воздержаться от цены и зарплаты, однако воздержались от того, чтобы обременять последующие поколения теоретическими гипотезами» [371]. По сути, речь шла о заимствовании прежней аргументации некоторых либертариев 1870-х годов (к примеру, Джеймса Гильома).
Теперь под влиянием этих аргументов оказался даже такой убежденный анархо-коммунист, как Рудольф Роккер. Правда, он оговаривался, что речь должна идти «не столько о ревизии анархистских идей, сколько о ревизии общей позиции анархистов и их нынешней практической деятельности», что он по-прежнему убежден «в правильности анархистской идеи» и не видит необходимости «что-либо ревизовать в этих принципиальных воззрениях». Но в то же самое время он сетовал на чрезмерную «доктринальность» и «умственное оцепенение» анархизма [372]. Роккер по-прежнему выступал за синтез анархизма и коммунистического принципа, но теперь выражал мнение, что «такая экономическая форма, как коллективизм, в период революционного преобразования ближе практически, чем коммунизм» и что переход к анархистскому коммунизму будет поэтапным. При этом он ссылался на психологическую неподготовленность людей и вновь повторял избитый довод о «материальном изобилии», которое только и сделает возможным коммунистический принцип свободного потребления. Этот последний он, как и многие тогдашние анархисты (в отличие от Кропоткина), смешивал с «неограниченным потреблением» [37З].
Конечно, далеко не все анархо-синдикалисты склонялись к пересмотру тактики и доктрин. В защиту ортодоксального анархокоммунизма продолжали выступать ФОРА и ФОРУ, многие активисты испанского либертарного движения и т.д.
Третий конгресс МАТ (1928 г.)
Очередной всемирный форум анархо-синдикалистов заседал в Профсоюзном доме бельгийского города Льеж с 27 по 29 мая 1928 г. На нем были представлены делегаты от аргентинской ФОРА (Морис), Федерации механиков Бельгии (Шалан, Бонвуазэн, Бреню), германского ФАУД (Бетцер, Шмитц), голландского НСП (Лансинк), испанской НКТ (Жан Фарго, ведущий активист Союза строительных рабочих в Париже, и Бруно Каррерас, представлявший испанцев в РСВКТ), итальянского УСИ в эмиграции (Кремонини), мексиканской ВКТ (Сухи), норвежской НСФ (Йенсен), португальской ВКТ (Сухи), уругвайской ФОРУ (Магринья), французскоЙ РСВКТ (Юар). Присутствовали секретари МАТ (Роккер, Сухи и Лансинк), представители Международной антимилитаристской комиссии (А. де Ионг и Мюллер-Ленинг). В качестве гостей и наблюдателей были представлены Федерация строительных профессий Германии (Марков), Синдикалистская федерация фабричных организаций Голландии и другие голландскис группы (де Бур, Прием, де Ионг, Мюллер-Ленинг), профсоюзное отделение испанской НКТ во Франции (Каррерас), Федерация анархистов Иберии во Франции (Магринья), брюссельские испанские газеты «Вербо нуэво» (Лапьедра) и «Ребельде» (Магринья, представлявший также ФАИ, а также Сольтерра), польская группа «Борьба» из Парижа (Брам), эквадорская Федерация анархистских групп «Михаил Бакунин» (Морис), Федерация строительных рабочих Льежа (Демулен) и Федерация испанских анархистских групп во Франции (Гарсиа). Работу конгресса открыл секретарь МАТ Сухи, с привстственными речами ВЫСТУЛ1ИЛИ представитель синдиката металлистов Льежа Шалан и секретарь МАТ Роккер, который напомнил об основных чертах мировой ситуации: господстве реакции и распространении диктатур, ухудшении экономического положения, капиталистической рационализации. Были зачитаны также приветствия от безгосударственных эсперантистов, Анархистского молодежного Интернационала, норвежской НСФ, Союза младосоциалистов Швеции, «Синдикалистско-анархистской молодежи» Германии, Анархистской федерации Польши, Федерации синдикалистских металлистов Германии, группы болгарских эмигрантов в Бельгии, ВКТ Мексики, Фонда помощи заключенным анархистам в Советской России, группы «друг рабочих» и газеты «Плю луан» из Парижа и т.д. [374].
При открытии конгресса участники приняли «Заявление солидарности с жертвами классовой юстиции» — теми, кто «стал жертвой мировой реакции в своей борьбе за свободу». Считая свободу выражения мнения «священнейшим правом человечества», анархо-синдикалисты осудили ее нарушение и подтвердили, что они добиваются цели освобождения заключенных и прекращения попреследований во всех странах. Конгресс (по просьбе делегата ФОРА) особо упомянул дело аргентинского анархиста Симона Радовицкого, а также выразил солидарность «со всеми жертвами диктатуры и империализма в Италии, Испании, Португалии, Болгарии, на Кубе, в Китае, России и других странах», потребовав их освобождения [375].
На повестке дня форума стояли отчеты Секретариата и отдельных делегаций, проблемы революционного рабочего движения и новейшей фазы развития капитализма (докладчик Роккер), рабочего движения и борьбы за 6-часовой рабочий день (Юар), участия МАТ в практической повседневной борьбе (Сухи), положения движения в странах, где существовали фашистские и диктаторские режимы (в Италии, Испании, Португалии, России и др.), ведения пропаганды в странах, где нс было организаций Интернационала, вопросы об антимилитаризмс (де Ионг), выборы нового Секретариата и т.д. [376].
С докладами о работе Секретариата МАТ выступили Сухи и Роккер, рассказавший о своей поездке по Северной Америке. Секретарь МАТ Лансинк сделал отчет о деятельности Международной федерации строительных рабочих, рекомендовав провести ее следующую конференцию осенью 1928 г., предположительно в Дюссел ьдорфе [377].
Делегаты ФОРУ (Магринья) и ФОРА (Морис) выразили недовольство южноамериканцев в связи с тем, что в отчете Секретариата к революционно-синдикалистским организациям был отнесен аргентинский «Синдикальный союз
» (УСА), который они обвиняли в штрейкбрехерстве и стремлении ДСЙСТВОВаТь исключительно в рамках законности [378]. Бельгийский представитель Крёц заявил, что МАТ недостаточно сделала для борьбы с «белым террором» и фашизмом, и осудил Секретариат за то, что он не связался с другими антифашистскими силами, такими как Группа французских интеллектуалов во главе с писателем Анри Барбюсом. В ответ немецкий делегат Бетцер подчеркнул, что о сотрудничестве с большевиками не может быть и речи [379]. После дискуссии отчет о работе Секретариата и финансовый отчет были единогласно одобрены [380].
Критике со стороны многих делегатов была подвергнута деятельность Лансинка. Так, представитель немецкой федерации строитслей ФАУД Марков и делегат ФАУД Бетцер осудили его за предвзятость и неспособность созвать очередную международную конференцию строительных рабочих. Марков предложил созвать ее сразу по окончании конгресса. Он призвал Секретариат МАТ временно взять дела международной федерации в свои руки. Конгресс отказался принимать решение по проблеме реорганизации федерации, сочтя это ее собственным делом [З81].
Главной темой конгресса 1928 г. стал вопрос о новейших технологических сдвигах, изменении форм капиталистической организации хозяйства и действиях трудящихся. Этому были посвящены доклады Роккера о рационализации и Пара о 6-часовом рабочем дне.
Секретарь МАТ Роккер, признанный авторитет анархо-синдикалистского движения в вопросах теории, предложил всесторонний анализ нового этапа развития индустриального общества, начиная с технологических сдвигов и заканчивая изменением методов хозяйствования и труда, а такжс соотношения социальных сил. Он подчеркнул, что капитализм оправился от послевоенного кризиса и оказался прочнее, устойчивее, чем многие полагали, и, в свою очередь, воспользовавшись «обуржуазиванием рабочего движсния» и его превращением в «неотъемлемую составную часть» существующего строя, перешел в контратаку. Это не означает, что капиталистическая экономика не сталкивается с кризисными явлениями, но это не «смертельный» и даже не «международный хозяйственный» кризис, а усилившийся кризис «перепроизводства», то есть разрыва между производством и покупательной способностью масс. В попытке решить проблемы за счет трудящихся, а также реагируя на усиление мировой конкуренции и сдвиги в мировом хозяйстве (увеличение мощи США в ущерб Европе, увеличение роли «пробуждающейся» Азии и т.д.), капитализм «вступил в новую фазу своего развития, воздействие которого на общее положение трудящихся должно быть еще более угрожающим, чем все его формы в прошлом...» [382].
Производимая технологическая и организационно-производственная перестройка и получила наименование «рационализации», причем этот процесс захватрш весь мир и наиболее заметен на примере повсеместного внедрения «научной организации труда» (системы Тейлора) и фордистского конвейерного производства. Роккер выделм три основных проявления этой рационализации: « I ) Образование промышленных картелей и трестов с целью упрощения общего процесса производства в отдельных отраслях и установления единых цен. 2) Самая далеко идущая и глубокая механизация процесса труда с применением всех возможных технических вспомогательных средств. 3) Планомерное приспособление тела и разума к ритму машины и движению конвейера» [383].
Анархо-синдикалистский теоретик рассматривал происходящее как переход от «свободной конкуренции» к «монополистической стратегии», которая «с помощью национального и интернационального трестирования стремится избавиться от любой конкуренции, чтобы повсюду диктовать цены» [384]. Результатом этих процессов становились рост цен и прибылей предпринимателей в сравнении с заработками работников и усиление бремени, ложащегося на рабочих и на потребителей, рост безработицы, которая стала длительным явлением. «...Машину из плоти и крови можно побудить к большей производительности лишь за счет здоровья и сроков ее исправного использования... — утверждал Роккер. — Работник, принуждаемый рационализацией к более высокой производительности, но ограничиваемый в своей покупательной способности продолжительным рабочим временем и низкими заработками, становится здесь настоящей жертвой капиталистического каннибализма, который сегодня, благодаря своим новым методам, быстрее изнашивает его и скорее, чем прежде, выбрасывает на свалку» [384].
Роккер развил традиционную анархо-коммунистическую критику марксистского экономизма и продуктивизма, то есть представления о прогрессе как непрерывном росте производства, о разделении труда, механизации, централизации и концентрации экономики как о процессе, неизбежно и закономерно ведущем к социализму. Он резко отверг взгляды большинства социал-демократов и коммунистов, которые утверждали, что новые технологические и организационные сдвиги приближают человечество к новому свободному обществу, основанному на изобилии. «Нам хотят доказать, — возмущался Роккер, — что только посредством гигантского развития производительности будут созданы действительные гарантии для возможности практического осуществления социализма... Разве социализм и в самом деле всего лишь вопрос желудка, как его часто именуют [385]... Разве социализм не является также великой психологической проблемой, решение которой для общественного развития имеет куда более важное и решающее значение, чем все технические формы хозяйства?» [386].
Роккер сетовал на то, что «современное человечество» настолько «сильно находится в плену марксистских представлений о неизбежности», что видит повсюду только экономическую необходимость и «историческую миссию» и нс понимает «глубокие духовн ые проблемы социализма». «Лишь так можно понять, каким образом сегодня в самых чудовищных наростах капиталистической системы надеются увидеть необходимые предпосылки для прихода социализма...» Он настаивал на том, что «преувеличенная и односторонняя индустриализация хозяйства в соединении с доведенным до предела разделением труда, которое как раз и находит свое наиболее совершенное выражение в происходящей рационализации, в духовном отношении не имеет ничего общего с социализмом, но представляет собой лишь более развитый метод эксплуатации людей, столь же бездушный, сколь и бесчеловечный. В этих методах современного капиталистического развития можно в лучшем случае увидеть предпосылки грядущего государственного капитализма, худшей из форм любой эксплуатации...» [З87].
Социализм, по мнению Роккера, — это принципиально иное общество, в центре которого находится человек, а не экономика, и ведут к нему совершенно другие дороги. Трудящиеся должны понять, писал он, «что путь к социализму ведет не через постоянное увеличение производительности каждого и производства в целом. В конце концов, не человек существует для экономики, а эконом ика должна быть для него лишь средством сделать свою жизнь более свободной и приятной. Именно в этом одна из важнейших предпосылок социалистического МЫШЛеНИЯ» [388].
«Речь идет не о том, чтобы все больше сокращать необходимый труд каждого отдельного человека с помощью постоянно растущего технического развития, которое низводит человека до роли простой машины», если человек по-прежнему воспринимает работу как «тяжелую повинность» и «невыносимое рабство», — восклицал он. В противовес этому Роккер напоминал о высказанной Фурье идее «привлекательности труда», о труде, доставляющем радость и удовольствие, как о непременном принципе свободного социализма. Он страстно осуждал «механизацию» человека, которая, по его мнению, ведет только к деградации человеческой личности и рабству: «Рационализация — это систематически рассчитанное соревнование между машиной из плоти и крови и машиной из стали и железа, приносящее доходы только и исключительно в карман предпринимателей. Конвейерный труд и самое рафинированное использование каждого движения мускулов превращают работника в простой автомат, который утратил всякий смысл выполняемой им работы и должен платить своим здоровьем и своей жизнью за самую отвратительную деградацию своего человеческого существа. Современные методы труда отупляют разум и разрушают здоровье физически; они становятся непосредственной причиной полной дегенерации производяШИХ пассов...» [389]. Из его анализа вытекал мрачный вывод-пророчество: «Капитализм в его нынешней форме превращается во все большую опасность для всей человеческой расы...» [390].
В качестве альтернативы Роккср вновь выдвигал рекомендации, предлагавшиеся за десятилетия до этого анархо-коммунистической «массикой» Кропоткина, — преодоление индустриалистского разделения труда и соответствующей формы организации производства: «Нет, не прогрессирующее разделение труда и рационализация за счет физической и умственной деградации человека, а интеграция труда, децентрализация промышленности, соединение индустрии и сельского хозяйства и всестороннее развитие человека.. — такова... основа и предпосылка практического и конструктивного социализма. И этим уже задано наше принципиальное отношение к рационализации», — подытоживал он [391].
Однако негативное воздействие происходивших процессов, с точки зрения Роккера, не ограничивалось только экономической, социальной и духовной сферами. Они распространялись и на политичсскую организацию. «Реакционной тенденции в современной экономике», переходу от «старого частного капитализма» к «коллективному капитализму в форме трестов и картелей» соответствовал, по мнению секретаря МАТ, и переход к политической реакции, к отказу от парламентских режимов и почти повсеместному установению диктатуры, будь то в фашистском или ином обличье.
Докладчик призвал трудящихся преодолеть пассивность и фатализм, оказать сопротивление реакции, которая наступала по всему фронту. «Сегодня, в эпоху коллективного капитализма, под знаком национальных и интернациональных картелей предпринимателей рабочему классу нужны совершенно иная установка духа и, преждс всего, совершенно иные методы в его борьбе, нежели те, к которым он прибегал раньше», — полагал он [392].
Прежде всего трудящимся следовало осознать непримиримость и несовместимость своих интересов с интересами «их» государства и предпринимателей и преследовать свои собственные цели. Попытка поддержать власти и имущие классы «своей» страны в надеждс извлечь выгоды из конкурентоспособности «своей» национальной ЭКОНОМИКИ обречена на провал, предупреждал Роккер Полностью бессильными, по его словам, становятся традиционные реформистские методы с их упованием на парламентаризм, партийную политику, социальное законодательство, трудовой арбитраж и т.д. Все это лишь сковывает рабочим руки, навязывает им невыгодные решения и отдаляет освобождение. Далее, недостаточными оказываются прежние, частичные забастовки и даже стачки, ограниченные рамками отдельных стран, поскольку предприниматели, объединенные в транснациональные картели, легко могут сорвать борьбу, используя капитал, производственные мощности и рабочую силу в иных государствах. Отсюда вытекала необходимость международного объединения и международной борьбы трудящихся. Роккер говорил также о важности преодоления их раскола на отдельные группы, касты и категории, в особенности о привлечении «рабочих умственного труда» — техн иков, служащих и т.д. Наконец, в качестве практической меры он предлагал борьбу за сокращение рабочего времени и более равномерное распределение работы, так, чтобы ее имели все.
В том же ключе, что и доклад Рокера, было выдержано выступленис Юара. «Рационализация принуждает работника развивать лишь одну из сторон своих физических способностей до крайнего преувеличения в ущерб его умственным способностям... — подчеркивал он — Таким образом, рационализация пагубна для работника», разрушает его личность [393]. Основнос внимание в его докладе было уделено задачам и перспективам борьбы за установление 6часового рабочего дня как средства смягчить воздействие рационализации и безработицы.
Дискуссия по выступлениям Роккера и Юара сразу же показала глубину расхождений, которые существовали в этом важнейшем вопросе между секциями Интернационала. Здесь сказалась различная традиция и ориентация синдикалистских организаций отдельных стран. Делегаты от Южной Америки, которые стояли на позициях классического анархо-коммунизма, были в целом согласны с негативным отношением к рационализации, но подчас иначе расставляли акценты. Так, аргентинский представитель критиковал некоторые формулировки из доклада Рокксра и предостерег от выдвижения одних и тех же частичных требований с реформистами и политическими партиями; Роккер в ответ назвал отказ от таких требований «сектантством». Делегат ФОРУ заявил, что его организация «не за разрушение машин», но хочет «подчинить их» трудящимся и заставить служить им. Сославшись на агитацию члена ФОРА Абада де Сантильяна за 6-часовой рабочий день, он выразил поддержку предложениям Роккера и Юара в вопросе сокращения рабочего времени и высказал мнение, что и «ФОРА сходится с МАТ в оценке рационализации». Зато некоторые европейские секции, следуя традиции революционного синдикализма, оценивали новые хозяйственные и технологические методы гораздо более позитивно.
Бельгийский представитель Шалан, возражая Тру, заявил, что, хотя «при капиталистическом режиме рационализация оказывает преступное воздействие на рабочий класс, но при новой системе она станет преимуществом, потому что сможет привести к сокращению рабочего времени до трех или двух часов в день. Поэтому с рационализацией не нужно бороться», — подчеркнул он. Нссколько мягче выразился голландец Лансинк. В принципе он согласился с Роккером и Юаром, но сразу жс добавил, что рационализация и внедрение машин сокращают применение нездорового и тяжелого труда. Поэтому борьбу, по его мнению, следовало вести нс с рационализацией как таковой, но с «ее КаПИТИИСТИЧеСкой тенденцией». Подход Лансинка к производству при новом обществе оказался чисто индустриалистским. «Социализм должен на lOO% использовать их [производительныс СИЛЫ], — доказывал он. — Децентрализация — это не вопрос каких-либо пожеланий, но дело географии. В противовес централизации в будущем следовало бы говорить не о децентрализации (это слово можно истолковать неверно), а о действительной концентрации». Швед Иенсен заверил, что члены САК «в принципе за 6-часовой рабочий день», но пока еще не смогли организовать его пропаганду по организационным причинам.
Отвечая Лансинку (и в его лице другим защитникам индустриализма), Роккер заметил, что именно капитализм «желает концентрации производства», стремясь навязать отдсльным странам жесткую специализацию в стремлении контролировать их. «Но было бы заблуждением верить, что эта КОНЦСНтрация и разделение труда будут обязательно полезны пролетариату. Конечно, мы за прогресс, заявил он, мы хотим его, но мы хотим, чтобы рабы из железа и стали работали на благо (нынешних] рабов из плоти и крови. Техника должна служить работнику, а не работник технике».
Индустриалистские позиции были высказаны, но в целом не встретили поддержки конгресса. Делегаты приняли резолюции по докладам Роккера и Юара единогласно (воздержался лишь представитель Аргентины, ссылаясь на отсутствие мандата по этому вопросу) [394].
В «Резолюции о рационализации» происходившая рационализация оценивалась как «непосредственный результат новой фазы развития капиталистической системы, которая находит свое выражение в замене старого частного капитализма современным коллективным капитализмом», в упадке «прежнего принципа свободной конкуренции» и его замене «диктатурой экономики». (Ее проявлением анархо-синдикалисты считали монополистические тресты и концерны.) Эта диктатура, указывалось в резолюции, сознательно искореняет экономическую конкуренцию и «стремится к эксплуатации мира по единой системе».
МАТ видела в широком внедрении новых машин, конвейеров и «научных» методов организации производства лишь проявление «этой новой переориентации капиталистического мира», «жестокую конкурентную борьбу машины из плоти и крови с машиной из стали и железа» в интересах предпринимателей. Последствия новшеств для трудящихся синдикалисты оценили негативно: «для производителей же эти новые методы означают подрыв их физического и духовного здоровья и беспрекословное подчинение системе индустриального повиновения, ценою которой служат длительная массовая безработица и продолжающееся снижение их заработков».
Конгресс отверг прогрессистское представление (разделявшееся, в частности, марксистами) о том, что этот технологический и организационный процесс — «предпосылка для осуществления социализма». Напротив, он охарактеризовал методы рационализации как «более совершенную форму эксплуатации широких масс производитслсй и потребителей», которая в лучшем случае может служить «предвестником грядущего государственного капитализма», но отнюдь не подготовкой социализма. С точки зрения анархо-синдикалистов, как она была подтверждена на III конгрессе, «путь к социализму обусловлен не постоянно растущей производительностью производства, а в первую очередь ясным пониманием положения в обществе и твсрдоЙ волей к конструктивному социалистическому действию», выражающимися «в стремлении к личной свободе и социальной справедливости». МАТ отвергла голый экономический детерминизм, подчеркнув, что «социализм это не только экономическая, но также психологическая и культурная проблема». Он призван преодолеть отчуждение человека от его действия, сделать труд как можно более разносторонним и привлекательным для человека, а это «несовместимо с методами современной рационалиЗаЦИИ». По существу, резолюция подтвердила приверженность анархо-коммунистичсскому идеалу преодоления детального разделения труда. «Не централизация отраслей промышленности в соответствии с принципами мнимого политэкономического своеобразия различных народов, а децентрализация всей нашей системы производства, как ей все больше способствует развитие современной техники; не доведенная до предела специализация всех отраслей производства, а единство труда, соединение сельского хозяйства и промышленности и всестороннее обучение человека с целью развития всех его умствснных и физических способностей; именно в этом напрањлении ведет путь к СОЦИаЛИЗМу», — говорилось в резолюции Льежского конгресса.
Речь в этих условиях должна была идти о том, чтобы предотвратить положение, названное в резолюции «впадением в новое индустриальное крепостничество», с помощью установления либертарного социализма. Новый этап экономического развития с его «гигантскими национальными и международными трестами и картелями» требовал, по мысли анархо-синдикалистов, новых методов борьбы рабочего движсния, а именно создания «международных революционных экономических организаций», способных как отстаивать непосредственные требования трудящихся в рамках существующей системы, так и служить делу практической СОЦИШIИСТИческой реорганизации общества.
Одним из последствий рационализации капиталистического производства МАТ считала вытеснение рабочих рук машинами и в результате — существование длительной безработицы, которая не рассасывалась, несмотря на экономический рост. Безработица, подчеркивалось в резолюции, нарушает «право каждого работника на жизнь и на производственную деятельность». Анархо-синдикалисты заявляли, что увеличение производительности должно сопровождаться сокращением рабочего времени до шести часов в день без сокращения заработка и более равномерным перераспределением работы между всеми [395].
Данному вопросу была посвящена специальная «Резолюция о 6-часовом дне». В ней еще раз указывалось на то, что причины роста безработицы следует искать «в развитии производственных методов», «в постоянном росте пролетариата... которому способствуют все более расширяющееся использование женской рабочей силы и приток сельских элементов в промышленность», «во внедрении новых методов производства в промышленность... действие которых состоит в значительном увеличении производительности», «в низких заработках, чья покупательная способность слишком низка, чтобы принимать произведенные блага». Развитие производства не ведет к улучшению положения трудящихся, а служит только интересам капиталистов, — говорилось в резолюции. И хотя конгресс оговорился, что является «убежденным сторонником прогресса во всех областях», делегаты подчеркнули, что «этот прогресс ни при каких обстоятельствах не может быть куплен увеличением эксплуатации человека». Поэтому они отвергли «новые производственные методы, известные под именем рационализации», видя в них «попрание человеческого достоинства».
Иными словами, анархо-синдикалисты не принимали марксистской абсолютизации прогресса, в особенности технического и экономического, но относились к этому вопросу дифференцированно, как это и было характерно для классической анархистской доктрины (например, для Кропоткина).
Конгресс осудил также попытки предпринимателей использовать безработных против тех, кто имеет работу, и целью «улучшить вызывающее сожаление положение мирового пролетариата» выступил за скорейшее уменьшение продолжительности рабочего времени, конкретно до шести часов в день. Эта мера была названа «вопросом жизни и смерти» для пролетариата.
Секции Интернационала брали на себя обязательство развернуть в своих странах «интенсивную борьбу за 6-часовой день», выдвинув это требование на первое место. Пропаганда должна была вестись соответственно на местном, окружном, национальном и международном уровнях. Конгресс высказался за проведение специальной международной 14-дневной пропагандистской акции с участием всех организаций МАТ. Время проведения предстояло определить Секретариату после изучения соответствующих отчетов о ситуации от страновых секции [396].
Тактике анархо-синдикалистов в рабочем движснии был посвящен доклад Сухи «Отношение МАТ к профсоюзной борьбе современности». Подчеркнув, что невозможность немедленной революции вынуждает рабочие организации вести борьбу за улучшение положения трудящихся при существующем обществе в экономической, политической и культурной области, докладчик сделал упор на том, что анархо-синдикалисты выступают за использование при этом прямого действия, а не за принятие новых «социальных законов» на национальном или международном уровне. Секретарь МАТ вновь говорил о жизнеспособности и силе капитализма, о его усилснии после отката революционной волны и о пассивности и недостаточном уровне сопротивления трудящихся. В условиях экспансии капитала и его перетекании в страны с более дешевой рабочей силой и в колонии «революционные профсоюзы должны стремиться к выравниванию зарплат и условий труда в международных масштабах», к 6-часовому рабочему дню, ЛИКВИДаЦИИ детского труда. Сухи повторил идею международных стачек работников одной и той же отрасли производства, для чего, по его мнению, было необходимо также преодолеть среди трудящихся дух национальной ограниченности, разработать в интернациональных отраслевых федерациях планы забастовок и бойкота, собрать статистические данные об условиях труда и зарплате, сопоставить и изучить их [397].
Обсуждение доклада не выявило каких-либо серьезных расхождений, и решение по нему было одобрено единогласно [398]. В принятой резолюции МАТ признала, что «капитализм благодаря своей приспособляемости сумел не только утвердиться в периоды крупных политических волнений, таких как по окончании Мировой войны, или во время экономических кризисов, таких как наступившая во многих странах инфляция, или же после идущей во всех капиталистических странах рационализации, но и консолидироваться». Государство и капитализм наступают на ТРУДЯЩИХСЯ при любой возможности, причем нс ограничиваются рамками национальных границ, но и используют такие методы, как создание международных трестов и картелей. Напротив, рабочее движение, руководимое политическими партиями и связанными с ними «реформистскими и государственническими профсоюзами», не смогло использовать предоставлявшиеся благоприятные возможности, утверждалось в резолюции. В связи с этим конгресс провозгласил, что рабочее движенис должно «идти в ногу с современным развитием и прогрессом и привести свои МСТОДЫ борьбы в соответствие с требованиями современности». Эти методы должны быть более эластичными и опираться на федерализм и автономию организаций, считали анархо-синдикалисты.
Они подтвердили категорическое осуждение государственного «социального законодательства», как политики, направленной на то, чтобы «бесследно размыть цели окончательного освобождения рабочего класса, надолго приковать пролетариат к формам государства и капиталистической экономики прибыли и все больше отдалить сго от социальной революции». Одобрив лозунг установления единого рабочего времени или единой ставки зарплаты в мировом масштабе, конгресс заявил, что этого нельзя достичь с помощью национального или интернационального законодательства, но только и исиючитсльно под нажимом самих масс. Делегаты осудили «партнерство рабочего движения с господствующими классами». Они призвали рабочих мира «сойти с дороги сговора с капиталистическими и государственными силами» и отозвать «своих представителей из всех государственных и законодательных учреждений, таких как государственные тарифные комитеты, государствснные примирительные инстанции, национальные и интернациональные бюро труда и т.д.», противодействовать стремлению реформистов обрести представительство в международных трестах и т.д. «Борьба с национальными и международными трестами, подчеркивалось в резолюции, может вестись только революционным путем, то есть посредством крупномасштабных национальных и международных стачек и акций бойкота» — к примеру, международных стачек работников одной отрасли и т.д. Конгресс обратил также внимание на важность сбора информации обо всех сторонах хозяйственной жизни, производства и распределения, к примеру, через посредство отраслевых федераций. Он видел в этом путь к взятию в руки трудящихся и социалистической организации экономики после социальной революции [З99].
МАТ подтвердила на своем III конгрессе значение антимилитаристской борьбы. Однако сами характер и формы ее вызвали ожесточенные споры. Они развернулись еще при обсуждении отчета Международной антимилитаристской комиссии как совместного органа МАТ и МАБ. Если испанская НКТ, основываясь на важности темы, предложила увеличить взносы анархо-синдикалистского Интернационала в эту комиссию, то немецкий делегат Бетцер (ФАУД) нашел ее расходы слишком большими и выступил против испанского предложения. Что касается французской РСВКТ, то ее представитель Юар вообще заявил, что такая комиссия бесполезна, поскольку занимается чисто «литературной деятельностью», в то время как антимилитаристская работа должна быть делом самих синдикатов. В свою очередь, делегат голландского НСП Лансинк, недовольный тем, что в МАБ и МАК преобладали члены и сторонники соперничавшей с НСП голландской Синдикалистской федерации, возражал против представительства МАК на конгрессе Интернационала. Тем не менее отчет о работе МАК был одобрен [400].
Затем де Ионг выступил с докладом об антимилитаризме. Он утверждал, что «милитаризм — это монополия на насилие», которая помогает капитализму удержаться, поэтому с ним необходимо бороться особо. Теперь, по его мнению, милитаризм вступил в новую фазу, для которой характерно утверждение диктатур, появление фашистских отрядов и «белых гвардий», стирание грани между «мирным» и военным производством, открытая поддержка войны социал-демократами и левыми политиками. «В действительности нет большой разницы между капиталистической войной и миром», — заявил де Ионг. «...Только социальная рсволюция позволяет уничтожить милитаризм». Он отрицал как возможность победить милитаризм средствами «буржуазного пацифизма», так и «мнение о том, что еще более сильный милитаризм на службе пролетариата может принести ему победу. И красный милитаризм служит лишь угнетению пролетариата». Голландский антимилитарист пытался обосновать стратегию предотвращения новой войны с помощью революции: «Недостаточно закончить войну революцией, ведь, как показывает опыт, такое происходит только в побежденных странах. Революция должна произойти прежде, чем начнется война; война приводит к исчерпанию ресурсов продовольствия и т.д. В подобном состоянии организация нового общества труднее, чем до войны...» — доказывал он [401]. Поэтому уже теперь трудящимся следовало утоняться от военной службы, отказываться от участия в производстве военных материалов, использовать методы бойкота и саботажа. Де Ионг призвал революционно-синдикалистские организации обратиться к МФП с предложением образовать на предприятиях комитеты для сбора информации и подготовки мер, которые позволили бы остановить производство в случае войны. На объявление мобилизации следовало, по его мнению, ответить всеобщей стачкой [402]. Наконец, представитель МАК по поручению МАБ выступил за укрепление сотрудничества между бюро и МАТ и за одновременное проведение следующего конгресса МАТ и антимилитаристского конгресса.
Французский делегат Юар категорически возражал против идеи разрушения фабрик, могущих служить милитаризму, и против проведения на них актов саботажа. Он заявлял, что рабочие должны завладеть этими предприятиями и использовать в интересах ЗаЩИты революции. С представителем РС ВКТ согласились Лансинк (НСП), Бстцер (ФАУД) и Йенссн (САК). Немецкий делегат добавил, что нельзя доверять МФП в вопросе организации стачки против войны. Он не поддерживал разрушение фабрик, но отстаивал «ПРОМЫШЛМНЫЙ антимилитаризм», то есть сопротивление милитаризму на производстве. Лансинк, нс выступая против этого, настаивал на том, что нельзя требовать от рабочих ухода с военных предприятий в качестве предварительного условия для приема в анархо-синдикалистский союз. Испанский делегат также оговорился, что речь не идет о разрушении предприятий.
Отвечая на критику, де Ионг защищался: он не предлагал доверять МФП; он имел в виду лишь обращение к рядовым членам реформистских профсоюзов и пропагандистскую выгоду от того, чтобы поймать лидеров реформистов на слове. Одновременно он продолжал отстаивать разрушение средств ведения войны.
Вопрос так и остался спорным. Что касается идеи одновременного проведения конгрессов, то, по существу, никто не возражал, но следовало учесть еще организационные и финансовые моменты этого проекта. По предложению Иенсена окончательное решение было передано Секретариату МАТ [403].
Делегаты приняли «Резолюцию о войне и милитаризме». Она интересна нс только предложением программы конкретных мер, но и разработкой элементов теоретического анализа этого вопроса, традиционно важного для револ юционного синдикалистского движения.
Прежде всего резолюция давала общее определение милитаризма. «Милитаризм, — указывалось в документе, — есть система монополизированного государственного насилия с целью защиты или расширения национальной области эксплуатации (оборонительные и завоевательные войны), покорения новых областей эксплуатации (колониальные войны) и подавления сопротивляющихся и восстающих народных масс (стачек, агитации, восстаний)». Назвав милитаризм «последним и наиболее мощным средством буржуазии» для удержания трудящихся в повиновении и подавления их стремления к свободе, анархо-синдикалисты подчеркнули, что он служит исключительно интересам власти и прибыли господствуюших классов. Синдикалисты особо подчеркивали, что милитаризм не может быть освободительным. «Там, где в ходе национальнoосвободительной или классовой борьбы образуется новый милитаризм (Китай, Россия), он снова и снова оборачивается против самих рабочих, поскольку по самой своей сущности он служит лишь инструментом подавления масс в интересах привилегированного класса и должен быть врагом любой свободы». Поэтому задачу трудящихся они видели не в борьбе с нынeшним милитаризмом, а в уничтожении милитаризма как такового.
В резолюции содержалась программа действий по борьбе с милитаризмом во всех его формах. Сюда включались: пропаганда по подрыву духа милитаризма, дисциплины и подчинения, просвещение солдат и разложение основы армий; бойкот уже в мирное время различных добровольческих армий, белых, фашистских и иных милитаристских формирований; паралич действий армии в случае военных действий; индивидуальное и коллективнос уклонение трудящихся от воинской службы; отказ организованного пролетариата изготовлять и перевозить вооружения; стачки и саботаж; в случае начала войны — уничтожение военных и оружейных складов и разрушение предприятий военного производства; предотвращение новых войн; ликвидация основы для войны и милитаризма посредством социальной революции. В связи с этим конгресс потребовал, чтобы все СЖЦИИ МАТ пропагандировали и попытались как можно скорее организовать на практике уклонение от работы на военные нужды. Им надлежало также убедить рабочих военной промышленности в необходимости в случае войны начать забастовку, завладеть запасами военных материалов и соответствующими ресурсами, «изъять предприятия из их использования капитализмом». Секции должны были немедленно образовать комитеты по подготоже всеобщей стачки, которые могли бы объявить ес в случас угрозы войны, изыскать способы того, как завладеть предприятиями и жизненно важными точками страны и экспроприировать их у нынешних владельцев, а также найти средства для обороны своих завоеваний. Иными словами, речь шла о превращении «всеобщей стачки в победоносную революцию» [404].
По поручению португальских анархо-синдикалистов секретарь МАТ Сухи внес предложение о создании Фонда международной солидарности, упомянув также о послании французского «Комитета взаимопомощи», в котором высказывалась идея интернациональной системы солидарности, включающей МАТ наряду с другими организациями. Само предложение о международном фонде не вызвало возражений, но в отношении способа собирания взносов и объектов оказания помощи мнения разошлись. Представители НКТ, ФАИ и РСВКТ выступили за то, чтобы каждая секция сама автономно определяла, как собирать взносы; МАТ могла бы устанавливать лишь их общий размер. Шведский делегат Иенсен также поддержал принцип самостоятельности секций, а Лансинк оговорил для романских секций право определять, как собирать средства. В то же время делегаты из Бельгии (Шалан) и Испании настаивали на том, чтобы помощь оказывалась не всем, а только сторонникам МАТ. Напротив, Сухи, представители НС П (Лансинк) и ФАУД (Бетцер) считали, что круг участников и объектов может быть шире. Конгресс образовал комиссию шля редактирования проекта резолюции. В нее вошли секретарь МАТ и делегаты из Франции, Германии, Испании, Бельгии и Италии. После новой дискуссии по проекту было проведено голосование по каждому пункту, а затем в целом [405].
Указав, что «развитие международного капитализма приводит к тому, что борьба рабочих все больше принимает международный характер» и что интернациональные стачки и другие подобные выступления могли бы принести трудящимся успех в таких конфликтах, как дело Сакко и Ванцетти или забастовка британских горняков, III конгресс МАТ принял резолюцию о создании Фонда международной солидарности. Он был призван также оказать помощь в деле сохранения анархо-синдикалистских организаций в странах, где они подвергались преследованиям, а также придать международный характер работе в сфере солидарности, которая уже велась отдельными секциями. Учитывая опасения, которые высказывались некоторыми анархистами в связи с любыми центральными фондами и учреждениями, конгресс подчеркнул, что «самостоятельность никоим образом не должна подавляться, но должна быть предоставлена возможность с помощью международного сотрудничества предпринимать повышенные усилия в области солидарности во всех странах» и «в случаях чрезвычайных обстоятельств как можно скорее оказывать помощь нуждающимся товарищам». Конгресс принял решение объединить существующие национальные организации такого рода в «Международную федерацию солидарности либертарного революционного рабочего движения». Там, где таковых организаций еще не было, предлагалось создать их. Цель состояла в оказании «моральной и материальной» поддержки «жертвам классовой борьбы» — сборе и предоставлении денег, оказании юридической помощи. Международная солидарность должна была оказываться в тех случаях, когда с этой задачей не могла справиться национальная организация, при крупномасштабных преследованиях и арестах, для оказания помощи арестованным, ссыльным и членам их семей в странах с диктаторскими режимами (Италии, СССР, Чили, на Кубе и т.д.), для помощи политическим эмигрантам, а также семьям и детям жертв классовой борьбы. Все организации должны были сохранять свою самостоятельность и сами определять возможности сбора средств, однако обязывались ежемесячно докладывать о ситуации в своих странах и вносить регулярный взнос в международную федерацию, которая предоставляла ежегодный отчет. В особых случаях допускались экстренные международные сборы средств, которые должна была координировать федерация. Международная федерация входила в МАТ406 Резолюция была принята голосами всех делегатов, за исключением бельгийца Шалана, который заявил о непризнании пункта об определении размера взноса в фонд в зависимости от количества членов национальных организаций солидарности по согласованию с международным фондом [407].
Перед анархо-синдикалистами по-прежнему остро стоял вопрос об отношениях с другими ветвями и течениями либертарного движения. Шапиро и многие другиe настаивали на том, что Интернационал должен быть независимым от всех политических партий, «включая анархистскую» [408]. Некоторые анархисты (в частности, иберийские) ставили вопрос о возможности вхождения в МАТ несиндикалистских организаций. Подавляющее большинство синдикалистов было с этим не согласно. Вопрос был вновь поставлен на III конгрессе, и в результате делегаты приняли резолюцию «Отношение МАТ к непрофсоюзным организациям, разделяющим тот же самый идеал и методы борьбы, что и МАТ».
В единодушно принятом решении подчеркивалось, что Интернационал «не может принимать непрофсоюзные организации», поскольку они «по своим непосредственным задачам отличаются от деятельности МАТ». В то же время анархо-синдикалисты заявили о своей готовности к сотрудничеству со всеми организациями, «которые ведут революционную борьбу и стремятся к ликвидации политического и экономического угнетения пролетариата». Конгресс подтвердил прежнюю точку зрения: единственная организация, могущая объединить пролетариат для социальной революции и достижения либертарного коммунизма, — это МАТ, поэтому все либертарии должны присоединиться к революционным, анархосиндикалистским профсоюзам своих стран, и это облошт «дружеские отношения и чувства взаимной солидарности между организациями МАТ и революционными ИДСЙНЫМИ объединениями». Возможные союзы между ними могли, в соответствии с решениями конгресса, заключаться на уровне отдельных стран, и в этой связи делегаты приветствовали союз НКТ Испании и ВКТ Португалии с Иберийской анархистской федерацией, призвав иберийских анархистов вступить одновременно в анархо-синдикалистские профсоюзы, а товарищей из других стран — следовать этому примеру. (В действительности ВКТ не заключала соглашения с ФАИ, о чем позднее проинформировала МАТ в письме. [409]. Секретариату было поручено изучить возможности и найти средства для союза с либертарными и антиавторитарными группами в международном масштабе с ЦСЛЫО осуществления взаимной ПОДДСРЖКИ и интернациональной солидарности. В то же самое время конгресс подтвердил сотрудничество МАТ с Международным антимилитаристским бюро [410].
Конгрессу МАТ пришлось обсуждать и внутренние вопросы. Так, делегаты ВЫНУЖДСНЫ были заняться ситуацией, сложившейся в анархо-синдикалистском движении Голландии. В этой стране существовал синдикалистский профцентр НСП, но одновременно просьбу о вступлении подала Синдикалистская федерация фабричных организаций. Для решения «голландского вопроса» конгресс создал комиссию в составе секретаря МАТ [411]. Роккера, делегатов секций из Германии (Бетцср), Франции (Юар), Италии (Кремонини) и Бельгии (Брсню), а также (с информационной целью) — двух анархо-синдикалистов из Нидерландов (Лансинка и дс Ионга). Против создания голосовал только Лансинк [412]
Но комиссии так и не удалось прийти к единому мнению. Ее члены представили конгрессу два разл ичных предложения — признать временно обе организации (Иенсен) или созвать объединительный съезд НСП и Синдикалистской федерации (Юар). Роккер и Шмитц (ФАУД) поддержали идею провсдсния конгресса по объединению, но оговорили, что случай особый и возможно временнос решение до созыва такого форума. Лансинк (НСП) заявил, что сго организация против предложенного конгресса; он потребовал подтвердить членство НСП и установить твердую дату для вступления в нее Синдикалистской федерации. Напротив, де Ионг, выступая от имени федерации, согласился с проведением объединительного форума и с проектом Рокксра. Одновременно он призвал НСП отменить решение об объединении с Секретариатом труда (НСТ). В итоге проект Юара был принят девятью голосами против двух, а предложение Роккера и Шмитца — девятью голосами при двух воздержавшихся.
Поскольку, согласно статутам Интернационала, в каждой из стран могла существовать лишь одна секция, конгресс в «Резолюции по голландскому вопросу» постановил «временно и в порядке исключения» признать членство Синдикалистской федерации, однако при том условии, что она и НСП объединятся до 1 января 1929 г. [413]. Делегаты обсудили тяжелое положение французской секции анархо-синдикалистского Интернационала, которая, по заявлению ее секретаря Юара, нуждалась в финансовой поддержке. По предложению Иснсена (САК), поддержанному, в частности, представителями ФАУД Бетцером и Шмитцем, конгресс дссятью голосами против одного высказался за продолжение помощи РСВКТ; конкретную сумму предстояло определить Секретариату, в зависимости от доходов МАТ [414].
Спор на конгрессе возник между французскими анархо-синдикиистами и испанскими либсртарными эмигрантами во Франции. Делегат РС ВКТ Л. Юар повторил предложение о роспуске отдельных эмигрантских синдикалистских секций во Франции и ВСТУПлении их членов в его конфедерацию. Представители Н КТ Каррерас и Фарго заявили, что секции не принесли пользу движению, поскольку испанские эмигранты все равно состояли в Н КТ. Они поддерживали участие своих товарищей во французской РСВКТ, но отстаивали и деятельность НКТ во Франции [415].
Участники конгресса постановили принять в состав МАТ революционно-синдикалистскую оппозицию в польских профсоюзах [416]. Сухи говорил о желательности направить делегатов в Польшу, Болгарию, Чехословакию, Югославию и Грецию. Он призвал также Польскую анархо-синдикалистскую эмиграцию в Париже помочь организовать комитет по славянским странам в Париже. По этому вопросу разгорелись споры между польским представителем и Юаром (РС ВКТ). Йенсен (САК) предложил передать решение этих вопросов Секретариату МАТ [417].
Делегаты призвали к усилению пропагандистской работы в Латинской Америке. По предложению немецкого представителя Шмитца они высказались за проведение Панамериканской революционно-синдикалистской конференции. Правда, Бетцер (ФА УД) выразил опасения, что у Интернационала не хватит средств для того, чтобы послать европейского пропагандиста в Южную Америку, и предложил организовать конференцию с помощью мексиканской ВКТ. Но представитель ФОРА (Морис) заявил о согласии с идссй созыва Панамериканской конференции и создания Латиноамериканского бюро МАТ. Секретарь МАТ Сухи сообщил, что подготовка конференции уже в разгаре и в вопросе посылки делегата можно договориться с аргентинцами [418].
Членство ФАИ в МАТ не было одобрено как противоречащее статутам МАТ и ненужное, «поскольку члены этих групп являются также членами МАТ». В конечном счете по вопросу о федерациях были одобрены резолюции Маркова и Бстцсра [419].
Существенной проблемой для международной организации оставалась нерегулярная уплата членских взносов некоторыми из секций. Бельгийский делегат Бреню и немецкий представитель Бетцер высказали возмущение тем, что они не выполняют взятые на себя обязательства, и потребовали соответствующих мер [420].
В связи с этим конгрессу пришлось пойти на необычное решение. Он постановил, что организации, которые без уважительной причины не вносят установленные взносы, лишаются права РСИјающего голоса на конгрессах МАТ. При неуплате в течение двух лет секция переставала считаться членом МАТ [421].
Конгресс высказался за укрепление федералистской практики. Все больше утверждается мнение, — писал по этому поводу немецкий анархо-синдикалистский журнал «Ди Интернационале», — что все проблемы, выносимые на обсуждение международных конгрессов, подлежат вначале обсуждению в секциях отдельных стран и передаче делегатам в виде опрсдсленных директив, с тем чтобы РСШСНИЯ международных конгрессов были результатом совокупности опыта и уроков рабочего движения различных стран» [422].
Представитель САК Иенсен по поручению своей организации внес предложения о своевременной рассылке всех проектов резолюций и решений конгресса секциям и о ежегодном отчете Секретариата. Бельгиец Бреню призвал присылать секциям отчет Секретариата к конгрессу по крайней мере за месяц до его проведения. Секретарь Сухи выразил согласие с идеей Иенсена и, в свою очсредь, затребовал ежегодные отчеты от секции [423].
Делегаты обязали Секретариат своевременно рассылать сскциям все предложения, внесенные на конгресс, с тем чтобы они могли обсудить их и вынести решения. Он должен был за 4 месяца до конгресса запросить секции об их предложениях по повестке дня. Отчет Секретариата о его работе и о финансовом положении подлежал рассылке секциям за 6 недель до конгресса. Кроме того, было решено, что Секретариат будет составлять и рассылать организациям МАТ ежегодные отчеты, а также суммированную информацию от секций. Соответственно секции также обязывались каждый год присылать в Секретариат свои отчеты, которые служили основой для такой информации [424].
Среди других организационных рсшениЙ было единогласно принятое по предложению Юара постановление увеличить зарплату ведущему переписку секретарю МАТ Сухи на 40 марок в мссяц. Однако Сухи отказался от этого [425].
Местом пребывания Секретариата МАТ был вновь избран Берлин, а членами его — Сухи, Роккер и испанец Валериано Оробон Фернандес. Функции представителя МАТ в МАК были возложены на А. Мюллера-Ленинга. По предложению Иенсена Секретариату предстояло определить место проведения следующего конгресса4 [426].
Завершая работу, конгресс принял обращение к мировому пролстариату. В нем кратко говорилось о решениях форума. Однако этот круг задач, напоминалось в документе, «лишь малая часть» того, что предстоит сделать, поскольку окончательное освобождение может наступить только с исчезновением существующего общества. Подтвердив необходимость бороться с «любой политической опекой» и реформизмом, делегаты призвали рабочих вступать в МАТ и заявили: «Наши действия будут тем действеннее и мощнее, чем более полно пролетариат объединится... в Международной ассоциации Трудя ЩИХСя» [427].
Интернационал после Льежского конгресса
Международные органы, сформированные на Льежском конгрессе, регулярно собирались и обсуждали животрепещущие проблемы, с которыми сталкивалось анархо-синдикалистское движение. Секретарь МАТ Сухи докладывал в 1931 г. Мадридскому конгрессу Интернационала, что Секретариат оргаНИЗаЦИИ проводил заседания ежемесячно, каждый год проходили пленумы Бюро МАТ [428].
На пороге Великого кризиса анархо-синдикалисты выражали сомнения в истинности и прочности стабилизации капитализма. Так, Оробон Фернандес (до возвращения в 1931 г. в Испанию — один из секретарей МАТ) отмечал, что о «реставрации капиталистической системы» можно говорить лишь в той мере, в какой происходит «усиление капиталистического режима в политической области». Он констатировал такие признаки укрепления его позиций, как стремительное окончание периода послевоенного революционного брожения и воодушевления, переход капитализма к репрессиям и попыткам отобрать вырванные у него завоевания трудящихся, наличие тяжелого кризиса международного рабочего движения, который нашел отражение в «уничтожении революционных рабочих организаций» в одних странах и «заметном СНИЖСнии силы их сопротивления» в других. «Международный капитализм сумел быстро оправиться от оглушительного удара, который он получил в 1919—1920 годах и который всерьез угрожал его существованию. После оборонительного периода уступок и компромиссов он очень быстро перешел в наступление и стал повсюду наносить удары в убеждении, что это единственное средство, могущее предохранить его от потери своего господства как класса и системы». Это контрнаступление началось в области политики и было перенесено затем в экономическую сферу. «Результаты этого метода проявились в политической области в форме того реакционного и националистического режима насилия, которое называют фашизмом, а в экономичсской — в том индустриальном фашизме, которому присвоили красивое имя рационализации». При этом Оробон Фернандес подчеркивал, что дело не ограничивается установлением открыто фашистских или иных диктаторских режимов. Даже там, где демократия сохраняется по форме, также существует скрытая диктатура и торжествует «фашистский дух». В качестве доказательства Оробон ссылался на принятие антирабочего законодательства: законов против забастовок в Скандинавских странах и профсоюзов в Англии, закона о государственном арбитраже в трудовых конфликтах в Германии, репрессивных норм и мер во Франции и т.д. Испанский анархо-синдикалист говорил об «эпидемии диктатуры в Европе, Америке и даже в Азии» и о том, что ни реформистское, ни коммунистичсскос рабочее движение не могут сопротивляться капиталистическому наступлению по причине «бессильного оппортунизма, пагубной стратегии и очевидной бездарности».
В то жe самое время Оробон Фернандес отрицал, что происходит экономическое или структурное укрепленис капитализма. То, что он отбирает у трудящихся прежние уступки, навязывает им снижение зарплаты и индустриальную рационализацию, не означает, будто он стал «крепче и жизнеспособнее», «более совершенным и гармоничным». Напротив, подчеркивал он, «капитализм находится в настоящее время в процессе внутреннего разложения, которое не сможет залечить даже сго политический триумф над революционным рабочим классом». В качестве доказательства Оробон Фернандес ссылался на то, что периоды высокой экономической коньюнктуры стали все более короткими, а экономические кризисы — все более частыми, превратившись в «нормальное состояние» капиталистичсского хозяйства и порождая хроническую высокую безработицу и нищету. Само политическое наступление, по его мысли, призвано компенсировать эту внутреннюю слабость [429].
Анализ капиталистической рационализации производства и экономической структуры занимал одно из первых мест в теоретичсских и практических разработках анархо-синдикалистов в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Они пристально присматривались к широкому внедрению «наиболее быстрых и приспосабливаемых производственных методов» и «системы Тейлора», видя в них стремление предпринимателей «выдрессировать» и «стандартизировать» своих работников и их производственные качества и умсния, «понизить умственный уровень рабочих» [4З0]. Результатом рационализации становился бурный рост производства. Но цена сго была высока. Осуществляемая капитализмом рационализация методов производства, по мнению анархо-синдикалистов, неминуемо вызывала устойчивую и все возраставшую безработицу [431]. А эта безработица вела к образованию особого социального слоя, сщс более униженного и обездоленного, чем пролетариат. Эту проблему, утверждал Оробон Фернандес, нельзя разрешить политическим или законодательным путем. Единственный выход он усматривал в солидарности рабочих, которые должны отстаивать право на труд, не допускать увольнений и добиваться уменьшения продолжительности рабочего времени [432].
Анархо-синдикалисты обращали внимание и на негативнос воздействие рационализации, повышсния темпов, монотонности и стандартизации производства на организм и личность работника. Они резко осуждали повсеместное внедрение сдел ьной системы оплаты труда, видя в ней своего рода кнут, который заставляет работника увеличивать трудовую отдачу в конечном счете в ущерб самому себе, поскольку производство растет быстрее, чем сго заработки.
Более того, синдикалисты доказывали, что в действительности рационализация и «научная организация труда» ведут не только к ухудшению качества изделий в результате внедрения серийного производства, не только к соКРаЩСНИЮ числа занятых в ПРОМЫШленности в целом, но и к падению реальной зарплаты и покупательной способности масс [433].
В качестве мер сопротивления анархо-синдикалисты предлагали «создать в широких массах духовный настрой против рационализации», противодействовать сдельщине, добиваться сокращения рабочего времени, разоблачать реформистские профсоюзы, приНЯВШИС рационализацию, вводить рабочий контроль и требовать в ходе забастовок снижения цен на производимые товары с тем, чтобы сбивать прибыли предпринимателси [434].
Анархо-синдикалисты, безусловно, сделали шаг вперед, перейдя от простой критики капиталистических отношсний производства и распределения продуктов труда к критике капиталистических методов орган изации производства и труда. Это было существенным продвижением в сторону того, что экологически ориентированные исследователи назвали через полвека «критикой индустриальных производительных сил». Но в большинстве случаев речь шла действительно лишь о первых шагах. Чаще всего анархо-синдикалисты не отвергали при этом саму современную технику как таковую, но лишь ес использование капитализмом. «Социализм, который является прогрессивным учением, не против машин и не против людей. В прошлом он с одинаковым рвением боролся как с луддитами, так и с мальтузианством, а в отношении новейших СОЦИИЬно-тсхнических проблем современности он учит, что машины не следует разрушать, но надо заставить их служить людям», — писал, например, итальянский синдикалист Джованнетти [435]. Лишь у немногих анархо-синдикалистов в то время уже формировались элементы представлений о том, что далеко нс каждая «машина» действительно может «служить л юдям».
Среди них был Рудольф Роккер. В принципе и он выступал за внедрение технических усовершенствований, которые позволяли бы экономить труд людей, но подчеркивал: «Хотя развитие механичсского производства и улучшение методов труда и привели к гигантской экономии в процессе производства, однако бремя трудящихся в итоге не стало меньше, напротив, оно стало более тяжким и диВЯЩИМ». Предприниматели воспользовались этими нововведениями для того, чтобы продлить рабочее время и снизить заработки. Осуществляемые технические внедрения, отмечал немецкий анархо-синдикалист, вызываются не стремлением облегчить труд людей, а потребностями новой фазы капиталистического развития — перехода от «свободной конкуренции» к «коллективному капитализму» трестов и государств. «Капитализм начал новую эпоху, писал Роккер, — стремясь прорвать все границы так называемых национальных экономических областей, чтобы прийти к системе мирового хозяйства, что означает систематическую эксплуатацию всего мира в соответствии с универсальными критериями. Капитал, который прежде еще чувствовал себя связанным определенными национальными экономическими интересами, все больше перерастает в мировой капитал». Но Роккер обращал внимание не только на экономическую и материальную сторону вопроса. «Рабочий на современном предприятии есть всего лишь машина из мяса и костей, движения которой приспособлены к ритму машины из стали и железа», — писал он [436]. Более того, анархо-синдикалистский теоретик понимал, что внедрение ряда новых технологий изменяет сам характер труда и подры вает способность и желание работника контролировать производство в целом. «Ремесленник и цеховой подмастерье минувших столетий еще имел возможность полностью охватить взглядом свою профессию и точно знал место, которое он лично в ней занимал. Он совершенно точно знал, какую роль он играет в процессе производства. Современный индустриальный рабочий, чья производственная деятельность подчинена растущему и доходящему до деталей разделению труда, потерял всякое представление о своей отрасли и ощущает себя всего лишь деталью в чудовищНOМ механизме, на ход которого он лично не оказывает ни малейшего влияния». Правда, Роккер еще надеялся на то, что окружение и опыт могли дать работнику ощутить гигантскую силу коллективных действий и коллективной борьбы [437].
Призыв покончить с подчинением человека машине и производству был огромным шагом вперед по сравнению с продуктивизмом большинства социалистов индустриальной эпохи.
Некоторые анархисты шли в своей критике индустриализма еще дальше. Ряд антиавторитарных изданий опубликовал в 1929 г. статью «Взятие предприятий или создание общества заново?». В ней вообще отрицалось, что либертарныс трудящиеся могут взять в свои руки существующие капиталистические предприятия, поскольку они являются централистскими по своей структуре и организации, между тем как социалистические предприятия должны быть федералистскими. Для многих анархо-синдикалистов это было уже «чересчур». Так, немецкий синдикалист Хельмут Рюдигер обрушился на отказ от «концентрированного, строго организованного производства вообще» в пользу «каких-нибудь антикварных идеалов из прошлых экономических эпох». Но даже он признавал, что проблема не столь проста, как видится тем, кто хотел бы просто передать существующую экономику в руки трудящихся, и что «этот процесс отнюдь не является автоматическим». «Ныне ИМеЮЩеССЯ капиталистическое производство — отнюдь не то, какое может служить основой социалистической экономики, ориентированной на потребности, — отмечал Рюдигер. — Правда, наличные технические производительные силы предоставляют такую основу, но не форма и не способ организации и использования этих производительных сил в сельском хозяйстве, в промышленности, на предприятии. Вследствие этого социализм не перенимает капиталистические предприятия, но создает новые, он отбрасывает многие из прежде сутцествовавших профессий (равно как нуждается в специалистах в других) в пользу реорганизации производства на основе новых критериев» [438].
В условиях «рационализации» анархо-синдикалисты видели свою задачу рабочего движения в том, чтобы на «прямое действие капитализма» ответить прямым действием пролетариата, решительно отвергнуть любое примирение между классами. Оробон Фернандес призывал к «непрерывной борьбе с тем, чтобы вернуть утраченныс позиции и расширить их», к сопротивлению «против абсолютистского капитализма, который находит свое выражение в фашизме, в демократическо-фашистском законодательстве и в рационализации хозяйства» [439].
В октябре 1929 г., согласно данным Секретариата, в секциях МАТ состояло около 222,8 тысячи членов [440].
В качестве образцовой анархо-синдикалистской работы Интернационал рекомендовал в этот период опыт аргентинской ФОРА и шведской САК. Комментируя забастовочную борьбу аргентинских рабочих-анархистов, бюллетень МАТ подчеркивал в статьс «Блестящая победа анархо-синдикалистских методов»: «...Революционный боевой дух и применение прямого действия обеспечили рабочим успех. Бои аргентинского пролетариата показывают рабочим всего мира, как следует вести забастовки... В то время как почти все конфликты, которые вели в последние годы реформистские профсоюзы в различных странах, были проиграны, аргентинский пролетариат, применяя анархо-синдикалистские методы борьбы, одерживает один успех за другим». МАТ призывала следовать аргентинскому примсру [441]. Что касается швсдской организации, то МАТ ставила в пример работу ее ежегодных образовательных курсов [442].
В новой ситуации, полагали анархо-синдикалисты, рабочим следует шире прибегать к борьбе на международном уровне. Роккер призывал противопоставить капитализму «единую экономическую политику труда» в мировом масштабе. Он подчеркивал необходимость освобождения трудящихся от привязки к национальным экономичсским интерссам [443]. Синдикалисты понимали, что это задача чрезвычайной сложности, поскольку «интересы работников одной страны часто совпадают — по крайней мере, на первый взгляд, — с интересами их классовых врагов, капиталистов, в то время как интересы работников других стран кажутся противоположными». Но иного выхода, с их точки зрения, нс было. ТруДящиССя стран, которые добились более высокого уровня жизни и оплаты труда, должны были не защищать свои достижения, отграничиваясь от других и за их счет, а поддерживать рабочих других стран в борьбе за выравнивание этого уровня. Если до сих пор в ходе стачек или акций бойкота, которые затрагивают трудящихся различных стран, работники ограничивались платоническими выражениями симпатии или сборами средств, то теперь необходимо проводить интернациональныс выступления с тем, чтобы добиться установления единой во всем мире минимально гарантированной оплаты труда прежде всего в таких отраслях, как горное дело, металлургическая и сталелитейная промышленность, текстильнос производство, строительство и сельское хозяйство, а такке наладить рабочий контроль над использованием сырья, машин и т. д., подчеркивал Сухи. В то же самое время он признавал, что МАТ слишком слаба для того, чтобы организовать подобные выступления в одиночку; для этого необходимо сотрудн ичество рабочих организаций «вссх стран и направлений» [444]. Перспектива потенциальных международных выступлениЙ побуждала анархо-синдикалистов внимательно относиться к ситуашии в различных странах и соответствующим различиям в положении и практике борьбы трудящихся. Приходилось реагировать и на новую практику регулирования трудовых отношений. Так, синдикалистам пришлось все больше сталкиваться с заключением коллективных и тарифных соглашений между предпринимателями и реформистскими профсоюзами, которые действовали от имени всех работников предприятия или отрасли. По просьбе шведской САК Секретариат МАТ провел опрос секций Интернационала относительно позиции анархо-синдикалистов этих стран по вопросу о коллективных договорах [445]. Отвсты выявили как сходство, так и различия, которые существовали в практике различных организаций. Итальянский УСИ сообщил, что революционные синдикалисты этой страны заключали коллсктивньс договоры с 1906 г., но одновременно вели борьбу против соглашений, заключаемых реформистскими союзами, поскольку те СВЯЗЫВШIИ трудящимся руки. Так, УСИ удалось в 1920 г. сорвать на многих предприятиях договоренность, подписанную реформистским союзом металлистов, и заменить се новой, более выгодной для рабочих. Что касается сельского хозяйства, то здесь синдикалисты были против заключения КОЛЛСКТИВНЫХ договоров, считая ситуацию в этом смыслс неблагоприятной. В целом итальянские анархо-синдикалисты выступали «против любых оков, против чересчур длительного срока дсйствия договоров», стремились «оставлять открытой возможность изменить договор в соответствии с текущими потребностями» и реально способствовать всестороннему улучшению положения работн ИКОВ [446]. Другое дело, что в условиях фашистской диктатуры в Италии профобъединение не имело никаких шансов осуществить эти свои взгляды на практике. Французские синдикалисты со времен довоенной ВКТ выступали против закрепленных законом, обязательных для исполнсния, предполагатцих государственную гарантию и арбитраж и рассчитанных на длительный срок коллсктивных договоров, но не против соглашений, которые фиксировали конкретные результаты борьбы на данный момент. РС ВКТ предложила типовой проект колдоговора, в котором предусматривались сокращение рабочего времени, запрет сверхурочного труда, трудоустройство с согласия рабочего Совета предприятия, введение отпусков и т.д. Срок действия соглашения нс оговаривался, так что любая из сторон могла изменить его в любой момент, если ощущала себя достаточно сильной для этого. Некоторые договоры заключались на полгода или на год [347]. Шведская САК в момент создания в 1910 г. осудила «связывающие» договоры и тарифные соглашения как играющие «на руку предпринимателю в еще большей степени, чем штрейкбрехерство и предательство». Вместо них шведские синдикалисты провозглашали «в социальной области перманентное состояние войны». Последующие конгрессы САК подтвердили и даже ужесточили эту позицию. Однако по мере роста синдикалистского движения часть групп САК стала настаивать на ее пересмотре. Конгресс САК 1925 г. в принципе высказался против коллективных договоров, однако разрешуш местным организациям заключать их, если они оказывались вынуждены это сделать. Альтернативой шведские синдикалисты считали осуществлявшуюся ими систему Голландские синдикалисты в принципе отвергали колдоговоры. Если они вели борьбу самостоятельно, то обычно не выдвигали требований о заключении колдоговоров. В случае, когда в конфликте с предпринимателями участвовали различные рабочие организации, то НСП прибегало в этом вопросе к различной тактике, в зависимости от ситуации и условий. В таких странах, как Испания и Португалия, а также в Южной Америке практики коллективных договоров в тот период не существовало; повышения зарплаты или улучшений условий труда удавалось добиться только с помощью стачек. Только в Мексике союзы ВКТ вели борьбу за заключение выгодных коллективных соглашений; предпринимались меры по ее координации в масштабе всей страны. Так, Vl конгресс ВКТ в июне 1928 г. принял соответствующую резолюцию, которая предусматривала взаимное информирование отраслевых федераций об условиях труда и зарплаты, установление на основе совместных действий исполкома ВКТ и федераций согласованных уровней оплаты для различных отраслей и предприятий, а также ориентацию на ликвидацию СДеЛЬЩИНЫ [449].
Суммируя отношение анархо-синдикалистов к проблеме коллективных договоров, секретарь МАТ Сухи отмечал несколько основных моментов. Прежде всего в принципе «синдикалисты всех стран — противники долгосрочных коллективных договоров, и повседневный опыт снова и снова подтверждает правильность их позиции». В то ке время он признавал, что такого рода соглашения — «прогресс» по сравнению с индивидуальной «договоренностью» между предпринимателем и каждым работником в отдельности, поскольку предполагает наличие рабочей организации, что облегчает отстаивание интересов работников и ограничивает произвол предпринимателя. Именно такая организация, а нс коллективный договор — залог улучшения положения трудящихся. «Не заключение коллективных Договоров само по себе, а преДшествующая борьба, сиа рабочи организаций и влияние, которое они могут оказать на преДпринилателей, служат важнейшими факторами прогресса трудя щихся. Коллективные договоры есть лишь формальное выражение результатов трудовой борьбы». Выражая пониманис стремления работников «закрепить свои достижения» в борьбе «договорно», Сухи подчеркивал опасность, которую таят в себе договоры, заключаем ые на длительный срок и сковывающие рабочим руки. Он утверждал, что и революционные профсоюзы вынуждены заключать коллективные договоры и зарплатныс соглашения с предпринимателями, более того, лучше, чтобы их заключили именно эти союзы, а не реформистские. Но одновременно секретарь МАТ настаивал на том, что залог закрепления достижений — это «в первую очередь и главным образом» сами рабочие организации, их мощь, способность и желание отвстить на любую попытку контрнаступления со стороны предпринимателей. И лишь во вторую очередь — «договоры с предпринимателями, которые, однако, должны быть как можно более краткосрочными и оставлять работниксм свобоДу Действий» [450]. Таким образом, Секретариат МАТ вновь пытался найти формулу, которая должна была примирить весьма различную практику анархо-синдикалистских организаций в отдельных странах.
Международным днем действий для мирового анархо-синдикалистского движения было 1 мая. Бюро МАТ регулярно выступало с традиционным Первомайским манифестом, в котором давало оценку текущей ситуации и определяло насущн ые задачи револ юционного синдикализма. Так, воззвание к 1 мая 1929 г. — последнего года перед наступлением Великого кризиса — ужe проникнуто ощущением надвигавшейся катастрофы. «Никогда еще рабочие не находились в более опасном положении», — предупреждала МАТ. Мировой капитал, говорилось в документе, готовит «состояние индустриального феодализма и хочет вссми средствами подчинить рабочих этому состоянию, отсюда кризис демократическо-парламентской системы во многих странах и жажда неприкрытого господства насилия» [451]. Интернационал призывал «противопоставить фаланге международного капитализма фалангу международного организованного труда». Он рекомендовал трудящимся выдвигать мая такие лозунги, как внедрение во всех странах 6-часового рабочего дня, контроль над предприятиями со стороны рабочих организаций (так, чтобы они получили возможность сокращать рабочий день и увеличивать заработки в связи с развитием производствснных методов), установление единого международного уровня реальной зарплаты для работников всех стран, подготовка рабочих к борьбе против фашистской и военной мая 1929 г. анархо-синдикалисты организовали выступления во многих городах и странах. В Германии повсюду состоялись демонстрации; в Берлине она прошла, несмотря на официальный запрет; в ходе столкновений с полицией многие участники были ранены, 1 человек арестован. Шведская САК провела манифестации в Стокгольме и других городах. Пропагандистские мероприятия были организованы во Франции, Бельгии и Швейцарии, Аргентине, Уругвае, Мексике, Гватемале и других странах. В Испании, невзирая на запрет, анархо-синдикалисты провели первомайскую стачку; акции рабочих, особенно в Барселоне, сопровождались сотнями арестов4 [352].
К I мая 1930 г. МАТ выдвинула лозунги: «За освобождение всех политических и СОЦИИЬНЫХ заключенных», «За 6-часовоЙ рабочий день и рабочий контроль» [453]. Лозунги к Первомаю 1931 г. остались, по существу, теми же: за 6-часовой рабочий день, против угрозы войны и подготовки к ней, против реакции и фашизма, за освобождение политзаключенных, за создание либертарно-социалистического общсства [454]. Секретариат МАТ направил телеграмму конгрессу Амстердамского Интернационала профсоюзов в Стокгольме, предложив организовать общую кампанию за шестичасовой рабочий день, но ответа нс получил. «Крупные самостоятельные акции МАТ до сих пор были невозможны. Для них все еще не достает масс», сокрушенно признавал Сухи в отчете IV конгрессу анархо-синдикалистского Интернационала в Мадриде в 1931 г. [455].
Важнейшим направлением работы МАТ оставалась международная поддержка забастовочных выступлений трудящихся. Осенью 1928 г. Секретариат обратился ко всем революционным рабочим мира с призывом к солидарности с бастующими металлистами бельгийского города Льежа, к сбору средств в их поддержку. В послсдуюшем делались призывы поддержать борьбу рабочих Германии и Норвегии. МАТ выразила соболезнование шведской САК в связи с расстрелом бастующих рабочих в Адалене в мае 1931 г. [456]. Анархосиндикалисты выражали солидарность нс только с единомышленниками, но и с преследуемыми представителями других направлений рабочего движения. Так, после подъема ультраправого лапуасского течения в Финляндии «Финляндский комитет» в Швеции, в котором участвовали также члены САК, призвал швсдских трудящихся добиваться расследования положения репрессированных финских рабочих. МАТ поддержала призыв шведского рабочего движсния и призвала своих сторонников выносить вопрос о преследованиях в Финляндии на обсуждение собраний трудящихся, принимать резол юции протеста и отсылать их в ХеЛЬСИНКИ [457].
Продолжалось оформление международных отраслевых федераций МАТ. 20—22 октября l928 г. при участии секретаря Интернационала прошла конференция Международной федерации синдикалистов-строителей. Присутствовали делегаты от федераций строителей Германии (к этому времени расколовшейся на две враждующие фракции, обе из которых прислали своих представителей), Голландии, Франции и Бельгии. В связи с тем что 2-й конгресс МАТ рекомендовал строительным рабочим обсудить вопрос, целесообразно ли существование отдельной международной федерации в этой отрасли, конференция постановила все же сохран ить ее. центр федерации был перенесен во Францию, а функции Секретариата переданы французской синдикалистской федерации строителей. Делегаты приняли резолюцию, которая обязывала обе немецкие фракции объединиться до следующей конференции. Бельгийские строители попросили направить к ним синдикалистских агитаторов. Наконец, французской организации было поручено изучить вопрос о международной миграции рабочей силы в данной
Секретариат МАТ поддерживал тесные связи с национальными сскциями Интернационала. Его делегаты присутствовали на конгрессах анархо-синдикалистских организаций Швеции (1929 г.), Германии, Франции и Нидерландов (1930 г.), на учредительном конгрессе АКАТ в Буэнос-Айресе (1929 г. [459]. Приходилось заниматься и разрешением конфликтов между различными течениями движения.
В 1928 г. в отношениях между МАТ и НСП возник кризис в связи с решением большинства НСП объединиться с НСТ на условиях выхода НСП из МАТ. Интернационал сожалел о том, что в результате провала объединения с НСТ его голландская секция НСП потеряла ряд членов, однако с удовлетворением отметил, что «голландская секция сегодня стоит на более ясной принципиальной позиции, и это следует весьма приветствовать, поскольку в многолетней борьбе по вопросу о принципиальной ориентации было совершенно необходимо вполне однозначно выделить принципы антиавторитарного и революционного синдикализма в противовес всем неясн ым формулировкам, за которыми скрывалось стремление к партийно-политической гегемонии в той или иной форме» [46О].
В Японии после раскола между анархо-коммунистами и синдикалистами Секретариату МАТ пришлось выбирать между боровшимися сторонами. Его выбор оказался в конце концов на стороне синдикалистов. В отчете Секретариата «МАТ в 1929 г.» раскол в анархо-синдикалистском рабочем движении Японии оценивался уже «как решающая горячая борьба» «между анархистами и синдикалистами», причем «анархисты проявили себя в качестве защитников своего рода крестьянского федерализма, тогда как синдикалисты изображались ими как ораничснн ые городами централисты». «В организации, близкой к МАТ, — указывалось в отчете, — в конце 1928 г. произошел раскол, который, по поступающим сообщениям, в 1929 г. еще не был преодолен» В свою очередь, японские анархо-коммунисты подвергли критике международный синдикализм. В декабре 1929 г. их газета «Кокусёку сэйнэн» писала: «В настоящее время анархистское движение в Японии прогрессирует в больших масштабах. В других же странах мы видим анархистское движение, связанное с синдикалистами. Но мы не одобряем этого в нашей стране, рассеивая синдикалистское движение так же, как делаем это с коммунистами» [462].
Анархо-синдикалисты вели антимилитаристскую агитацию. В традиционном воззвании Секретариата МАТ к годовщине Первой мировой войны в 1928 г. обращалось особое внимание на опасность химического оружия и на необходимость международной всеобщей стачки в случае войны, в особенности на химических заводах [463]. В марте 1929 г Международное антимилитаристское бюро выпустило совместно с Интернационалом противников войны, Комитетом Международной женской лиги и Международным обществом примирения общий манифест против войны [464]. В принятом летом 1929 г. обращении МАТ и МАБ «К рабочим всех стран: На борьбу против грозящей опасности войны» подчеркивалось, что все организуемые государствами международные конференции по разоружению есть лишь «трагикомический пролог рядущей катастрофы». Анархо-синдикалисты не верили в то, что такие международные инструменты, как Лига Наций, действительно хотят и могут предотвратить новую мировую войну, поскольку они являются «творением империалистических держав» [465]. Очередной манифест МАТ к годовщине начала Первой мировой войны, опубликованный в 1930 г., был выдержан в тех же традиционных тонах [466]. Международная антимилитаристская комиссия издавала антивоенные бюллетени на многих языках и вела энергичную борьбу против милитаризма. Она собирала материалы из различных стран относительно подготовки к войне, участвовала в антимилитаристских манифестациях. Секретарь комиссии посещал различные страны и принимал участие в конференциях, посвященных опасности войны. Комиссия протестовала также против правительственных преследований революционных трудящихся [467].
К антифашистскому движению, организованному коммунистами, анархо-синдикалисты отнеслись критически. Так, когда в марте 1929 г. в Берлине был созван «Международный антифашистский конгресс», МАТ и испанская НКТ направили на него своих представителей с совместным предложением создать всемирную пролетарскую организацию «Международный единый фронт против фашизма и диктатуры»: Такая организация должна была, по их мысли, быть независимой от политических партий, выступать за возможность свободно вести пропаганду не только в странах с фашистскими и диктаторскими режимами, но и в СССР, проводить собрания, добиваться предоставления политического убежища преследуемым, проводить бойкот фашистских держав, готовить сопротивление и революционную всеобщую стачку. Неудивительно, что коммунистическое руководство конгресса положило проект под сукно [468].
Интернационал призвал в 1928 г. отметить годовщину казни Сакко и Ванцетти 23 августа проведением массовых протестов. 6-й конгресс мексиканской ВКТ постановил организовать митинги памяти казненных [469]. Как сообщалось в бюллетене МАТ, демонстрации прошли во всех странах, где имелись ее секции. В Аргентине помимо манифестаций и собраний, организованных повсюду, где действовала ФОРА, были проведены всеобщие стачки в Росарио, Мендосе и ряде небольших городов. Во Франции выступления были запрещены властями [470].
Предпринимались попытки упорядочить организацию международной солидарности анархо-синдикалистов. Как признавал на IV конгрессе МАТ секретарь Интернационала Сухи, фонд солидарности существовал далеко не во всех странах. В Германии ФАУД осуществляла практику установленных взносов. В Нидерландах действовал собственный фонд, связанный и с МАТ. В первой половине 1931 г. он оказывал поддержку итальянским, шведским и другим анархо-синдикалистам и затратил на это около 350 гульденов [471]. Во Франции 2-й конгресс РС ВКТ принял осенью 1928 г. решение о введении международных взносов. Однако попытки организовать во Франции Фонд международной солидарности вызвали трудности, поскольку в этой стране уже имелся «Комитет взаимопомощи» [472]. Аргентинская ФОРА известила Секретариат и секции МАТ о том, что не может больше разобраться в многочисленных просьбах о сборе помощи, которые присылались различными комитетами из Европы. Она посылала средства в Фонд солидарности МАТ и рекомендовала всем комитетам обращаться в МАТ [473]. В целом Аргентина хорошо выполняла взятые на себя обязательства в этой области, переводя треть взносов в МАТ. После стачки работников фирмы «Дженерал моторс» ФОРА в Буэнос-Айресе немедленно перечислила в Фонд солидарности тыс. песо [474]. Тем не менее, как признал А. Сухи на IV конгрессе МАТ, к моменту его проведения касса фонда была пуста [475].
МАТ по-прежнему оказывала поддержку товарищам, репрессированным в различных странах мира. Велась кампания в поддержку итальянских анархистов Лучетги, Станьети, Галлеани, Кастанья, Бономини, ди Модуньо [476]. В годовом отчете за 1930 г. Секретариат МАТ снова напомнил о том, что итальянские товарищи нуждаются во всемерной материальной и моральной поддержке [477]. В бюллетене Интернационала регулярно публиковались списки арестованных, сосланных, ожидающих суда и находящихся под полицейским надзором членов итальянского УСИ [478] информация об арестах и приговорах против анархистов в Италии [479], Болгарии [480], CCCP [481]. В ноябре 1929 г. Секретариат МАТ выпустил обращение в поддержку преследуемых революционеров в Советской России [482]. Он направил также протест Совнаркому против вынесения приговора в СССР итальянскому анархисту Гецци, осужденному на три года заключения 483 В конце 1929 г. Интернационал опубликовал новое послание Совнаркому и трудовому народу Советской России с требованием освободить итальянского товарища. Очередное письмо Совнаркому было отправлено осенью 1930 г.; за ним последовала телеграмма, адресованная Сталину [484]. МАТ продолжала привлекать внимание к судьбе ГеЦЦИ. Интернационал призывал рабочих всех стран протестовать против заключения итальянского анархиста и требовать его освобождения [485]. В 1930 г., как сообщалось в ежегодном отчете Секретариата МАТ, регулярная помощь из международных фондов солидарности оказывалась преследуемым товарищам из Италии, Болгарии и России. Удавалось — не без труда — помогать и почти всем эмигрантам. Однако к концу 1930 г. в ситуации экономического кризиса средства фондов оказались почти исчерпаны [486].
Комитет помощи ИАТ арестованным в России в течение 1929 г. оказывал регулярную поддержку сотням заключенных и сосланных российских анархистов и синдикалистов [487]. 8 ноября 1930 г. вышел специальный номер бюллетеня МАТ, посвященный России. Он открывался воззванием Секретариата МАТ «К мировому пролетариату! К революционным синдикалистам и анархистам!», разоблачавшим большевистский режим и призывавшим трудящихся организовывать собрания, сборы средств в помощь «жертвам большевистской диктатуры». Номер содержал «Список преследуемых анархистов и синдикалистов в России», в который были включены 132 фамилии, информацию о положении заключенных в советских тюрьмах и ссылках, отрывки из их писем, статьи и призывы о помощи, написанные Роккером, Беркманом и Шапиро, а также соответствующее обращение созданного МАТ Фонда поддержки арестованных и сосланных анархистов и анархо-синдикалистов в России. Согласно отчету Беркмана, покинувший пост секретаря фонда 31 июля 1930 г., с декабря 1926 г. фонд собрал в общей сложности 10 549 долларов США, из которых 8667 долларов были посланы заключенным и сосланным, 1660 долларов истрачены на печатание бюллетеней, рассылку, размножение информации о России на различных языках, переписку с заключенными, отправку им продуктов и литературы и т.д. Остаток в размере 202 доллара США и 4 фунта стерлингов 25 шиллингов был отослан Роккеру в Берлин [488]. После октября 1930 г. фонд был переведен из Парижа в Берлин, где его работа продолжалась в более тесном контакте с Секретариатом Интернационала и под его непосредственным контролем. В ежегодном отчете МАТ отмечалось, что изза экономического кризиса приток средств сократился и понадобились новые энергичные усилия для пополнения фонда. В последние месяцы 1930 г. была начата соответствующая пропагандистская кампания, которая развивалась успешно [489]. Согласно отчету на IV конгрессе МАТ в 1931 г. на нужды помощи России поступило 8107 марок, а истрачено было 7832 марки. Только строители Барселоны направили в «Русский фонд» 1 тысячу песет [490].
Секретариат распространял издание рисунков испанского художника Элиоса Гомеса: вся выручка шла в фонд помощи заключенным в этой стране [491].
МАТ вновь призвала к борьбе за освобождение в Аргентине Радовицкого. Секретариат поддержал обращение аргентинской ФОРА с просьбой о помощи со стороны международного рабочего ДВИЖения. Анархо-синдикалисты Германии провели демонстрации солидарности с Радовицким в Берлине и Лейпциге, направили протесты в посольство Аргентины. Шведская САК призвала рабочих посылать письма и телеграммы протеста против заключения аргентинского анархиста в представительства этой страны. Митинги протеста и направление писем были организованы также французской РСВКТ [492].
В целом, как указывалось в отчете Секретариата МАТ за 1929 г., «оказание солидарности было одной из первоочередных задач МАТ. Эти усилия... поглощали часть энергии Интернационала, но в результате было достигнуто то, что преследуемые товарищи, благодаря оказанной им помощи, почувствовали, что борются за идеал, обладающий силой и мощью и разделяемый наемными рабами всего мира» [493].
Одной из форм солидарности стала поддержка анархо-синдикалистских изданий различных стран. При помощи Секретариата МАТ в конце 1930 г. в Болгарии было начато издание газеты «Работник»; оказывалась помощь польской газете, а также органу Итальянского синдикального союза в эмиграции «Гуэрра ди классе». Последнее издание, правда, вызывало недовольство некоторых анархо-синдикалистов. Так, российский эмигрант Лазаревич, выступая в 1931 г на IV конгрессе МАТ, заявил, что редактор газеты — анархист, который пытается выдерживать ее «в несиндикалистском духе», и призвал Интернационал оказать воздействие с тем, чтобы сменить редактуру [494].
Во исполнение решений Льежского конгресса, Секретариат МАТ приступил с 1929 г. к публикации ежегодных отчетов о работе МАТ. В них включалась информация о ситуации движения в различных странах, деятельности секций за истекший период и т.д. [495]. Пресс-бюллетень МАТ выходил чаще, чем ежемесячно. Он выпускался Секретариатом на НСМеЦКОМ, французском, эсперанто, английском и испанском языках.
После падения диктатуры Примо де Риверы в Испании началось возрождение анархо-синдикалистского движения. МАТ очень скоро пришлось втянуться в разгоравшийся внутри испанской секции конфликт между радикалами и умеренными. В центре споров с самого начала оказался вопрос о допустимости взаимодействия с политическими силами. В отчете Секретариата МАТ за 1930 г. этот спор оценивался следующим образом: «...Наши товарищи вынуждень: были добиваться ликвидации запрета. Это требование побудило их образовать фронт вместе с буржуазными демократами и социалистами. Это настоятельно вытекало из данных условий. В результате такого положения вещей встал вопрос, должны ли революционные трудящиеся объединяться с демократами и республиканцами, чтобы сформировать сплоченную фалангу в борьбе за немедленные требования, что, вне всякого сомнения, усилило бы силу оппозиции против правител ьства. Некоторые активисты НКТ были за временное сотрудничество, другие против. Вопрос имел столь большее значение, что им занялись и синдикалисты других стран» [496].
Ситуация в Испании обсуждалась на заседании Бюро МАТ 1—2 июня 1930 г. в Берлине [497]. В работе приняли участие делегаты из Германии (Фриц Катер, Карл Виндхофф, Вальтер Марков, Эрих Киш), Франции (Жюэль), Голландии (де Йонг), Швеции (Йенсен, Джон Андерссон) и Испании (Пестанья), а также секретари МАТ Сухи (имевший также мандат от Португалии) и Оробон Фернандес [498].
Псстанья защищал линию руководства НКТ; его поддержал Сухи. Согласно документу, который распространяли зарубежные анархисты и анархо-синдикалисты в Барселоне весной 1937 г., «Сухи вместе с Пестаньей отстаивал крайне реформистский синдикализм, открыто направленный против анархистского синдикализма». Пленум «единодушно протестовал против реформистских и анти-анархо-синдикалистских позиций А. Сухи и Пестаньи. Товарищ Оробон Фернандес... протестовал против фальсификации Пестаньи и Сухи, которые представляли свою программу нейтрального синдикализма как программу НКТ Испании» [499].
Обсудив ситуацию в НКТ и Испании, участники приняли манифест «К испанскому пролетариату!», приветствовав ликвидацию диктатуры как «брешь в стене реакции» и надежду на возрождение анархо-синдикалистского движения в Испании. Они отметили, что синдикализм вышел из диктатуры усилившимся. МАТ приветствовала начавшиеся реорганизацию и подъем НКТ как «единственной революционной массовой организации, способной вести действенную борьбу против капитализма и реакции» — в отличие от СОЦИалистического профобъединения ВСТ, которое «бесстыдно» сотрудничало с диктатурой. МАТ приветствовала всех товарищей, которые все еще находились под арестом или подвергались преследованиям.
В манифесте выражалась надежда на то, что в истории Испании открывается новый период пробуждения, и оно повлечет за собой глубокие политические и социальные преобразования. МАТ остерегала рабочих от демократических иллюзий, а также от опасности «государственного социализма» (в лице социал-демократов, сталинистов и троцкистов, стремящихся «использовать рабочее движение ради своих собственных политических амбиций»). «Слово ”демократия' — это одна из излюбленных иллюзий, с помощью которых стараются усыпить трудящиеся массы. Но политическая демократия имеет мало общего или вообще ничего общего не имеет с социализмом. Именно он принесет пролетариату бoльшую свободу и ббльшее благосостояние. Но он не может быть введен политическими элементами, которые, как бы они себя ни именовали — монархистами, республиканцами ши социалистами, — всегда являются и будут являться более или менее открытыми опорами капитализма. Введение этого социалистического и экономически свободного сообщества должно быть делом самих рабочих, объединснных в революционную экономическую организацию», какой является НКТ. Интернационал высказался в поддержку выступления НКТ за свободы слова, организаций, печати и собраний как за «неотъемлем ые условия для свободного развития рабочего движения». Эти свободы следует защищать с помощью методов прямого действия. Но, разумеется, не следует этим ограничиваться. МАТ призвала испанский пролетариат вступать в НКТ и бороться за ликВИДаЦИЮ капитализма и государства, за создание нового общества.
Делегаты пленума обсудили также предложение Секретариата Американской континентальной ассоциации трудящихся о провсдении международной акции против безработицы и за 6-часовой рабочий день. С учетом положения в отдельных странах, участники сочли, что организовать одновременное выступление в настояшее время крайне тяжело. Секретариату МАТ было поручено выпустить манифест о безработице во всех странах и мерах по борьбе с ней и призвать мировой пролетариат к общей борьбе с этим злом. Участники заседания постановили также выделить средства из Фонда пропаганды МАТ на поддержку издания газеты УСИ «Гуэрра ди пассе» и принять меры по развитию пропаганды синдикалистского движения в Польше. Пленум постановил направить письмо предстоящему конгрессу мексиканской ВКТ. Обсуждался вопрос об антимилитаристской работе. МАТ постановила внести в 930 г. в Международную антимилитаристскую комиссию 800 голландских гульденов для успешного ведения агитации в этой области. Сскретариат комиссии должен был в будущем состоять только из двух человек — де Йонга (от МАБ) и Мюллера-Ленинга (от МАТ). Пленум призвал секции МАТ шире публиковать материалы МАК в своих изданиях.
Наконец, делегаты окончател ьно утвердили повестку дня предстоявшего конгресса МАТ. В нес вошли такие вопросы, как международная реорганизация синдикализма (докладчик — Бенар), МАТ и другие Интернационалы в международной классовой борьбе (Сухи), проблема сельскохозяйственных рабочих (Оробон Фернандес), опасность национальной идеологии для борьбы за освобождение международного пролетариата (Роккер), отношение революционного синдикализма к буржуазной демократии (Иенсен, Пестанья), безработица и 6-часовой рабочий день (докладчик из Аргентины), борьба против политической и религиозной реакции (докладчик из Португалии), борьба рабочего масса против подготовки войны (де йонг) [500].
Разразившийся в октябре 1929 г. экономический кризис («Великий кризис») первоначально больно ударил ПРСЖДе всего по США и Великобритании, но постепенно захватил и другие страны мира. Повсюду он вел к падению производства, массовой безработице и ухудшению условий жизни масс. Как отмечалось в отчете Секретариага МАТ за 1930 г., «в промышленных странах Европы безрабоТИЦа ощущалась все больше и больше. Предприниматели пользовались ситуацией, для того чтобы вести общее наступление на заработную плату рабочего класса. В двух наиболее крупных проМЫШЛеННЫХ странах Европы, Англии и Германии, рабочий пасс находился в обороне, а предприниматели — в наступлении. В рабочем движении преобладал реформизм. Оборонительным сражениям пролетариата почти всегда недоставало боевого революционного духа. В 1930 г. завоевания, достигнутые трудящимися за предшествовавшие годы, были в значител ьной части утрачены. Отсутствие боевых революционных организаций способствовало поражению пролетариата» [501].
Либертарии оценивали кризис как «результат развязанного безграничного машинизма, распространившегося земледелия, захваТИВШиО все части мира горного дела, устраняющих расстояния транспортных средств, ассоциационных и организационных возможностей капитала и тем самым — его обладания всеми техническими и рабочими силами Земного шара». Этот кризис, утверждал Макс Неттлау, непреодолим «внутри существующего общества». Он призывал «прозорливую часть человечества» объединиться ради своего спасения и «похоронить своих мертвецов» [502].
В основе понимания кризиса анархо-синдикалистами лежало представление о хроническом и постоянно усиливающемся разрыве между ростом производства и покупательной способностью масс. «...Наплыв товаров становится все больше, в то время как емкость рынка, как минимум, растет не с такой быстротой, а с течением времен и даже сокращается... — объяснял, например, Фритц Деттмер. — В результате всего этого все большее количество товаров больше не находит сбыта и многие рабочие вылетают на улицу». Движимые стремлением к накоплению, предприниматели делают все для того, чтобы увеличить производство. С этой целью и осуществляются рационализация, трестированис, внедрение машин и т.д. Но для удешевления производства владельцы предприятий стремятся поддерживать зарплату на низком уровне. Это лишь усиливает трудности сбыта и провоцирует всеобщий кризис.
Детгмер уверял (и так казалось тогда многим либертариям), что наступивший кризис не является более одним из тех циклических явлений, которые восстанавливают в результате экономическое равновесие. Этот кризис «демонстрирует длительный, постоянно растущий дефицит сбыта. Следствие этого — ограничение производства и катастрофическое увеличение армии безработных». Немецкий синдикалист следовал в своем анализе и расчетах за известной гипотезой Розы Люксембург: «Возможность сбыта ограничена и рано или поздно исчезнет полностью». Капитализм выйти из этой ситуации не может; РСШИТЬ проблему может только его ликвидация [503].
По мере того как кризис охватывал новые страны, но несколько ослабевал в других, оцснки синдикалистов смягчались, хотя суть анализа оставалась неизменной. В популярной в 1931 г. статье видного СИНДИпЛИСТСКОГО экономиста Корнслиссена (она была включена даже в качестве дооада для делегатов IV конгресса МАТ) утверждалось, что кризисные явления назревали давно, о чем свидетельствовали «быстрое, лихорадочное развитие америКаНСКОЙ индустрии», рационализация с ее фордизмом и тейлоризмом, резкий рост производства при отставании потребления. Однако Корнелиссен уже был склонен рассматривать происходящее как очередной циклический кризис, предсказывая, что здание капиталистической экономики вновь поднимется из руин, хотя последствия депрессии будут сказываться еще долго. В то же самое время он утверждал, что такие кризисы будут повторяться снова и снова, поскольку капитализм в принципе не способен привести в равновесие производство и потребление. В этом ему не помогут ни тресты, ни государственный капитализм или государственный социализм, потому что частная собственность и система найма сохранятся. Единственный выход, писал Корнелиссен, состоит в том, чтобы трудящиеся взяли управление производством и потреблением в свои руки и регулировали их в своих собственных интересах [5О4].
К середине 1931 г. в кругах МАТ пришли к выводу, что кризис, начавшийся в 1929 г., не утрожает существованию капитализма, который реорганизовался на национальном и международном уровне, укрепил транснациональные тресты и картели, модернизировал средства производства и укрепил свою власть. Кризисные явления лишь усилили наиболее могущественные капиталистические группировки, оттеснившие конкурентов и решившие свои проблемы за счет усиления эксплуатации трудящихся, увеличения резервной армии безработных, снижения зарплаты и т.д. Синдикалисты отмечии также, что интернационализация капитала не устраняет противоречий и борьбы между отдельными группами капиталистов и отдельными государствами, которые в борьбе с конкурентами увеЛИЧИВаЮТ таможенные пошлины [505].
Как бы то ни было, анархо-синдикалисты никогда не утверждали, что трудящимся следует прекратить всякое сопротивление в рамках существующего строя и просто ждать революцию. Считая кризисы неизбежными в принципе, они в то же самое время полагали возможным смягчить их последствия для работников и тем самым способствовать развитию революционной динамики. В качестве наилучшей экстренной меры по борьбе с безработицей они рассматривали сокращение рабочего времени без уменьшения заработной платы. Во исполнение решения пленума бюро МАТ, Секретариат выпустил воззвание «Против мирового кризиса и безработицы! За 6-часовой рабочий [506]. С целью побудить другие направления рабочего движения к совместному организованному выступлению за 6-часовой рабочий день, Секретариат МАТ направил соответствующую телерамму конкрессу Международной федерации профсоюзов, который проходил в Стокгольме. Однако конгресс проигнорировал это обращение [507].
Анархо-синдикалисты обвиняли реформистские профсоюзы в том, что они не организовали единую международную борьбу трудящихся против ухудшения их положения в условиях кризиса и согласились со снижением зарплаты в каждой из конкретных стран в целях увеличения конкурентоспособности национального производства. МАТ оценивала эту политику как националистическое «сотрудничество между капиталистами, правительством и рабочими профсоюзами» и связывала ее с общей линией СОЦИИИСТОВ-ГОсударственников. «...Они, как правители государства, стали защитниками госуДарства и нации и отстаивают ” национальные особенности“ столь же горячо, как буржуазия... — писал секретарь МАТ Сухи. — Самое большое сопротивление международной классовой борьбе оказывает государственный социсаизм. К сожалению, идея необходимости и всемогущества государства за последние годы в рабочем движении усилилась и расширилась» [508]. Национальному эгоизму профсоюзов и рабочих различн ых стран в попытке сохранить более высокий уровень зарплаты в своих странах за счет поддержки «собственной» промышленности и «собСТВеННОГО» государства анархо-синдикалисты более чем когда-либо противопоставляли интернационализацию классовой борьбы: международные стачки, сбор отраслевыми федерациями данных о зарплате, миграции рабочей силы и т.д. по всем странам, скоординированные выступления за минимально гарантированный уровень зарплаты по всему миру. Они отмечали тенденцию к переносу производства капиталистами в страны с более низким уровнем оплаты труда и предупреждали, что сохранить высокий уровень в отдельной стране невозможно [509].
В течение 1930 г. члены Секретариата МАТ посетили Бельгию, Францию, Голландию и Испанию. Секретариат продолжал издавать пресс-бюллетень на немецком, английском, французском и испанском языках, а также на эсперанто; он помогал также издавать газеты и публикации на польском, болгарском и итальянском [510].
В международном анархо-синдикалистском движении продолжались дискуссии, касавшиеся как тактических вопросов, так и пересмотра некоторых положений доктрины. Секции Интернационала «едины в принципах, но не в тактике», отмечал Шапиро. «Наши товарищи из ФОРА (Аргентина) смотрят на повседневную профсоюзную борьбу и вопрос организации совершенно иными глазами, чем французская РС ВКТ. Вопрос борьбы за 6-часовой рабочий день рассматривается, например, шведской САК с совершенно иной точки зрения, чем немецким ФАУД; такие же различия мы видим в том, что касается антимилитаристской тактики, борьбы против большевизма, связей с политическими партиями и большинства повседневных политических вопросов». Шапиро призвал секции «найти общую линию» в важнейших организационных и тактических вопросах. Иначе «будет трудно требовать от нашей международной организации успешной и плодотворной [511].
Южноамериканские анархисты по-прежнему настаивали на невозможности и нежелательности подготовки нового общества в рамках старого. В европейских синдикалистских кругах все более настойчиво говорили о «конструктивной» подготовке социальной революции. Так, не называя прямо ФОРА и eе сторонников, секретарь МАТ Сухи оспаривал их аргументы, согласно которым «революции создают новые ценности, вызывают к жизни новые идеи» и новые формы жизни, а потому разрабатывать их заранее бесполезно. Подобный подход, писал он, исходит из противопоставления революции и эволюции. Между тем революция устранит далеко не все существующее, «сами революционеры ВЫНУЖДСНЫ будут многое сохран ить, потому что считают это хорошим». Наконец, нужно будет продолжить производство продуктов и благ, и трудящиеся должн ы быть к моменту революции подготовлены к этим задачам [512].
Авторитетн ый в анархо-синдикалистских кругах историк Макс Нсттлау выступал в эти годы как активнейший пропагандист идейных дискуссий и обновления. Он приветствовал идею нскоторых аргентинских анархистов провести в феврале 1930 г. в Санта-Фе конгресс для обсуждения такт вопросов, как положение международного движения, проблемы «исключительности» и СОСУЩеСТВОваНия различных течений в ходе революции, возможность сочетания различных моделей организации производства и обмена вместо идеи единой экономической системы, антимилитаризм и борьба с диктатурой (Нетглау заявлял, что антифашистское движение нс должно иметь ни буржуазно-либеральную, ни промосковскую, ни анархистскую окраску), необходимость «немедленного конструктивного действия», аспекты морали, образования, культуры, аграрный вопрос и т.д. [513].
Нетглау сформулировал собственный взгляд на социалистическое движение [514]. Он исходил из того, что социальная революция будет совершена не одними лишь анархистами, но сторонниками всех антикапиталистичесих течений. Самое главное, по его мнению, состояло в том, чтобы ни одно из них не смогло установить после победы свою диктатуру, но получило бы полную возможность и средства «самостоятельно осуществить свои собственные цели». Неттлау предложил, чтобы все эти течения заключили «пакт солидарности». Он «обязал бы все социальные течения, каждое в своей сфере и с использованием своих средств, защищать революцию против реакции и любой попытки революционной диктатуры и гарантировал бы каждому социальному течению землю, орудия труда и сырье, прироДные богатства, моторную силу и т.д. пропорционально и величине» [515]. Какая-то часть богатств при этом оставалась бы наЦИОнальным или интернациональным достоянием. В результате после революции должно было образоваться нс общество с единым строем, а некое рыхлое социальное образование, состоящее из множества форм и элементов, относительно «чистых» в виде отдельных сельских поселений и «смешанных» в городских кварталах, причем эти формы могли бы свободно экспериментировать и исторически конкурировать друг с другом. Неплау отрицал идею «единой экономической жизни» и ратовал за «своего рода межДунароДное право при социализме, права человека для КюКДОГО из его течений, смесь коДекса чести и модус вивенДи, идеальное и практическое сосуществование, дальнейшее формирование жизнеспособного и необходимого состояния социального общежития человечества, освобожденного от капитализма» [516]. Каким образом, после опыта российской и германской революций, он рассчитывал побудить сторонников авторитарных социалистических течений пойти на такое «сосуществование», оставалось его тайной.
Для подкрепления своих аргументов Неттлау обращался к авторитету старого Малатесты, который к концу жизни окончательно склонился к «градуализму», то есть постепенности перехода к новому свободному строю. Итальянский анархист предполагал теперь, что следующая рСВолюция нс будет анархистской и его единомышленники окажутся в ней всего лишь относительно небольшим и «плохо вооруженным» меньшинством. Они должны будут, утверждал он, участвовать в созданных или терпимых массами прогрессивных органах, организациях и производственных ассоциациях [517].
Неттлау утверждал, что о немедленном переходе к анархо-коммунистическому обществу речи быть не может. Он повторял распространенный довод о «преодолении нехватки» богатств и благ, o том, что вначале придется значительно увеличить производство Представление о подобной поэтапности оказало в этот период существенное влияние на взгляды представителей «берлинского центра» МАТ. Социальная революция распадается на две фазы — ликВИДаЦИИ государства и капиталистической системы и организации новой экономики, ориентированной на потребности, и новой системы самих потребностей, — писал секретарь МАТ Сухи. Первая фаза, по его словам, могла осуществиться сравнительно быстро, в ходе всеобщей социальной стачки. Второй предстояло растянуться на десятилетия и идти тем легче и быстрее, чем больше трудящиеся были подготовлены к этой задаче, причем не только в духовном, но и в организационно-экономическом смысле [519].
Выдвинутые Неттлау идеи нового сотрудничества левых вызвали отклики в некоторых синдикалистских кругах, особенно в Германии. Так, немецкий анархо-синдикалистский издатель Вилли Ядау написал «дополнение к серии статей Макса Неттлау», предложив круг организаций и движений, с которыми могли бы сотрудничать анархо-синдикалисты и анархо-коммунисты; в него включались, в частности, левые и оппозиционные коммунисты, левые социал-демократичсские и кооперативистские труппировки. В качестве первоначального шага он выдвинул идею издания совместного журнала [520].
Сложнее было с аргументами Неттлау против системы Советов.
Он считал такие органы в тактическом смысле мало что дающими, а в деле создания нового общества — даже бесполезными. Прежде всего Неттлау исходил из того, что синдикалисты окажутся в Советах в меньшинстве и будут подавлены социал-демократическим и коммунистическим большинством. Он призывал в первую очередь развивать и усиливать само либертарное движение, защищать и отвоевывать права меньшинств в русле предлагавшейся им концепции общественного плюрализма, оговаривая, что «лишь тогДа система Советов могла бы стать нейтральной рамкой, в которой любой неагрессивный опенок мог бы участвовать в социальной реорганизации, соответственно своей реальной величине». Пока же, по его мнению, «вся кие предпосылки для полностью удовлетворяющей меньшинства системы Советов полностью отсутствуют». Кроме того, он критиковал и саму идею «экономического парламентаризма», считая Советы как орган управления экономикой «излишними» в деле переустройства общества, которое требовало развития самоорганизованной инициативы масс [521].
Статья Неттлау в «Ди Интернационале» вызвала дискуссию по вопросу о Советах. Голландский анархо-синдикалист Артур Мюллер-Ленинг писал: «Статья товарища Макса Нсплау о системе Советов — и ее [этой системы] безусловное отклонение — вызовет, вероятно, удивление у всех прочитавших ее синдикалистов и тех, кто близок синдикалистскому движению». Он взял под защиту идею Советов как «конструктивно-социальное выражение социальной революции в духе синдикализма». Конечно, это институт, а не «лекарство от всех болезней», и в этом смысле от них нельзя ожидать чудес, признавал Мюллер-Ленинг. В то же время он подытоживал все те положительные черты, которые анархо-синдикалисты усматривали в Советах: они не основаны на «произвольной территориальной группировке» и «случайных выборах», но являются экономическими, то есть «органическими образованиями в социальной жизни»; они служат не органами представительства интересов, но формой самоорганизации трудящихся; они отрицают политический принцип государственной организации и сводят к минимуму возможность авторитарного господства. Конечно, соглашался Мюллер-Ленинг, революция не превратит немедленно миллионы рабочих в анархистов, и анархо-синдикалисты останутся меньшинством, но подлинная социальная революция, захват трудящимися экономики в свои руки выбьет почву из-под ног государственнических партий. Он считал «утопической в экономическом отношении» идею Нетглау о плюралистическом послереволюционном обществе, утверждая, что хозяйственному хаосу должна прийти на смену именно «социалистическая плановая экономика», координируемая Советами. А задача анархистов сведстся к тому, чтобы «брать инициативу и во всех областях показывать практические пути, с тсм чтобы Советы смогли организовать общественную жизнь и тем самым предотвратить строительство нового государства» [522].
Австрийский анархист Оскар Грюнвальд, полемизируя с Неттлау, иЩИЩИ антиавторитарные Советы как технический орган связи, но не как «лозунг революции» и форму власти. «Федерация коммун, унивсрсальный профсоюзный организм, анархия в духе Бакунина и Малатесты, кропоткинские промышленные деревни и сеть автономных групп обмена — все они не могут избежать того, что понимается под Советами — Советами с императивным мандатом, отзываемыми в любой момент, либо Советами, которые консультируют и предлагают в качестве экспертов... Не против Советов следует возражать, но против слова «власть» [523].
Немецкий анархо-синдикалист Генрих Древес, со своей стороны, подверг критике как «безумную линию мышления» Неплау, с его ставкой на меньшинства и отказом от любого «большинства», так и идущий в «понятийном» русле «революционного синдикализма»» взгляд Мюллера-Ленинга. Последний, по мнению Древеса, страдал «организационным дуализмом» и расколотостью, поскольку пытался примирить синдикализм (профсоюзную форму организации) и принцип Советов как органа координации производства.
Генрих Древес предложил свое видение рабочего движсния, которое имело немало общего с традиционным анархо-коммунизмом и — в то же время — с «левым коммунизмом». Подобно латиноамериканским рабочим анархистам, он считал, что социальная•революция означает прекращение деятельности профсоюзов как ТРИИЦИОННЫХ органов, в которых трудящиеся отстаивают свои экономические интересы. На смену им должны будут прийти асСОЦИаЦИИ производителей — «чистые производственные организации», свободные от всякой партийности, мировоззренческих вопросов и программ, объединяющие людей как «людей», «производителей и потребителей». Однако основу такого устройства Древес видел не в коммуне, а (подобно «левым коммунистам») непосредственно на производстве, в форме общих собраний работников и Советов. Но речь шла именно об экономических, а не политических или партийных Советах. Такое «объединение трудящихся на рабочих местах» должно было позволить управлять предприятиями в интересах всего общества. «Название [этой] организации — ”профсоюз”, ”фабричная организация”, ”организация Советов“ или как-либо иначе — само по себе является второстепенным...
Вероятно, ее можно назвать ”гильДиями труда социализма”...» Занимаясь как производством, гак и общественными вопросами в целом , эти гильдии «делали бы политическую машину государства излишней». «Упорядоченная экономика, в которой каждый человек обладает правом на свободный труд и свободное потребление, сама собой регулирует общественную жизнь и потому должна отвергнуть всякое произвольное вмешательство политических сил. В соответствии с этим, гильдиям выпадает задача ликвидировать смехотворную и пагубную государственную машину, регулировать всю общественную жизнь заново, начиная с экономики, и привести eе в гармонию» [524]. Вопреки представлению Неттлау о революции, совершаемой совместно сторонниками всех левых партий и течений, Древес подчеркивал, что осуществить такой социальный переворот могут лишь трудящиеся, объединенные человеческими и экономическими, а не политическими и идейными интересами. Иными словами, оставившие свои прежние политические и идеологические пристрастия в стороне и занявшиеся реальным социально-экономическим творчеством, организацией повседневной жизни, удовлетворением своих потребностей. Его логика была такова: «Каждый человек имеет право на существование и свободу... Следовател ьно, ни один человек не должен позволять порабощать себя... Следовательно, капитализм должен быть ликвидирован.. Здесь мы имеем наиболее ясную, краткую и самую лучшую формуЛУ, своего рода генеральную линию в борьбе с капитализмом, которая кладет конец всякому ожесточенному спору об ” идеологиях ' и убедительно показывает, что чисто человеческая позиция делает возможным единую революционную борьбу. Каждый революционер может найти себя в этой боевой линии в сообществе с другими и так постепенно способствовать росту и усилению фронта против капитализма...» Древес пояснял, что имеет в виду честных революционеров «слева от компартии» [525].
Еще одним (помимо Нетглау) «возмутителем спокойствия» в либертарных рядах на рубеже 1920— 930-х годов выступил живший в Париже ветеран синдикализма Христиан Корнелиссен. В теоретической синдикалистской печати различных стран («Синдикалисмен» в Швеции, «Ди Интернационале» в Германии и т.д.) стали печатать сго экономические статьи, в которых автор не только предлагал свой вариант анализа развития капиталистической экономики и труда 526 , но и приветствовал «позитивные» стороны рационализации, считая ее недостатки и опасности «привязанными» к существующему, капиталистическому обществу. «По моему личному мнению, — утверждал он, рационализация“ экономики, которая подходит к человеческому труду с секундомером и отбором в духе Тейлора, несомненно имеет будущее в ряде отраслей производства... Система Тейлора, примененная в процессе производства к взрослым работникам, будет иметь большие заслуги. Одна из них состоит в отделении подготовительной работы техников от исполнительного механического труда...» [527]. По существу, это был полный разрыв с кропоткинской анархо-коммунистической теорией преодоления индустриалистского разделения труда.
Более того, в написанных в этот период статьях Корнелиссена уже содержались многие элементы реформизма, который восторжествовал после Второй мировой войны в синдикалистском движснии Швеции и ряда других стран. Ветеран синдикализма утверждал, что современной индустриальной экономике присуща, в том числе, и «тенденция экономической демократии», что «экономика в будущем будет расти лишь на основе сильной демократизации и найдет людей с чрезвычайными заслугами, которые будут способны ею руководить». По его мнению, сама сложность современного производства и форма акционерных обществ подрывали единолично-деспотическое распоряжение им. «Хотя рабочие и техники лишь с трудом могли бы заменить первых директоров крупных торговых и промышленных предприятий, их делегаты или производственные советы уже теперь могли бы выполнять полезную работу в интересах всех, и прежде всего в интересах самой промышлснности» — писал Корнелиссен. В качестве положительных примеров он называл участие рабочих организаций европейских стран в расчете условий труда, разработке проектов усовершенствования организации производства, внедрения техники и По существу, Корнелиссен отбрасывал один из коренных постулатов анархо-синдикализма: о том, что трудящиеся не должны брать на себя ответственность за участие в управлении капиталистической экономикой.
Корнелиссен решительно поддержал анархистских «ревизионистов» («платформистов», Неттлау и др.) в спорах относительно «конструктивного социализма», работы в рамках существующего строя и создания прочной «либертарно-коммунистической» организации, способной играть ведущую и ответственную роль в революции, в противовес «дискуссионным клубам» анархистов. Но он шел еще дальше, не ограничиваясь призывами развивать экспериментальные сообщества и производственные органы кооперативного характера. Ветеран синдикализма выступил за то, чтобы работники избирали на предприятиях и в учреждениях своих делегатов, которые были бы представлены в руководстве крупнейших проМЫШЛеННЬХ и транспортных предприятий [529]. Этим рабочим представителям следовало бы «вмешиваться в процесс производства», проверять документацию и приходно-расходные книги, заседать в совете фирмы «на равных правах с представителями акционеров», участвовать в разработке баланса и т.д. Они могли бы быть «полезны предприятию» во всех вопросах, «которые непосредственно касаются организации труда, — к примеру, осуществления экономии сырьевых и вспомогательных материалов, совершенствования распределения труда, машин и инструментов. Добиться этого Корнелиссен предполагал с помощью прямого действия [530].
Такое представительство, по мнению Корнелиссена, позволило бы постепенно создать «в каждой стране ядро нескольких тысяч прилежных работников, которые, по меньшей мере, в общем и целом знают, как работает современное крупное предприятие, и изучить на практике внутренний механизм организации производства» [531].
Тем самым он высказал мысль, которая до тех пор считалась «табу» в анархо-синдикалистской средс и сближалась с концепциями социал-демократии: об участии трудящихся в управлении капиталистическим производством. Сам Корнелиссен признавал, что далеко не все согласятся с ним. Он приводил возражения, высказанные в споре с ним одним молодым рабочим, заявившим: «Ты думаешь... я хочу сотрудничать в том, чтобы заполучить завтра нового мастера, к тому же из своих собственных рядов?» От этого он пытался отмахнуться утверждением, что эти новые «рабочие» начальники обеспечат рабочим «совет и помощь» [532].
Против создания органов классового партнерства на производстве («экономической демократии») было и большинство анархосиндикалистов. «Идея состоит в том, — критически замечал секретарь МАТ Сухи, — что, помимо политических прав в качестве граждан государства, рабочие должны иметь и экономические права на предприятиях, наряду с предпринимателями. Они должны соучаствовать в социальном законодательстве; профсоюзы должны быть признаны в качестве равноправных организаций, выражающих интересы рабочих, наряду с организациями предпринимателей; представители профсоюзов должны иметь право защищать интересы рабочих в судах по трудовым вопросам, условия зарплаты и труда должны регулироваться признанными законом профсоюзами рабочих и предпринимателей, в спорных случаях должен вмешиваться государственный арбитр. На предприятиях рабочие должны избирать признанные законом производственные советы...» Сухи подчеркивал, что «в действительности этот путь ведет не к социализму, а к полному огосударствлению рабочего движения» [533].
Многие влиятельные анархисты не были согласны и с пересмотром кардинальных идейных доктрин. «В любой среде процветает только наиболее приспособившийся к ней, — язвительно замечал популярный женевский либертарный журнал «Иль Рисвельо» («Ле Ревей»), — а мы хотели бы прежде всего положить конец этому приспособлению. Не будем сами впадать в заблуждение законопослушных социалистов и позволять поверить в то, что можно многого добиться уже при существующем режиме и его учреждениях; ведь тогда, естественно, никто и не подумает о революции» [534]. Не собиралось заниматься «ревизией» большинство латиноамериканских анархистов; в испанском и немецком движении продолжались острые идейные и теоретические дискуссии.
Усиление реакции и наступление фашизма побудили анархосиндикалистов вновь обратиться к проблеме демократии. Разработкой этого вопроса занимался видный деятель шведской САК Иенсен. Сущность предложенного им отношения сводилась к тому, что режим политической демократии не может рассматриваться как цель, «с точки зрения исторического развития», но включает в себя «определенные элементы, необходимые для развития рабочего пасса и рабочих организаций» и обретения ими силы, которая позволит им ликвидировать капитализм и установить социализм «на основе федералистских принципов».
С одной стороны, заяњлял Иенсен, политическая демократия — это «новая форма крепостничества», тип власти «немногих над многими», и «почти равносильна обману», ибо заставляет народ думать, будто он управляет собой сам. «Участие в выборах представителей в законодательный орган означает заявление о собственной недееспособности», ибо избранис своего опекуна и начальника есть «отречение от собственной воли». Ведь «отношение между господами и обладаемыми при всех обстоятельствах сохраняется», возможно, происходит лишь уменьшение степени «несвободы». При свободном социализме, утверждал Иснсен, политической демократии не будет; это общество потребует «иных политических форм, при которых элемент господства исчезнет». Более того, этот новый строй не может быть установлен политическим путем, через завоеванис власти парламентским путем, или издание новых законов, или даже «рабочее правител доказывал шведский синдикалист535 . даже «реформы в рамках буржуазного общества, которые могут иметь значение для победоносного продвижения рабочего класса, могут быть осуществлены лишь путем прямого действия рaботников на предприятиях или вне их, если им удается оказать на правительство настолько сильное давление, что оно больше не сможет игнорировать выдвинутые
Отвергая политическую демократию «в принципе», Иенсен заявлял, с другой стороны, что она «предоставляет рабочему и синдикалистскому движению больше преимуществ по сравнению с более ДССПОТИЧССКИМИ формами правления», амменно «свободы и права, которые настоятельно необходимы для победоносного прогресса рабочего движения в направлении социалистической цели». Конечно, и демократический режим нарушает эти права и свободы, но, в отличие от фашистских и диктаторских режимов, позволяет синдикалистам работать открыто. «Основополагающим условием для... организационного объединения рабочего класса служит возможность открытой пропаганды и организационной работы. И здесь демократический режим дает больше свободы, чем диктаторские формы правления», — подчеркивал швсдский синдикалист. Тем не менее эти права и завоевания отнюдь не гарантированы при демократии: они существуют только до тех пор, пока трудящиеся готовы их защищать [537].
В этих рассуждениях, собственно, не было ничего ПРИНЦИПИально нового. В этом духе высказался еще конгресс МАТ в 1925 г. Однако Иенсен пошел дальше по пути принятия логики «меньшего зла», которая вообщс-то считалась неприемлемой для анархистов. Он утверждал теперь, что синдикализм «отвергает утверждения о том, что ему безразлично, какой режим господствуст — демократический или диктаторский», и «предпочитает при выборе между политической демократией и другими, деспотическими формами правления, первую, поскольку она, по меньшей мере, делает возможными свободы и права, необходимые для организационной деятельности трудящихся». Прежде анархисты и анархо-синдикалисты отказывались «делать выбор» между различными формами буржуазного государства, ограничиваясь защитой экономических, социальных и политических завоеваний как таковых. Соответственно, отрицая «формальный альянс с демократией», Иенсен допускал возможность «совпадения интересов» рабочих и «всех свободных элементов» в «критической ситуации» и даже «известное взаимодействие» при «определенных условиях» и сохранении «полной независимосги» [538].
Все более важное место в разработках анархо-синдикалистов занимала в этот период борьба с национализмом и обоснование интернационалистских представлений. Эти вопросы традиционно были слабо затронуты в анархистской теории. В XIX — начале ХХ века анархисты часто поддерживали различные национальные движения или даже участвовали в них, надеясь, по словам Кропоткина, «поставить вопрос на экономическое основание» и «выдвигать народные вопросы рядом с национальными» 539 . Приняв аргументацию о существовании национальных интересов, часть анархистов и синдикалистов поддержала Антанту в период Первой мировой войны, что вызвало серьезный кризис в движении. Теперь, в условиях дальнейшей интернационализации капитализма, роста националистических и фашистских движений, многие либертарии стали пересматривать прежнее отношение к национальному вопросу. Они по-прежнему выступали против всякого угнетения по национальному признаку, но подчеркивали «опасность национальной идеологии для освободительной войны пролетариата».
Отношение анархо-синдикалистов к национальным движениям было непростым. С одной стороны, они осуждали колониализм и поддерживали стремление к независимости народов от колонизаторов. С другой, всегда подчеркивалась социальная сторона вопроса [540]. Национальная независимость не устранит эксплуатируемого положения трудящихся колоний, но лишь заменит гнет колонизаторов на гнет «собственной» буржуазии, «собственный» милитаризм и т.д. Выступая на антиколониальном конгрессе в Брюсселе в 1927 г., представитель Международной антимилитаристской комиссии А. Мюллер-Ленинг предостерег угнетенные народы от того, чтобы следовать примеру Запада и создавать новые государства. Он призвал их к обновлению социальной жизни в духе ликвидации классов. Делегат Международного антимилитаристского бюро, сотрудничавшего с МАТ, Б. де Лихт заявил на кон грессе Антиимпериалистической лиги во Франкфурте-на-Майне (1929 г.), что борьбу следует вести не только против колониализма и империализма «белых» держав, но и против национализма и начатков империализма среди угнетенных наций, не за власть национальной буржуазии, а за «свободный и открытый Интернациони... всех языков и рас». Он связал борьбу за создание независимых национальных государств со стремлением элит угнетенных наций к самостоятельному господству. «Повсюду в этой части мира мы видим появление туземного буржуазного класса, который жаждет создать свою власть на основе эксплуатации широких масс своих стран. Несомненно, этот новый масс борется там за национальную независимость, но одновременно строит новую экономическую систему, заимствованную у белой буржуазии...» — объяснял голландский антимилитарист. Он призвал вести борьбу против милитаризма в освободительных движениях, против «антиимпериалистического милитаризма», который, как показывал, с его точки зрения, опыт Китая, мог привести лишь к новому империализму. Поддерживать, по его мнению, стоило лишь невооруженные и немил итарисгские движения [541].
Прежде всего анархо-синдикалисты безоговорочно отвергали наличие национальных интересов, общих для эксплуатируемых и эксплуататоров, и подчинение социал-демократов и коммунистов соответствующим национальным государствам. Роккер доказывал, что нация является искусственным образованием, насильственным созданием централизованного государства, которое вначале устанавливало контроль над определенной и достаточно разнородной территорией, а затем во всех случаях принудительно унифицировио реальные местные культурные, языковые и бытовые различия, «конструируя» нацию. Такие различия, по его мнению, наоборот, развивались и складывались естественно, на протяжении многих столетий. Эти местные комплексы Роккер именовал «народами» и противопоставлял их нациям и государствам [542]. Более того, он отрицал реальность «коллективных психологических понятий», национапьной психологии и стереотипов, доказывая, что люди индивидуальны и различия между ними больше, чем порождасмос общей средой сходство реакции и мотивов поступков [543].
Теоретик анархо-синдикализма подверг резкой критике саму концепцию нации и национальной общности. Он утверждал, что идея и практика национального единства и централизованного национального государства всегда были в принципе реакционными, и в истории всех стран периоды такой централизации были временем культурного упадка, тогда как эпохи «раздробленности» сопровождались всликими взлетами культуры, будь то в Древней Греции или позднейшей Италии. «Любой национализм по сути своей реакционен и враждебен культуре, даже если действует так называемыми революционными средствами», — писал он. В качестве альтернативы Роккер выдвигал не искусственное и безликое единообразие, а федерализм, добровольное объединение местных обшин, культурных и языковых групп [544]. «Мы — анационалисты, — писал он. — Мы требуем права на свободное решение для каждой общины, каждого региона, каждого народа, и именно по этой причине мы отвергаем безумную идею национального единства. И мы федералисты, то есть приверженцы свободных групп людей, которыс не обособляются друг от друга, но взаимопроникают друг в друга... и связаны друг с другом тысячами связей духовной, экономической и кул ьтурной природы». Соответственно Роккер пропагандировал идею о том, что природные ресурсы должны быть доступны всем, а не быть достоянием отдельных стран и НаЦИЙ [545]. Анархо-синдикалисты пытались применить этот интернационалистский подход и к конкретным ситуациям, возникавшим в самых различных уголках мира. Так, Шапиро проанализировал в том же духе проблемы, возникшие между еврейской и арабской общинами в британской подмандатной Палестине. Осудив национализм с обеих сторон, он призвал трудящихся обеих национальностей отказаться от поддержки господствующих слоев «своей нации» и вместе выступить против эксплуататоров и британской колониальной власти [546].
Анархистское рабочее движение Южной Америки предложило в этот период свой анализ социально-экономической ситуации и собственные соображения о тактике либертарных организаций трудящихся. Оно соглашалось с тем, что капитализм вступил в новую фазу своего существования. Теперь он развивается, следуя не воле людей, а своим собственным закономерностям и импульсам, подобно «машине, которая сама собой управляет вместо того, чтобы подчиняться управлению», и оператор теперь стал придатком машины, подчеркивалось в документе, разработанном Секретариатом АКАТ. «Зерна экономической рационализации» существовали и прежде, в эпоху перехода от ремесла к фабрике и затем к механизации, но теперь они превратились «во всеохватывающую реальность, которая удушает мир». Разворачивавшаяся «новая индустриальная революция», по мнению южноамериканских анархистов, далеко опережала по своим масштабам ту, которая происходила в XIX веке. «Эта революция приносит не только новые методы производства, сбыта и потребления, но и... давит тяжким грузом на психологию людей, вызывает политическое изменение государства и одновременно ставит трудящихся перед необходимостью противопоставить новой ситуации новые методы борьбы», адекватные переходу к «коллективному капитализму» с его акционерными обществами и огромными «безликими предприятиями». С помощью предоставления работникам части акций и участия их в прибылях капитализм заинтересовывает их в процветании предприятий, укрепляя представления о социальном партнсрстве и приспосабливая профсоюзы к потребностям индустрии. Секретариат АКАТ приветствовал агитацию МАТ за 6-часовой рабочий день, но утверждал, что «недоставало обоснования этого требования, [его] разумного оправдания и глубокого изучения условий современной индустрии» [547].
Новая индустриальная революция, подчеркивала АКАТ, означает прежде всего интенсификацию эксплуатации: она допускает увеличение производства при сокращении рабочего времени и увеличении зарплаты, сокращает применение необходимой рабочей силы и «живого труда», увеличивает прибыли капитала и усиливает его социальную мощь. Одновременно она оказывает «РаЗРУШИтельное влия нис на чувства и мысли людей, ценность которых все бол ьшс ограничивается ролью производственного фактора в экономической жизни». Производителей всс больше заменяют машины, а потребители все больше вытесняются, что имеет самые роковые последствия [548].
Теоретики АКАТ тоже не отвергали механизацию как таковую и чурались облика «разрушителей машин». Подобно прогрессистам, они утверждали, будто луддиты боролись не против капитализма, а всего лишь за уничтожение станков, в чем им виделся «бесполезный акт отчаяния». Точно таким же бесполезным и беспомощным казалась теперь Секретариату АКАТ борьба против самих «современных методов труда», распределения работников и организации фабрик. В то же время они отдавали себе отчет в том, что касалось «последствий однообразной и односторонней деятельности» «работников крупных фабрик». Поэтому даваемый южноамериканскими анархистами ответ носил еще двойственный, непоследовательный характер. В нем сочетались и антииндустриалистскис и «прогрессистские» элементы: «Сопротивление против капиталистической рационализации может состоять лишь в сопротивлении против всей капиталистической системы, которая делает из работника ”человека-машину”, незначительное колесико в процессе производства. Наше отношение к рационализации должно быть отношение не луддитов, а рсволюции, стремящейся к тому, чтобы осуществить преобразования, ставящие преимущества прогресса и технических методов труда... на службу всему человечеству, а не привилегированному паразитичсскому меньшинству» [549]. Социальная революция должна была, по мысли теоретиков АКАТ, изменить взаимоотношения между человеком и техникой: технические открытия и возможности будут использоваться в интересах расширения свободы людей.
«Чтобы освободить человека от тяжкого ига повседневного труда, его разум нс должен поглощаться этим трудом», заявляли они, подчеркивая, что научные открытия, техника и механизация могут сэкономить усилия людей и сократить рабочее время. Но не при капитализме, а лишь в том случае, если машины и станки станут не хозяевами, а «рабами» людей. Современное общество, считали они, делает все наоборот. При нем внедрение техники служит исключительно увеличению производства любой ценой, все более независимо от рабочего времени и «живого труда» вообще. В результате растет производительность и интенсивность труда, количество рабочих рук сокращается, изматывающий труд и количество безработных и необеспеченных людей растут [550].
Южноамериканскис анархисты отрицали представление о «линейном прогрессе». Несмотря на рост зарплаты среди отдельных профессий, в целом «материальный уровень жизни трудящихся во всех странах значительно снизился», сейчас имеется «гораздо меньше свободы и больше нужды», чем прежде, утверждалось в документе АКАТ. «Можно установить определенный прогресс у отдельных народов, но следует видеть и застой, даже регресс. С 1914 г. мы живем в эпоху политического, морального и социального регресса. Конечно, обнаруживается прогресс в отношении технических возможностей, открытия огромных жизненных горизонтов, но мы откатились назад в том, что касается способности воспользоваться этими возможностями» [551].
Все это, по мысли рабочих-анархистов, не способствовало социальной революции. Отчаявшиеся, недовольные, голодные люди, мучимые заботой о куске хлеба, не годились на роль сознательных строителей нового общества, которое требовало «ума, понимания и сильной воли». Вслед за Кропоткиным, теоретики АКАТ считали, что «революция станет актом нс отчаяния, а надежды, а чтобы быть в состоянии создать надежды в области идей, следует обладать известной уверенностью в хлебе насущном». Вот почему анархисты Южной Америки придавали первостепенное значение борьбе за повышение уровня жизни трудящихся, «чтобы гарантировать им лучшие психологические и физиологические условия» и тем самым способствовать формированию у них «великих идей» [552].
В качестве ответа на последствия рационализации, включая порождаемую ею хроническую безработицу, АКАТ выдвигала «лишь два решения: социальная революция и сокращение рабочего времени». В принципе южноамериканские анархисты считали, что капитализм не может решить основные проблемы человечества, дать работу всем; «положение становится невыносимым». «Мы сами предпочли бы революционное решение», — писали они. В то же время, понимая, что «не все еще охвачены жаждой справедливости и свободы, но все... нуждаются в еде, одежде и жилище», они выдвигали и лозунг немедленного сокращения рабочего времени. «Мы отнюдь не отказываемся от революции, которая одна лишь будет в состоянии дать людям свободу и равноправие в отношении социального богатства и инструментов труда. Сокращение рабочего времени вырвет у капитализма некоторые важные уступки», позволит улучшить положение трудящихся, их менталитет и состояние духа, будет способствовать укреплению их воли к борьбе и развитио их созна ния. Рост свободного времени принесет с собой также сокращение капиталистической эксплуатации и расширение сферы «свободной игры творческих сил» Из всего этого проистекало требование о сокращении рабочего дня до шести часов, и АКАТ призы вала МАТ серьезно заняться этим вопросом на следующем конгрессе [553].
Анархисты Южной Америки соглашались с выводом о том, что в условиях капитализма трестов и концернов одни лишь традициОННЫС методы профсоюзной борьбы бессильны. Они считали уже недостаточными средства революционного синдикализма (стачки, бойкот, саботаж) и недопустимыми такие формы борьбы, как создание копирующих тресты международных отраслевых объединений работников. Теоретики АКАТ признавали, что не готовы еще дать ответ на эту дилемму. «Мы стоим перед едва обозначившимся горизонтом и не знаем, какое направление избрать». Они предлагали искать новые пути и ограничивались общей рекомендацией «организации пролетариата с точки зрения как производства, так и потребления», а также его «воодушевлением революционными идеалами с целью преодоления капитализма и государственной власти» [554].
Острые дискуссии развернулись в этот период в анархо-синдикалистском движении по вопросу о войне и милитаризме. Международная антимилитаристская комиссия (МАК), образованная МАТ и МАБ, регулярно издавала пресс-бюллетень на французском, немецком, английском и голландском языках (в 1927 г. вышло 9 номеров, в 1928 г. -- п, в 1929 г. — 16, в г. — 26, в первой половине 1931 г. — 12). Сотни статей из него перепечатывались синдикалистской и иной печатью во многих странах. Финансовое положение комиссии было тяжелым. В ее кассу поступало около 3 тыс. марок в год, причем как МАТ, так и МАБ должны были вносить половину этой суммы. (В действительности на долю МАБ приходились несколько большие расходы.) На IV конгрессе МАТ представитель комиссии де Ионг жаловался на недостаточное внимание к ес нуждам [555].
Французская РСВКТ выступила с идеей пересмотра некоторых элементов традиционного антимилитаризма, изложенного представителем МАБ дс Ионгом на конгрессе 1928 г. в Льеже и развитого в серии статей «Антимилитаризм и защита революции», которые были опубликованы в бюллетене МАБ в l930 г. В 1928 г. голландские синдикалисты поместили в пресс-бюллетене МАТ призыв к международному обсуждению проблемы. Нидерландские антимилитаристы не только отстаивали такие (до тех пор общепризнанные в анархо-синдикалистских кругах) методы, как бойкот воснной службы и саботаж производства на военныс нужды, но и пытались обосновать отказ от вооруженных методов борьбы вообще. При этом, в отличис от чистых пацифистов, они считали, что насилие, как таковое, может быть устранено лишь послс социальной революции, в свободном обществе. Они не отвергали принудительные и насильственные меры вообще, но угверждали, что применение трудящимися оружия в новую эпоху не может принести им победу и испол ьзовать следует средства экономической борьбы и гражданского неповиновения. «...Могут быть весьма целесообразны ненасильственные средства бойкота и несотрудничества и т.д. Кроме того, может быть целесообразным и пролетарское насилие, которое основано на оассовом противоречии и в котором выражается действительная массовая борьба, — писал Мюллер-Лснинг. — Пассивный отказ от военной службы, несомненно, важное средство в борьбе против войны, но, возможно, понадобится также саботаж, и, конечно же, для того, чтобы предотвратить войну, потребуются и методы социальной революции. Лишь всеобщая стачка, являющаяся не чем иным, как крайней и самой резкой формой классовой борьбы, может прсдотвратить войну, которая есть всего лишь последнее следствие классового общества» [556].
Отвечая голландцам в статье «Должны ли мы защищать революцию?», представитель французских анархо-синдикалистов Юар выразил категорическое несогласие с лозунгом уничтожения вооружений рабочими. Предотвратить войну можно только с помощью социальной революции, утверждал он, и это оружие и военнос производство могут понадобиться для ее защиты. Трудящимся следует не разрушать военные склады и предприятия, а завладеть ими, утверждал он, осуждая МАБ за пропаганду «ненасилия». Интересно, что французские синдикалисты, которые отличались, пожалуй, наиболее индустриалистскими и продуктивистскими симпатиями среди организаций МАТ, выдвигали и следующий аргумент: ОСущесТвление плана разрушения военной промышленности может привести на практике (с учетом реального переплстсния военной и «мирной» индустрии) к разрушению всей промышленности в целом. Что касается защиты революции, то Юар поставил вопрос о замене постоянной армии федералистской экономической оборонной организацией рабочих [557].
РС ВК Т подготовила и выпустила брошюру «Синдикализм и война», в которой развивала далсе тезисы, выдвинутые Юаром. Комментируя ее, ведущий теоретик организации Бенар настаивал на пересмотре прежних средств борьбы против войны, которые предлагались синдикализмом. С появлением новейшей военной техники и специализированных родов войск «неповиновение, дезертирство, массовый отказ от военной службы 9970 рабочего класса оказались бы неэффективными. Буржуазия может при желании вести войну собственными силами», — доказывал он. Остается лишь средство всеобщей стачки, но и его нельзя применять, как предполагалось прежде, в ответ на начало войны, так как война может начаться незаметно, без всякого официального объявления. Войну и самоубийство можно лишь предотвратить «социальной и революционной всеобщей стачкой», то есть «первым и творческим актом революции», которую должны готовить и совершить синдикаты [558].
Ряд аргументов французских синдикалистов был, по существу, поддержан Шапиро. Напомнив о том, что антимилитаристская пропаганда не смогла предотвратить Первую мировую войну своими чисто «негативными» лозунгами отказа от военной службы, производства оружия и военных материалов и уничтожения вооружений, на милитаризм и войну следует отвечать классовой борьбой организованного пролетариата, писал русский анархо-синдикалист; «к антимилитаристской проблеме следует относиться как к проблеме организации войны против войн ы». Шапиро утверждал: «Нельзя организоваться через отрицание. На мобилизацию следует отвечать не отказом от производства военных материалов, а взятием в свои руки мест произвоДства, на которых они изготовляются. Не уничтожением оружия отвечают на войну, а присвоением запасов военных материалов, чтобы затем с их помощью при необходимости защитить себя». На войну необходимо ответить не пассивным, а активным действием — революцией. При этом Шапиро заявлял, что «в ХХ веке нет особой антимилитаристской пропаганды», поскольку все перечисленные им действия входят в задачи революционно-синдикал истских организации [559].
Голландские анархо-синдикалисты де Ионг и Мюллер-Ленинг, в свою очередь, отстаивали прежние лозунги и требования и резко возражали в статье «Социальная революция и революционная тактика» против самой идеи военной защиты революции. «... Разумеется, мы должны защищать революцию, — писали члены МАБ. Вопрос заключается в следующем: могут ли теперь быть для этого практичными и эффективными милитаристские методы, проистекающие из современной технической войны? Мы отрицали это, основываясь на природе современной военной техн ики и имея в виду цель антиэтатистской социальной революции».
Де Йонг и Мюллер-Ленинг оспаривали утверждение Юара о том, что они яњляются принципиальными противниками насилия. Мы — не толстовцы, а анархо-синдикалисты, признающие классовую борьбу и допускающие применение насильственных методов, заявляли они. Однако использование военных методов в ходе революции они считали «неэффективным» и «не приносящим пользы», призвав «освободиться от революционно-романтической традиции насильственной революции».
Наиболее действенными методами борьбы с войной и защиты революции они считали экономические методы синдикализма — саботаж и стачку. Отвечая на аргумент об угрозе уничтожения промышленности вообще, голландские синдикалисты признавали факт переплетения военной и невоенной индустрии и возможность использования одних и тех же объектов и производств как в военных, так и в «мирных» целях. Но это вопрос «степени», утверждали они: «Есть специфически военные отрасли, единственным смыслом существования которых является война и без которых война не может происходить». Именно их, по мнению активистов МАБ, следовало уничтожить с помощью рабочего саботажа, чтобы предотвратить войну. Что касается защиты революции, то с учетом современной военной техники, танков, самолетов, отравляющих газов и т.д., писали они, «время уличных боев бесповоротно миновало». Если борьба будет идти на уровне современной военной техники и «современной войны», то рабочие неминуемо проиграют. К тому же они утеряют моральный авторитет и не смогут привлечь симпатии к революции. Далее, голландские синдикалисты не верили, что военная организация вообще может быть построена на федералистской основе. Наконец, поскольку современная военная технология предполагает, что «оборона означает прежде всего нападение», то кого же предполагается атаковать: «Промышленность своей собственной страны, над которой буржуазия еще удержи васт свое господство, там, где трудящиеся еще нс смогли порвать со своими хозяевами из класса капиталистов? Итак, разрушить промышленность, убивать трудящихся. Прекрасный способ... защищать революцию... Вести войну, истреблять рабочий пасс другой страны. Прекрасный способ интернационализировать революцию, создать общество равенства!» — восклицали де Йонг и Мюллер-Ленинг.
Ссылаясь на пример пассивного сопротивления против британских колонизаторов в Индии, голландские синдикалисты выступали за невоенные методы зашиты революции: «Хорошо организованное пассивное сопротивление в состоянии обрушить государство. Эффективное средство разрушить государство — это остановить общественную жизнь. Против пассивного экономического сопротивления, отказа платить налоги, бойкота и не-сотрудничсства военное насилие остается беспомощным... Государственное насилие, любой милитаризм оказывается беспомощным против этого экономического оружия». Активисты МАБ предлагали даже в случае военной интервенции из-за рубежа против революции не оказывать вооруженного сопротивления вторгшейся армии, пропустить ее, даже идя на риск военной оккупации, а затем нейтрализовать ее с помощью средств экономической борьбы [560].
Отвечая критикам из МАБ, Юар вновь повторил, что революцию невозможно осуществить и защищать без применения НаСИЛЬСТВСНных мер и методов, поскольку противник немедленно обрушит на нее все свои огромные силы. «...Только научно организованное насилие может восторжествовать над системным капиталистическим насилием». Французский синдикалист утверждал, что использовать методы «гандизма» в Европе невозможно, да и в самой Индии вооруженная борьба могла бы быстрсс привести к разгрому британских колонизаторов, если бы их противники обладали современной военной техникой. Он развивал идею федералистски организованных и скоординированно действующих рабочих ополчений-милиций, обладающих самым современным оружием и лучшими военными навыками, под контролем синдикалистской организации трудящихся. «Революция... должна обладать силами, превосходящими капитализм в техническом, количественном отношении и в том, что касается оборудования...» — настаивал Юар. Победившсй и вооруженной революции предстояло, по его мысли, «с первого часа объявить мир всем пролетариям мира и объяснить свои цели, не только ломая усилия капиталистов, но и вызывая доверие и энтузиазм у угнетенных народов. Она поможет им, одним словом, совершить их собственную революцию». Теоретик РСВКТ предлагал вынести вопрос на конгресс МАТ, чтобы «положить конец этому положению, этой оппозиции со стороны МАБ которое ставит под сомнение сами принципы финансирующего его Интернационала» [561]. Позднее французские синдикалисты заяшшли еще резче: необходимо «думать о защите революционных завоеваний с использованием как можно баре современного вооружения, до тех пор, пока мировая революция не станет свершившимся фактом» [562]. Мюллер-Ленинг и де Йонг отвергли обвинение в нарушении принципов МАТ, заявив, что их поддерживает голландское НСП а Интернационал в целом еще не высказался по данному вопросу. В свою очередь, они упрекали Бенара и Юара в стремлении создать «Красную армию» и службу безопасности, превратить «революционное отечество в военный лагерь». Допускают ли французские синдикалисты применение революцией оружия массового уничтожения, считают ли они возможным «создать социализму основу с помощью огромных бомб и ядовитых газов, бактерий и смертоносных лучей, при истреблении людей? Совершенно очевидно, что Юар и Бенар в этом вопросе — не революционеры, но, не раздумывая, перенимают самое современное варварство буржуазии и ее военных», — восклицали голландцы. РСВКТ, с их точки зрения, выступала даже не за устаревшие «революционные баррикады», а за «организованную военную систему». Тем самым она «попирала ногами» принципы и синдикалистские методы МАТ, а се взгляды «больше совпадают с большевизмом, нежели с революционным синдикализмом». Идя по этому пути, придется неизбежно признать необходимость революционной войны, использования военных экспертов, централизацию и, как следствие, центральную власть, то есть государство.
Да, вновь повторяли голландские антимилитаристы, в ходе борьбы и революции пролетариату придется использовать насилие и защищать революцию, но делать это следует «адекватно цслям» освобождения. Они заявили о необходимости «срочной ревизии нашей позиции по вопросу о насилии» с учетом разрушительности современной военной техники, опасности милитаризации революции, вооруженной контрреволюции и опыта «красного милитаризма» в России и Китае. Использованию оружия они противопоставили «невооруженные» средства насилия: стачку, бойкот капиталистов и власти, отказ от уплаты налогов, насильственное уничтожение оружия, арсеналов, тюрем, государственных офисов и т.д. [563]. В защиту тезисов голландцев высказался и индийский анархист М. Ачарья, писавший, что «применение военных средств» подрывает солидарность между трудящимися разных стран, в то время как «методы всеобщих стачек, отказ от военной и промышленной службы» укрепляют ее [564].
В международном анархистском движении существовали и другие точки зрения по «военному» вопросу. Так, один из первых «отказников» от военной службы и создателей голландского Антимилитаристского объединения вообще утверждал, что войны хотят лишь высшие военные чины и немногие ведущие представители имущих классов, и их можно будет нейтрализовать, уничтожив «средства насилия». В то же самое время позиция Мюллера-Ленинга и де Ионга казалась ему слишком пассивной и ненасильственной. Он доказывал, что военной силе вполне подвластно подавить акции «несотрудничества», бойкота и мирного гражданского неповиновения. Примерно в таком же духе высказался австрийский анархистский журнал «Контра» [565].
Редактор влиятельной женевской либсртарной газеты «Ле Ревей» Луиджи Бертони выступил защитником «революционной традиции», которая выступала за всеобщее вооружение народа. Отвечая голландским антимилитаристам, он писал, что жертвы, понесенные разоруженными трудящимися, куда больше и страшнее, чем те, которые могут быть вызваны революционной войной. Ссылаясь на действия фашистов, он заявлял, что активное и пассивное сопротивление могут быть подавлены вооруженным врагом. Кроме того, трудящиеся должны были быть готовы подавить вооруженнос сопротивление своим попыткам завладеть предприятиями [566].
Спор так и не был разрешен до конгресса МАТ в 1931 г.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов продолжались усилия по объединению анархистской и анархо-синдикалистской молодежи. 29—30 мая 1928 г. в Хёйзене (Голландия) был проведен первый конгресс Анархистского молодежного Интернационала с участием представителей из Австрии, Аргентины, Бельгии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Китая, России, США, Франции, Швеции и Японии. На нем вновь разгорелись споры между голландскими молодыми антимилитаристами и «Синдикалистскоанархистской молодежью» Германии. САМ отвергла голландский проект Декларации принципов, потребовала яснес сформулировать позиции в отношении повседневной борьбы, религии, частной собствснности, капитализма и государства, а также по отношению к МАТ. Немецкие молодые анархо-синдикалисты добивались также, чтобы конгресс в большей мерс обсудил практические проблемы. В итоге были приняты временная Декларация принципов и программная основа, в которых в самых общих словах утверждалось, что АМ И является «международным объединением молодых анархистов», борющихся за социальную революцию, ведет пропаганду обобществления средств производства и земли и отвергает любое государство, включая его восстановление «во имя социализма». Дeлeгаты подчеркнули решимость сотрудничать с МАТ и Международным антимилитаристским бюро [567] Конгресс почтил память Сакко и Ванцетти и потребовал освобождения Радовицкого и «других жертв белого и красного террора»568 Следующий конгресс должен был состояться в 1929 г. в Берлине.
Однако САМ была недовольна результатами конгресса и на своем 7-м конгрессе в Халле (декабрь 1928 г.) подвергла критике преимущественно антимилитаристскую и антигосударственную ориентацию голландской Свободной молодежи и конгресса в целом. Особо отмечалось, что немалое число участников отвергало классовую борьбу. САМ отказалась от членства в АМИ, не считая его революционным, и призвала к вступлению в МАТ, предложив ей ввести в Секретариат представителя молодежи. Второй конгресс АМИ в Берлине был созван не САМ, а отколовшейся от нее группой «Анархистской молодежи» На него приехали в основном голландские пацифисты. В итоге в последующие годы АМИ оставался практически идентичным голландскому Союзу свободной молодежи, а САМ в 1931 г. вновь стала требовать создания отдельного «анархо-синдикалистского молодежного Интернационала» [569].


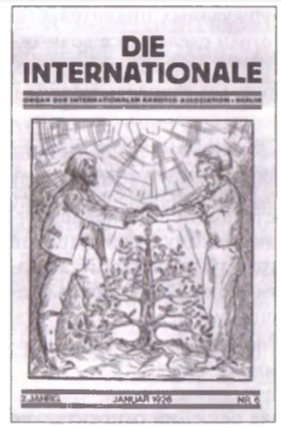
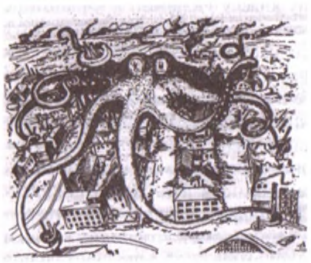




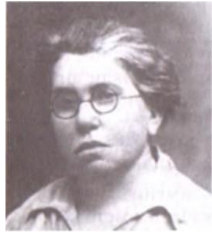
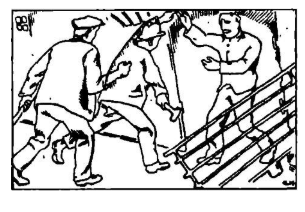

Нет комментариев