Глава 5. АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Система всестороннего угнетения, разработанная и систематически осуществляемая большевистской партией в России, ускорила настоятельную необходимость интернациональной смычки всех действительно революционных профессиональных и производственных организаций рабочего класса во всех странах. Эта смычка нужна была не для эгоистичной цели учреждения еще одного Интернационала. Она была необходима для выработки практической программы всемирной борьбы против Капитализма, против Государства, которос предоставляет всю свою армейско-полицейскую машину для защиты Капитализма, и ради основополагающих принципов реконструкции общества на антиавторитарной ОСНОВС федерализма, свободы на всех уровнях и солидарности.
Из англоязычной брошюры о МежДунароДной Ассоциации Трудящихся (1933 г.) [1]
Первая мировая война, свидетельствовал Рудольф Роккер, «разрушила всс международные связи политического и профсоюзного рабочего движения» [2]. Однако ещс в период войны стали выдвигаться предложения о возобновлении п ерванного процесса обыдинения синдикалистского движения. 7 декабря 1916 г. национальный секретариат труда (НСТ) нейтральной Голландии разослал революционн ым организациям вссх стран письмо с призывом сразу после окончания боевых действий созвать новый революционносиндикалистский конгресс. рто послание было перепечатано в бюллетене немецких и в периодической печати скандинавских синдикалистов. Конференция революционных синдикалистов Швеции, Норвегии и Дании в Копенгагснс 20—22 февраля 1919 г. официально поддержала организацию конгресса и предложила в качестве «запасного» места проведения датскую столицу. 10 мая того же года голландский НСТ разослал по различным странам ПРИГЛаШСНИС собраться в августс в Амстердаме. Из-за отказа правительства Нидерландов предоставить въездные визы конгресс было решено перенссти в Копенгаген, но датские власти оказиись столь же несговорчивыми, как и голландские. Наконец, шведские синдикалисты из САК выразили готовность провести форум в марте 1920 г. в Стокгольме или Мальмё, но и этот план был оставлен. Конгресс нсмецкого ФАУД в концс 19l9 г. постановил войти в связь с НСТ для созыва международного съезда в Голландии [3].
Тем временем российские большевики, коммунистические партии и группы ряда европейских стран объявили о создании Коммунистического Интернационала. Многим анархистам и революционным синдикалистам казалось, что новос международное объсдинсние может быть центром притяжения не только для леворадикального крыла прежней социал-демократии, но и для либертарисв, своего рода историческим примирением между Марксом и Бакуниным на основе революционных принципов. О своем присоединении к Коминтерну заявили французский «Комитет синдикалистской защиты». Перика (весной 1919 г. переименован в Коммунистичсскую партию, а затем — в Коммунистическую федерацию Советов), итальянсшй УСИ (в июле 1919 г., подтверждено конгрессом УСИ в декабре) и даже — «временно» в ожидании созыва в Испании конгресса по организации «подлинного Интернационала трудящихся» — испанская НКТ (на конгрессе в декабре 1919 г.) [4]. К партийным коммунистам примкнул ряд видных лидеров англосаксонского синдикализма — Билл Хейвуд (американские ИРМ), Т. Манн (ведущий британский рСВОЛЮЦИОННЫЙ синдикалист) и т.д.
Некоторые анархисты рано выступили с резкой критикой большевиков и их диктатуры. Среди них были итальянец Луиджи Фаббри и немец Рудольф Роккср. Уже в 1919 г. шведские революционные синдикалисты из САК выражали СОМНСНИЯ в том, что большевики действительно порвали с централизмом социал-демократи [5]. Но центром противодействия влиянию большевизма стало немецкое революционное профобъединение ФАУД.
В декабре 1918 г. ФАУД призывал к сотрудничеству с революционными социалистами. В организации имелись сторонники и даже члены компартии [6]. Весной 1919 г. в ее рядах еще преобладало признание беспартийной «диктатуры пролетариата», организованного в Советы в противовес парламентскому действию, хотя утверждалось, что социализацию могут осуществить только революционные профсоюзы? [7] В декабре 1919 г. на 12-м конгрессе СОН П преобразованного в ФАУД, была выражена солидарность с Советской Россией. Но на том же конгрессе с докладом о принципах синдикализма выступил Р. Роккер. В его докладе и принятом по нему «Заямении о принципах синдикализма» предлагался синтез анархизма и революционного синдикализма, который лег в основу идеологии анархо-синдикалистского движения. Сторонник анархокоммунизма П. Кропоткина [8]. Р. Роккер соединил традиционные цели анархизма (преодоление государства, собственности и систсмы разделения труда, создание федерации вольных коммун и децентрализованной нерыночной экономики, направленной на удовлетворение конкретных потребностей людей, этическое обоснование социализма) с разработанными немецким анархистом Г. Ландауэром представлениями о новой культуре и конструктивном творчестве по созданию элементов будущего свободного общества, не дожидаясь общего социального перевороте [9].
Отвергнув частную собственность как «монополию на обладание» и власть как «монополию на принятие решений», немецкие анархо-синдикалисты стремились «к обобществлению земли, орудий труда, сырья и всех общественных богатств, к реорганизации всей хозяйственной жизни на основе вольного, то есть безгосударственного коммунизма, который находит свое выражение в лозунге: ”Каждый по своим способностям, каждому по сго потребностям!”». Они подвергли критике не только буржуазное государство, государственныс границы, парламентаризм и политические партии, но и большевизм (партийный коммунизм), поскольку централизация, сохранение государственной власти и национализация (т.е. огосударствление) хозяйства могут «привести только к худшей формс эксплуатации — государственному капитализму, но не к социализму». Анархо-синдикалисты выступили не за завоевание политической власти, а за радикальное устранение всякой власти вообще. Поскольку социализм — это «в конечном счете вопрос культуры», он нс может быть установлен посредством каких-либо решений сверху. Он возможен только в форме объединения самоуправляющихся групп производителей, работников умственного и физического труда, причем «отдельные группы, предприятия и отрасли производства» должны работать как «самостоятельные члены всеобщего хозяйственного организма, которыс на основе взаимных и свободных договоренностей планомерно осуществляют общее производство и распределенис во всеобщих интересах». Средствами такого «планирования снизу» считались статистика и свободный договор. «Организация предприятий и мастерских производственными Советами, организация всего производства промышленными и сельскохозяйственными ассоциациями, организация потребления рабочими биржами» (т.е. межпрофессиональными объединениями работников на местах), — провозгласил Роккeр [10].
B соответствии с представлениями немецких анархо-синдикалистов, в ходе победоносной всеобщей стачки следовало осуществить экспроприацию собственности, предприятий, продовольственных запасов, жилья и т.д. Управлению предприятиями предстояло перейти в руки Советов рабочих и служащих, управленто домами — в руки Советов жителей. Делегаты от предприятий и округов составляли Коммуну. Деньги и система товарного производства (на продажу) подлежали отмене, регулирование потребления (вначале — нормированное, затем — с ориентацией на потребности) возлагалось на рабочие биржи и Советы жителеи [11]
Коренное отличие анархо-синдикализма от революционного синдикализма состояло в том, что синдикализм прямого действия считался теперь не «самодостаточной» доктриной, а средством достижения анархистского коммунизма. «...Анархо-синдикализм существует как организационная сила социальной революции на либертарно-коммунистической основе; анархисты-коммунисты должны для организации революции быть анархо-синдикалистами, и каждый анархист, могущий стать членом профсоюза, должен быть членом анархо-синдикалистской Конфедерации труда», заявлял позднее генеральный секретарь анархо-синдикалистского Интернационала Александр Шапиро [12].
Несмотря на открыто антибольшевистскую направленность новой доктрины, немецкие анархо-синдикалисты вначале еще допускали ограниченное сотрудничество с партийными коммунистами. Так, в январе 1921 г. Руководящая комиссия ФАУД в письме ЦК Объединенной компартии Германии заявила, что синдикалисты согласны на совместные действия при условии, что организации заранее согласуют требования (в том числе 6-часовой рабочий день, отмену сдельщины, отказ от производства оружия) и тактические шаги, а также будет соблюдаться равенство между участниками [13]. Но эти условия были для коммунистов-государственников неприемлемы. В 1921 г. ФАУД объявил о несовместимости членства в партиях с пребыванием в синдикалистской организации.
Однако в 1920 г. возможность практического взаимодействия еще допускалась. По приглашению советской стороны революционные профсоюзные организации различных стран направили своих представителей на 11 конгресс Коминтерна в Москве летом 1920 г. ФАУД уполномочил своих направляемых в Россию делегатов австралийца Пола Фримена и немца Аугустина Сухи «изучить экономическую Советскую систему в России, чтобы мы смогли прийти к ясности на сей счет и оценить в нашей стране опыт российских товарищей» [14]. П. Фримен стал позднее сторонником большевизма, А. Сухи вернулся из Москвы его пламенным противником. Свои впечатления от Российской революции он описал в изданной вскоре книге. Подвергнув резкой критике большевистские методы завоевания политической власти, централизма и диктаторского государственного социализма, немецкий синдикалист сделал рекомендацию: это урок, «как не следует действовать, если в собственной стране начинается революция» [15].
На П конгрессе Коминтерна в качестве делегатов или наблюдателей присутствовали также синдикалисты из Испании (Анхель Пестанья), Франции (Марсель Вержа и Берто Лепти), делегация британских шоп-стюардов во главе с Джоном Таннером, представители ИРМ. Уже после конгресса в Москву приехал ведущий активист итальянского УСИ Армандо Борги [16]. В ходе совещаний перед конгрессом, организованных Исполкомом Коминтерна, большевики предложили создать новый революционный Интернационш1 профсоюзов, причем в каждой стране профсоюз должен был действовать под руководством компартии — секции Коминтерна. В предложенном проекте предусматривалось также признание диктатуры пролетариата. Пестанья, Сухи и Таннер отвергли большевистские идеи о необходимости работы в реформистских профсоюзах, о диктатуре пролетариата, о завоевании политической власти и подчинении профсоюзов компартиям. Испанский делегат, связанный решением НКТ о вступлении в Коминтерн, согласился подписать проект, но только после того, как большевики пообещали исключить из него упоминание о диктатуре пролетариата и взятии политической власти. Однако в итоге Пестанья был обманут: текст был опубликован в прежней форме, но с его подписью. В ходе самого конгресса выявились те же самые разногласия [17].
На пути к размежеванию с большевизмом
Теперь революционным профсоюзам предстояло принять РСШСНИС, примкнуть ли им к создаваемому «Красному Интернационалу профсоюзов» (Профинтерну). О своем присоединении заявили британские шоп-стюарды и французские революционные синдикалисты (на конференции в сентябре 1920 г. в Орлеане, сопровождая это заявлением о верности Амьенской хартии [18]). В декабре 1920 г. в Берлине собралась долгожданная международная синдикалистская конференция с участием делегатов от ФАУД (Германия, представляли также Чехословакию), ФОРА (Аргентина), ИРМ (США), Революционно-синдикалистских комитетов (Франция), НСТ (Нидерланды), шоп-стюардов и рабочих комитетов (Британия), САК (Швеция). О поддержке встречи заявили синдикалисты из Норвегии, Дании и ВКТ Португалии. На конференцию прибыла также делегация от российских профсоюзов, которая уговаривала участников одобрить «диктатуру пролетариата» и создание Профинтерна как структуры, отдельной от Коминтерна. Шведские и немецкие делегаты выступили с критикой Москвы и преследований анархистов в России, британские и французские представители оказались твердыми сторонниками большевиков, голландская делегация раскололась, другие участники призывали выдвинуть конкретные требования к облику создаваемого международного объединения революционных профсоюзов. Эти требования, утвержденные всеми делегациями, кроме российской и французской, получили название Берлинской декларации. Согласно ей Профинтерн должен был стоять безусловно на почве массовой борьбы и «власти рабочего класса», стремиться к ликВИДаЦИИ господства капиталистической системы и государства и созданию вольного коммунистического общества. При этом отмечалось, что освобождение рабочего масса может быть осуществлено только с помощью экономических средств борьбы, что регулирование производства и распределения должно стать задачей экономических организаций пролетариата. Подчеркивалась полная независимость профсоюзного Интернационала от любой политической партии, хотя допускалось сотрудничество с партиями и политическими организациями. Все революционно-синдикалистские организации мира призывались принять участие в Московском конгрессе Профинтерна. Было создано Международное синдикалистское информационнос бюро в Амстердамс (секретарь — голландец Бернард Лансинк, члены — Роккер из Германии и Таннер из Великобритании) [19].
Большевики, верные им западноевропейские компартии и московский оргкомитет Профинтерна стремились склонить революционных синдикалистов к участию в создаваемом международном профобъединении под эгидой коммунистов. Главным противником при этом считался немецкий ФАУД. Так, в циркуляре отдела горнодобывающей промышленности Центра по профработе Компартии Германии окружным секретариатам и фракциям партии в профсоюзах давалось поручение «решительно бороться и преодолсть» эту организацию [20]. Коммунисты всемерно поддерживали отколы от ФАУД. Немецкие анархо-синдикалисты не послали делегацию на Московский конгресс. Во Франции, где внутри оппозиции в ВКТ существовали, по оценке коммунистов, «три направления: 1) анархо-синдикалисты, 2) старые синдикалисты, которые хотят возврата к Амьенской программе 1906 г., и 3) коммунистические синдикалисты» [21]. Москва опиралась на поддержку третьего течения и надеялась нейтрализовать первое. Тем не менес секретарем ЦК РСК в мае 1921 г. стал оппозиционный по отношению к большевизму Пьер Бенар. К союзу с Москвой стремилась группа новых лидеров испанской НКТ (Хоакин Маурин, Андрсс Нин и др.), выдвинувшихся на пленуме в Барселоне в апреле 1921 г. после ареста членов прежнего Конфедерального комитета [22].
(На конгрессе Профинтерна в июле 1921 г. коммунистам удалось с помощью удобной для них системы представительства обеспечить своим сторонникам значительное большинство. Все революционно-синдикалистские организации, участвовавшие в Берлинской конференции 1920 г. (кроме ФАУД), прислали своих представителей, но не смогли добиться принятия поддержанной французскими синдикалистами, ФОРА, ИРМ, НСТ, САК и немецкими левокоммунистическими рабочими союзами резолюции делегата Альбера Лсмуана о том, что Профинтерн не должен подчиняться Коминтерну. Были отклонены также предложения НКТ, УСИ НСТ, ИРМ, ФОРА, французских и канадских синдикалистов, Уругвайской региональной рабочей федерации и НСМСЦКИХ союзов против работы реформистских профсоюзах. После этого оппозиционные синдикалисты, собравшиеся в Москве, приняли «Манифест революционных синдикалистов мира» и договорились о создании «Ассоциации революционных синдикалистских элементов мира», в которую должны были войти НКТ, уси, РСК, ИРМ, САК, НСТ, ФОРА, немецкие рабочие организации и союзы из Дании, Норвегии, Канады и Уругвая с общим числом членов почти 2,8 миллиона. Бюро новой ассоциации предполагалось разместить в Париже. Но объединение так и не было создано [23]).
Большевикам удалось разбить единый блок синдикалистской оппозиции. Руководство Профинтерна достигло договоренности с делегацией испанской НКТ, пообещав ей, что коммунисты будут содействовать слиянию социалистических профсоюзов ВСТ с НКТ [24]. Французские делегаты на встречах с представителями Коминтерна и Профинтерна согласились с тем, чтобы в каждой стране координация работы компартий и профсоюзов осуществлялась в соответствии с местными особенностями. В принципе никто из синдикалистов не возражал против участия в Профинтерне при выполнении ряда условий — только ФОРА дезавуировала своего делегата на Московском конгрессе.
Ситуация начала меняться в неблагоприятную для Москвы сторону в связи с репрессиями против анархистов и анархо-синдикалистов в России и на Украине (делегации зарубежных синдикалистов в Москве требовали их освобождения), а также в связи с тем, что большевики продолжали настаивать на подчинении профсоюзов Коминтерну. В октябре 1921 г. на международной конференции синдикалистов из Германии, Нидерландов, Швеции, Чехословакии и от ИРМ, которые собрались в Дюссельдорфе по случаю 13-го конгресса ФАУД, было принято решение считать основание Интернационала профсоюзов несостоявшимся. Участники высказались за созыв в Германии нового международного конгресса на основе Берлинской декларации. Подготовка встречи возлагалась на международное Информационное бюро революционных синдикалистов и индустриалистов, приступившее к изданию соответствующего международного бюллетеня [25]. К призыву ПРИСОСДИНИЛСЯ и итальянский УСИ, который на своем конгрессе в марте 1922 г. отклонил предложение группы Николо Векки о вступлении в Профинтерн, пока вопросы о взаимоотношении профсоюзов с Коминтерном нс будут обсуждены на новом конгрессе вне советской территории [26]. Такое же требование выдвинули и французские синдикалисты, отделившиеся наконец в 1922 г. от ВКТ и образовавшис Унитарную ВКТ (УВКТ). Члены шведского профцентра САК на референдуме отвергли поправки к Декларации принципов, предусматривавилис возможность присоединения к Профинтерну, связанному с компартиями. Испанская НКТ, пленум которой еще в августс 1921 г. вновь подтвердил независимость от политических партий и курс на организацию социальной революции и вольный коммунизм, избрала новый состав Национального комитета из анархистов. В июне 1922 г. на пленуме в Сарагосе НКТ приняла решение о принципиальном выходе из Коминтерна и о посылке делегатов на конференцию синдикалистов.
В целом требования синдикалистов к Профинтерну сводились к следующим основным пунктам: «1. Отмена взаимного представительства Коминтерна и Профинтерна для сохранения самостоятельности революционного профсоюзного движения; 2. Второй конгресс Профинтерна должен проводиться за рубежом, чтобы исключить предполагаемое вредное влияние России на заседания; 3. Недопущение отдсльного представительства делегаций от профсоюзов Грузии, Армении, Украины и подобных стран, находящихся под русским влиянием; 4. Перемещение резиденции Исполкома Профинтерна за границу; 5. Независимость профсоюзного движения в национальном и интернациональном масштабе от политических партий, то есть и от коммунистов; 6. Недопущение представительства революционных меньшинств, под которыми имеется в виду охватывающая коммунистические фракции оппозиция в профсоюзах, принадлежащих к Амстердамскому Интернационалу (международному профсоюзному объединению, находящемуся под контролем социал-демократии. — В.Д.); 7. Голосование на международных конгрессах Профинтерна по странам, независимо от числа членов организаций; 8. Ограничение сферы Профинтерна международными делами. Запрет вмешательства в поведение и тактику в отдельных странах» [27].
Инициатором поиска соглашения между Профинтерном и синдикалистами выступила французская У ВКТ. В письме, направленном в Исполбюро Профинтерна 8 марта 1922 г., но согласованном еще в феврале, ес синдикалистское руководство потребовало строЖаЙШСЙ организационной независимости национальных профцентров от компартий и Коминтерна в целом, лишь в этом случае выражая готовность примкнуть к Профинтерну. При этом оно готово было допустить сотрудничество с коммунистами в рамках «коалиции вссх революционных сил» через специально создаваемые «Координационные комитеты» [28]. Пересылая этот проект в Москву, испанский коммунист Иларио Арландис призывал принять его, чтобы «как можно скорее разоружить либертариев», учитывая, что эти идеи широко популярны в международных синдикалистских и даже отчасти коммунистических кругах, особенно в латинских странах, где для Профинтерна сложилось «крайне деликатное» положение, и активную антибольшевистскую агитацию российских анархистов. «Если мы раз и навсегда не прссечем все это оппозиционное движение, сделав декларацию в пользу полной независимости Профинтерна, — предупреждал он, — мы сильно рискуем больше не дойти до этой темы; ...если ссгодня неотъемлемым условием синдикиистской оппозиции является организационная независимость без какой-либо связи, то завтра либертарии выдвинут вопрос о Диктатуре пролетариата» [29].
Руководство Профинтерна предложило 10 марта УВКТ направить в Москву двух представителей для переговоров, с тем чтобы «подготовить почву для второго конгресса в интересах всех тенденций и для как можно большего блага для нашего общего дела» [30]. Но СИНДИКаЛИСТЫ предпочли идею общих переговоров с Москвой. Конгресс итальянского УСИ в марте 1922 г. одобрил предложение УВКТ созвать международную конференцию для обсуждения условий договоренности. Ее созыв первоначально шланировался на 16—18 июня в Париже [31]. В связи с этим Административная комиссия У ВКТ на заседании 28 апреля отвергла приглашение Профинтерна о посылке французских делегатов в Москву. Она проинформировала генерального секретаря Красного Интернационала Лозовского о решении созвать «предварительную конференцию» в Париже, которая призвана «заставить исчезнуть разногласия», препятствоившие вступлению синдикалистов в Московсшй Интернационал. У ВКТ попросила УСИ, занимающийся организацией конферснции, перенести ее созыв в Берлин, чтобы облегчить присутствие на ней делегации российских профсоюзов [32].
19 мая 1922 г. руководители УСИ А. Борги и А. Джованнепи проинформировали «секретаря российского профцентра» о том, что 16—18 июня в столице Германии будет проходить «международная синдикалистская конференция с целью изучить различия во взглядах, существующие между революционным синдикалистским движением всех стран и Красным Интернационалом профсоюзов, и договориться о создании Революционного профсоюзного Интернационала, если разногласия с Красным Интернационалом профсоюзов не найдут своего разрешения». УСИ сообщал о приглашении профобъединений из Италии, Франции, Германии, Испании, Португалии, России, а также «синдикалистского меньшинства» из различных стран [33].
В инструкциях, данных делегации Профинтерна на международной синдикалистской конференции, указывалось, что возможны дискуссии и даже уступки по этим вопросам, за исключением трех основных — о независимости профсоюзов от политических партий, о недопущении коммунистических фракций в реформистских профсоюзах и о невмешательствe в дела отдельных организаций. «В (этих) трех важнейших вопросах должна вестись борьба, и на этой основе мы намерены идти вгшоть до открытого разрыва...» — говорилось в инструкции [34].
Международная конференция революционных синдикалистов, которая состоялась в Берлине 16—19 июня 1922 г., собрала делсгатов из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Испании, а также российских анархо-синдикалистов и официальных российских профсоюзов, представлявших Профинтерн. Коммунистическая фракция в УСИ и профсоюзы, отколовшиеся от немецкого ФАУД, не были допущены с правом решающего голоса, что побудило советских делегатов покинуть конференцию. Большинство участников подвергло резкой критике репрессии против анархистов в Советской России. Это был окончательный разрыв между синдикалистами и коммунистами. И хотя французские представители из-за внутренних разногласий воздержались от голосования, остальные делегаты постановили порвать с Профинтерном [35]. Конфсренция констатировала, что «Красный Интернационал профсоюзов, как таковой, ни с точки зрения принципов, ни с точки зрения статутов не представляет из себя международную организацию, способную спаять мировой революционный пролетариат в единый боевой организм». Конференция постановила созвать 12—19 ноября 1922 г. Всемирный конгресс революционно-синдикалистских профцентров, а для подготовки его образовать «Временное бюро революционных синдикалистов». Бюро было поручено также сообщить Исполкому Профинтерна решения Берлинской конференции и пригласить входящие в него организации присутствовать на намечавшемся конгрессе, «чтобы изучить основы сосуществования в одной организации всех революционно-синдикалистских сил мира» [36]. В состав Берлинского бюро во главе с Роккером были избраны Борги (УСИ), Пестанья (НКТ), Альберт Йенсен (от скандинавских синдикалистов) и Шапиро (от русских анархо-синдикалистов).
Была принята Декларация принципов, в основу которой легла соответствующая декларация ФАУД. В ней отвергались политические партии, парламентаризм, милитаризм, национализм и централизм. Провозглашались полная автономия экономических организаций трудящихся физического и умственного труда, прямое действие, курс на всеобщую стачку как его высшее выражение и «прелюдию к социальной революции», цель федералистского персустройства экономической и социальной жизни, ликвидации всех государственных функций в жизни общества и создания строя либертарного коммунизма. Решительно осуждались диктатура пролетариата и большевистские методы [37]. По словам исследователя У. Торпа, декларация «обозначила важный сдвиг в синдикалистском мышлении, поскольку закрепила и сделала явным то, что часто лишь подразумевалось в довоенном европейском синдикализме». Ведь она сформулиров,иа «нс просто политическую нейтральность, выраженную в ”Амьенской хартии”, но оппозицию по отношению ко всем политическим партиям, которые рассматривались ныне как отличные, враждебные организации, неминуемо стремящиеся к установлению контроля над профсоюзами или к их подчинению, а также разрушение политического государства... Короче говоря, документ, принятый делегатами в Берлине, выработал анархо-синдикалистские принципы» [38].
Созданное Бюро приступило к подготовительной работе. Оно поддерживало регулярные связи с революцион но-синдикиистскими организациями в различных странах, рассылало им издававшийся на французском и английском языках «Международный бюллетень революционных синдикалистов».
В последней попытке привлечь на свою сторону хотя бы часть революционных синдикалистов руководство Коминтерна и Профинтерна согласилось на отмену взаимного представител ьства обоих «красных» Интернационалов, хотя продолжало настаивать на «руководящей роли» коммунистов в профсоюзах. Эта уступка показалась достаточной руководству французской У ВКТ, которое заявило о присоединении к Профинтерну, либертарное меньшинство образовало Комитет синдикалистской защиты (КО). Удовлетворилось мерами Москвы и большинство руководства нидерландского НСТ, выступившее против создания нового синдикалистского Интернационала. Остальные революционно-синдикалистские союзы поддержали организационное размежевание с большевизмом. Так, на конгрессе португальской ВКТ в октябре 1922 г. 55 синдикатов высказались за создание нового Интернационала и только 22 за присоединение к Профинтерну [39].
Таким образом, большинство революционных синдикалистов мира к концу 1922 г. склонились к созданию собственного Интернационала. Но при этом акценты расставлялись зачастую очень поразному.
Для ФАУД и его ведущего теорстика Роккeра — одного из инициаторов создания Интернационала и автора проекта его Деюларации принципов — необходимость объединения революционно-синдикалистских сил диктовалась прежде всего реальным размежеванием в международном рабочем движснии, задачей противостояния реформизму и большевизму. «Послс того как социалистичсскис партии и профсоюзы в большинстве стран боролись во время войны на сторонс своих правительств, не могло уже быть и речи о внутрсннем единстве рабочих», — писал он позднее в мемуарах. В то же время и большевизм был неприемлем для синдиКИИСТОВ, поскольку они считали, что «социалистическое преобразование общества нс может быть делом ни политической партии, ни государственной организации в какой бы то ни было форме, но должно проистекать из естественных экономических организаций труда». Им нс оставалось ничего другого, как оформить свою собственную международную организацию [40]. Такая организация воспринималась как плюралистическое объединение различных синдикалистских течений в рамках общих установленных либертарных и федералистских принципов. Роккер неоднократно подчеркивал, что в нем есть место и для анархо-синдикалистов, и шля анархистов, действующих в рабочем движснии, и для «чистых» синдикалистов, СТОРОННИКОВ Индустриальных рабочих мира и т.д. Немецких анархо-синдикалистов роднило с довоенным революционным синдикализмом прежде всего представление о профсоюзах как основной силе революционной борьбы и ядре нового, социалистического общества. В то же ВРСМЯ они считали необходимым соединить революционно-синдикалистское движение с анархистской «программой» и отвергали идеологию марксизма. Так, признавая пассовую борьбу как социально-революционный фактор, они — в отличие от марксистов и довоенных синдикалистов — отказывались видеть в ней основу исторического прогресса. Характеризуя отношсние анархо-синдикализма к пассовой борьбе, видный немецкий синдикалист Фриц Линов отмечал: «Классовая борьба — лишь сравнительно подчиненная составная часть социалистического мировоззрения, и борьба социализма направлена нс на сохранение массовой борьбы, а — ВСЛEДСТВИE разделения общества на классы — на ликвидацию его [этого разделения] и, тем самым, логическим образом — на ликвидацию классовой борьбы. Социализм смотрит на ВEЩИ нс с абсолютной... а с относительной точки зрения, [считая,1 что массовая борьба действует и останется до тех пор, пока различные обстоятельства экономической, социальной и политической природы порождают противоположность опрсдсленных обществснных групп. По этой причине речь для социализма идет не о массовой борьбе, а о ликвидации старых производственных отношсний и старого состояния общества с цслью создать новые отношения, при которых больше нс будет ПРEДПОСЫЛОК для разделения на классы... и тем самым для существования классовой борьбы» [41].
Важнейшую роль в создании синдикалистского Интернационала, помимо немецкого ФАУД, сыграли русские анархо-синдикалистские эмигранты в Берлинс во главе с Александром Шапиро. Сам Шапиро вынуждсн был покинуть Советскую Россию в дскабрe 1921 г. после того, как активно вел кампанию за освобождение других анархо-синдикалистских активистов — Григория Максимова, Марка Мрачного и Ефима Ярчука, объявивших голодовку во время проведения учредительного конгресса Профинтерна, что вызвало ВОЛНСНИС среди делегатов конгресса. В августе 1922 г. Шапиро всрнулся в Россию, но был арестован [42].
Арест российского анархо-синдикалиста вызвал негодование в революционно-синдикалистских кругах мира и углубил их противостояние большевизму. Генеральный совет УСИ на специальном заседании в Риме проголосовал за резолюцию солидарности с Шапиро. В Исполком Профинтерна и ЦК Российской компартии было направлено письмо протеста от имени синдикалистов и либертариев Италии с требованием прекратить преследования, «которые отягоИпЮТ интернациональныс отношения» и гарантировать свободу либертарному синдикализму в России [43]. Во Франции развернули мощную агитацию за освобождение Шапиро Комитет синдикалистской защиты и анархистский печатный орган «Либертер». Объединенный союз профсоюзов Сены направил 29 сентября телеграмму протеста Всероссийскому Центральному совету профсоюзов и Профинтерну с требованием вмешаться и добиться того, чтобы арестованный вышсл на свободу [44]. Исполнительная комиссия Национальной федерации трудящихся строительной отрасли и общественных работ Франции и колоний в резкой форме протсстовала против «произвола в России». Она выразила сожалснис в связи с тем, что «в России, странe, гдс к тому же произошла пролетарская революция, синдикалистскис активисты больше нe имеют права гражданства» и права на то, чтобы «их голос был услышан». Комиссия потребовала от российских профсоюзов и Профинтерна «оказать давление на российское правительство», чтобы Шапиро был освобожден [45]. Недовольство членов профсоюзов во Франции приобрело такие масштабы, что лидер компартии А. Росмeр в письме в Профинтерн упрекал его руководителей в том, что тe ничего не сообщили о деле Шапиро французским товарищам и подставили их под удар анархо-синдикалистов [46].
Послс кампании протестов Шапиро был выслан из России. 31 октября 1922 г. он вновь выехал в Берлин, где присоединился к подготовке учредительного конгресса Интернационала революционных синдикалистов. Позднее, на конференции МАТ в Инсбруке в декабре 1923 г. другой секретарь Сухи отмечи, что за истекший год Шапиро выполнял бoльшую часть работы Секретариата. Кроме того, вместе с высланными из России Максимовым, Мрачным и Ярчуком он издавал в 1923 г. в Берлине газету «Рабочий путь».
В отличис от Роккера и немецких анархо-синдикалистов, для которых создание МАТ было прсждс всего ответом на большевизм, с одной стороны, и реформизм, с другой, Шапиро рассматривал новый Интернационал как продолжение усилий по объединению революционного синдикалистского движения, начатых еще до Первой мировой войны [47]. Он утверждал, что размежевание с Профинтерном было «лишь одним из факторов в процессе организации МАТ. Если бы Москвы не было, то у революционных синдикалистов все равно был бы свой революционно-синдикалистский Интернационал, здание которого они начали возводить еще наканунс мировой войны и незамедлительно возобновили его после войны». МАТ необходима не только как практическая организация, но и для выработки программы борьбы против государства и капитала и за построение нового общества [48]. Соответственно Шапиро стремился к более детальной разработке вопросов, которые были в общем очерчены в документах МАТ и продолжали вызывать споры в ее рядах, вопросов о пути к вольному коммунизму, роли профсоюзов в построении нового общества и т.д. В принципе он надеялся на то, что движению удастся в будущем выработать сдиную стратегию и реализовать ее.
Свои гораздо более жесткие требования к создавасмому Интернационалу выдвигали южноамериканские рабочие анархисты. для них (как и для испанской НКТ) он должен был быть преждс всего прямым наследником бакунинского крыла Первого Интернационала [49]. Тсорстики аргентинской ФОРА утверждали, что раскол исторического Интернационала стал рсзультатом непримиримых расхождсниЙ во взглядах между приверженцами антиавторитарного (анархистского) и авторитарного социализма, между которыми затем, как промежуточнос явление, выросла синдикалистская идеология. За гибелью Первого Интернационала последовали попытки возродить его, восстановив «международные связи между всеми теми организациями, которые, порвав сети реформизма и под воздействием... революционного синдикализма, были склонны возвссти преграду на пути неминуемой войны...». Такие попытки, с точки зрения ФОРА, нс были свободны от многочисленных ошибок и непоследовательности, но все же представляли собой движение вперед. Всхами на этом пути южноамериканцы считали конгресс 1913 г. и послевоенные усилия по сплочению революционных рабочих союзов, размежеванию с «чистым» синдикализмом и большевизмом [50].
Аргентинская ФОРА считала разрыв возникающего анархосиндикализма с довоенным синдикализмом и с большевизмом нсдостаточным, В «Меморандуме», адресованном будущему учредительному конгрессу синдикалистского Интернационала, ФОРА выразила полное согласие с предложенной организационной системой, с методами борьбы и одобренной социальной целью создаваемой международной организации — вольным коммунизмом. Однако она раскритиковала рял решений и формулировок Берлинской конференции, в которых содержались многие из юпочевых синдикалистских идей. Прежде всего аргентинские рабочис анархисты считали синдикиизм не целью, а средством борьбы. «ФОРА, — гонорилось в меморандуме, — видит в синдикализме лишь то, чем он является: средство, которое, находясь в руках обездоленных, противостоит режиму сушсствующсй несправедливости, но... некоторым образом является детищем того жс самого режима», созданным «в чреве буржуазного общества, в авторитарной окружающей среде». Это не только «единственное средство, которым обладают трудящиеся для того, чтобы противостоять безмерной эксплуатации со стороны хозяев и защишаться от тирании государства». Рабочие союзы дают людям труда возможность осознать свою собствснную силу, развивают навыки сопротивления и борьбы, позволяя породить динамику, могущую привести к революции. Это «зародышевое проявление принципа солидарности и тигель, в котором выплавляется форма первых пролетарских восстаний». Тем не менее, утвсржлии аргснтинскис анархисты, ни синдикализм, ни что-либо иное не вправе претендовать на руководящую роль в революции. ибо ее делают не организации, а массы. «Вопреки голосам, требующим “всю власть — синдикатам", ФОРА, сознавая вред, причиняемый любой властью, даже находящейся в руках тех, кто провозглашает полнос освобождение, отвечает: ”никакой власти — никому”». Как подчеркившлось в меморандуме, «с ликвидапией капиталистического производственного строя и господства государства синдикалистские экономические органы заканчивают свою историческую роль как особое оружие в борьбе с эксплуататорским строем и тиранией. Вследствие этого они должны уступить место свободной ассоциации и свободной федерации ассоциаций свободных произволитслсй и потребителей». Таким образом, отвергалось оючсвое для синдикалистов представление о рабочих пролзводствснных союзах как основс будущего свободного общества.
ФОРА выступила также против индустриальной (отраслевой) формы организации, считая, что она копирует капитализм и порождает бюрократические структуры. Вместо этого аргентинские рабочие анархисты отстаивали федерацию автономных рабочих союзов, создаваемых трудящимися так, как это им необходимо. Только из такого свободного соединения, а не из формализованного механизма может проистекать подлинная солидарность, заявляли они.
Наконец, ФОРА категорически осуждала любые политические партии как «врагов свободы», отвергала всякую возможность достичь соглашения с профсоюзами, входившими в Профинтерн, и создать «единый фронт» с ними за счет сделок и компромиссов. В новый Интернационал должны были, по ес мнению, войти только организации, занимаюшие «четкие революционные позиции» [51].
Первый конгресс МАТ
Созыв международного конгресса революционных синдикалистов и индустриалистов был намечен на 12 ноября 1922 г. дата была выбрана с учетом того, что 20 октября в Москве должен был собраться конгресс Профинтерна, решений которого ожидали многие синдикалисты. Но поскольку форум Профинтерна отложили до 20 ноября, Временное Интернациональное бюро перенесло проведение революционно-синдикалистского конгресса на 25 декабря. В качестве места проведения избрали Берлин — город, сравнительно равномерно удаленный для делегатов из разных стран. В пользу германской СТОЛИЦы говорили также сравнительная дешевизна жизни, надежды на более благоприятный политический климат и на то, что форум удастся провести «почти открыто, без чрезмерной назойливости властей» [52].
В циркуляре, разосланном Временным бюро приглашенным организациям, давалось общее обоснование необходимости созыва конгресса, сообщались его регламент, повестка дня и другие организационные детали. Подчеркнув, что идея объединения революционных СИНдИКШ1ИСТОВ ВОСХОдИТ к Лондонскому конгрессу 1913 г., что надежды на Русскую революцию не сбылись, а Профинтерн оказался неприемлемым, Бюро подтвердило «неизбежность» и настоятельность «единого фронта синдикалистов» мира. Приглашения принять участис в работе конгресса были направлены «всем национальным рабочим организациям, разделяющим революционно-синдикалистские или индустриалистские принципы». «всем независимым профсоюзам», которые не входили в национальные профцентры, но разделяли упомянутые принципы, а также ревоЛЮЦИОННО-СИНДИКАЛИСТСКИ.М меньшинствам внутри профобъединений. Предварительно намечалось предоставить каждой из прибывших организаций по одному голосу с тем, чтобы затем сам конгресс определил нормы для голосования. Бюро предложило включить в повестку дня следующие вопросы: отчеты делегаций о состоянии движения (каждая делегация должна была представить письменный отчeт не позднее чем за 15 дней до открытия, с тем чтобы сго успели перевeсти); программа действий революционных синдикалистов и индустриалистов (революционная тактика, всеобщая стачка, организация профсоюзов, рабочий контроль на предприятиях, кооперативы, безработица, женщины в синдикалистском движении, синдикалистская молодежь); проблемы аграрного синдикализма; национальная и интернациональная организация синдикалистов; статуты международной синдикалистской организации; международная борьба за свободы печати и слова, против преследований; выборы нового Международного бюро. Таким образом, речь шла о широком круге вопросов, которые охватывали все главные стороны программы и тактики революционно-синдикалистского движения.
Призвав будущих участников взять на себя часть организационных расходов, Временное бюро разослало, кроме того, приглашаемым организациям анкету. Оно просило ответить на ряд вопросов: проводили ли они собственные конгрессы до 25 декабря 1922 г. и какие решения были на них приняты; сколько делегатов планируется послать на Берлинский конгресс; сколько членов в данных организациях, каковы функции их центральных органов и как организованы их территориальные и местные отделения; каково их отношение к Профинтерну и к созданию революционно-синдикалистского Интернационала; какие еще революционно-синдикалистские и индустриалистские организации существуют в той же самой стране; какие реформистские профсоюзные организации действуют в данной стране и какова их численность. Ответы на анкету должны были послужить лучшей подготовке Берлинского конгресса [53].
Конгресс проходил в Берлине с 25 декабря 1922 г. по 2 января 1923 г. С правом решающего голоса было решено допустить делегатов от общенациональных организаций, уже входящих в Интернациональное бюро или еще не присоединившихся к нему, а также от организованных меньшинств, которыс действовали в странах, где еще не было общенациональных синдикалистских организаций. Таким образом, были представлены делегаты от Аргентинской региональной рабочей федерации (ФОРА, до 200 тыс. членов и сторонниов; Орландо и Диего Абад дс Сантильян), Свободного рабочсго союза Германии (синдикалистов) (ФАУД; 120 тыс. членов; Фриц Катер, Аугустин Сухи, Герман Риттер, Шустер, Адольф Биттнср, Хундт, Аугуст Кепенбах, Роберт Шлиш), Синдикалистской пропагандистской федерации Дании (600 членов; Эмиль Манус), Итальянского синдикального союза (УСИ; 500 тыс. членов; Гради, Алибрандо Джованнетги), Национального секретариата труда Нидерландов (НСТ; 22,5 тыс. членов; Т.дисссль, И.Г. ван Зельм, Ян Схенк), Норвежской синдикалистской федерации (НСФ; 3 тыс. членов; Д. Смит), Центральной организации рабочих Швеции (САК; 32 тыс. членов; Эдвин Линдстам и Франц Северин, а также в качестве наблюдателей — Эйвинд Ионссон и Виктор Винде). Ряд организаций прислал свои мандаты и решения в письменной форме. Так поступили Всеобщая конфедерация трудящихся Мексики (ВКТ-М, 30 тыс. членов), передавшая свой мандат Роккеру, Всеобщая конфедерация труда Португалии (ВКТ-П; 150 тыс. члeнов), Индустриальные рабочие мира (ИРМ) Чили (40 тыс. членов; делсгат Хосе Монтака так и не смог прибыть вовремя). Не сумели прибыть делегации Национальной конфедерации труда Испании и Уругвайской региональной рабочей федерации.
Совещательный голос признавался за общенациональными организациями из стран, где уже имелись национальные синдикалистские федерации, группами меньшинства из профобъсдинений, входивших в Амстердамский Интернационал профсоюзов и Профинтерн, отраслевыми или профессиональными союзами, принадлежавшими к общенациональным федерациям, которые не входили в Интернациональное бюро или не присутствовали на конгрессе, а также за синдикалистскими пропагандистскими группами из стран, в которых синдикалистские профобъединения отсутствовали. Наконец, молодежные организации получали право совещательного голоса по вопросам, касавшимся синдикалистской молодежи. Таким образом, были представлены: Всеобщий рабочий союз — Единая организация (ВРСЕ; Германия; 75 тыс. членов; Франц Пфемфсрт и Алльмср), Синдикалистско-анархистская молодежь Германии (l , 5 тыс. члснов; Хсссберг, Й. Штайн), Комитет синдикалистской защиты Франции (КСЗ; 100 тыс. членов; Пьер Бенар, Альбер Лемуан), Федерация строителей (Франция, 32 тыс. членов), Федерация синдикалистской молодежи Сены (Франция, 750 членов), российское синдикалистское меньшинство (Шапиро, Ефим Ярчук), Свободный рабочий союз Чехословакии (входил в ФАУД, тыс. членов; Франц Новак). С совещательным голосом в конгрессе приняли участие также члены Временного Интернационального бюро — Роккер и Б. Лансинк. Кроме того, в качестве гостей присутствовали представители Федерации строитслсй и мсталлистов Голландии (Роодсвельдт, Ультее, Дорнсбосх), Социалистичсской партии Голландии (Колтск), Международного антимилитаристского бюро (Б. де Лихт), польские делегаты, индийские эмигранты и т.д. [54])
Острые споры вызвал с самого начала вопрос о возможном появлении на конгрессе лидера Профинтерна Алсксандра Лозовского. Французский делегат Бенар высказался за его допуск с тем, чтобы тот мог лично объяснить РСШеНИЯ П конгресса Профинтерна, касающиеся измснения статутов и взаимоотношсния этой международной организации с Коминтерном. Голландец Диссель предложил даже предоставить Лозовскому право голоса по всем вопросам, которыс имели отношение к Профинтерну, однако другие делегации возражали, особенно представители ФОРА. В конечном счете предложение голландцев было отвсргнуто всеми голосами, кроме НСТ, и принято предложение Шапиро: в случае появления членов Профинтерна предоставить им слово для объяснения [55]. Однако никто из Красного Интернационала профсоюзов так и не явился.
Поскольку некоторые из делегатов прибыли в столицу Германии нелегально, его ходу несколько раз мешала полиция. Согласно статье, опубликованной бывшим генеральным секретарем МАТ Дж. Андерссоном в норвежской анархо-синдикалистской газете «Соладаритет» (август—сентябрь 1959 г.; перепечатана в испанской «СНТ» в апреле 2002 г.), первый день конгресс работал в доме за пределами города. Второй день намечалось провести заседания в другом месте, но делегаты получили прсдупреждение, что там их ужс ожидает полиция. Пришлось собраться в ином месте, в берлинском районе Нидср-Шёневайде. Вечером в это помещение ворвался полицейский наряд, который потребовал у собравшихся предъявить документы. Нсмецкие делегаты энсргично протестовали и стали настаивать, чтобы полицейские предъявили соответствующий ордер. Нс имея такового, наряд удалился, однако оставил двух человек для наблюдения. Но делегатам удалось покинуть здание и уйти от слежки. На слсдующиЙ день конгресс собрался в самом центре Берлина, недалско от Алсксандер-плац и штаб-квартиры берлинской полиции. В этом здании он и заседал в последующие дни. Однажды после полудня вновь явились вооруженныс полицейские, которые окружили дом и ворвались в зал заседаний. Поднялся шум, делегаты начали громко протестовать. Один из делегатов, не имевший пригодных документов, выскочил в окно, но был схвачен на улице. Польский делегат отбивался от полицейских, но был сбит с ног. Французская делегатка выскочила вперед и ударила офицера кулаком в лицо; она была арестована и вместе с рядом других участников отправлена в берлинскую тюрьму Моабит. Все делегаты подверглись обыску. После всего этого полиция покинула помещение, и конгресс смог продолжить работу [56]. Но вечерняя сессия на четвертый день работы была вновь прервана из-за вмешатсльства полиции. Днем 30 декабря снова явился наряд, который проверил документы у присутствовавшие.
Заседания конгресса были открыты секретарем Временного Интернационального бюро Рокксром, который приветствовал участников от имени бюро и Административной комиссии ФАУД и назвал в качестве главной задачи форума определение отношения синдикалистов к революционному движению и нахождение ориентиров для РEВОЛЮЦИОННОГО объединения пролетариата. Русская революция была «первой попыткой... открыть путь к практическому осуществлению социализма», но закончилась полным фиаско, продемонстрировав, что ни чисто разрушительные идеи, ни диктаторские меры сверху не в состоянии привести к победс пролетариата, заявил Роккер. Он призвал к тому, чтобы в момент распада старой системы повсюду существовали и действовали революционно-синдикалистские меньшинства, которые распространяли бы в массах свои идеи и вели практическую работу, и назвал это «непременным предварительным условием окончательного торжества социальной революции».
Утвержденная повестка дня конгресса включала отчет Интернационального бюро, принятие решения о создании синдикалистского Интернационала и утверждение его статутов, заслушивание докладов о синдикалистском движении в различных странах, обсуждение «программы действий революционных синдикалистов и индустриалистов» (вопросов о революционной тактике, всеобщей стачке, профсоюзной организации, рабочем контролс над производством и производствснными советами, коопсративах, безработице, женском и молодсжном синдикалистском движении), отношсния синдикалистов к проблемам СEЛЬСКОГО хозяйства и ведения международной борьбы за свободу слова и печати, а также выборы нового состава Интернационального бюро [58].
С отчетом о работе Интернационального бюро, созданного на Берлинской конференции в июне 1922 г., выступил Роккер. По его словам, в задачи бюро входило поддержание связей между над иональны.ми организациями, участвовавшими в конференции, и установленис контактов с теми, кто не смог принять в ней участие, пересылка резолюций Берлинской конференции Профинтерну с призывом передать их организациям, входящим в это международнос объединение, подготовка проведения международного синдикалистского конгресса, который был запланирован на ноябрь 1922 г. в Берлине. Письменные контакты с национальными синдикалистскими организациями, поддерживавшиеся главным образом силами Сухи и Шапиро, продемонстрировали, что почти все из них склонялись к созданию самостоятельного синдикалистского Интернационала. За проведение его учредительного конгресса высказались все организации, кроме французской У ВКТ. Североамериканские Индустриальные рабочие мира, по словам Роккера, первоначально также намеревались прислать на него трех делегатов, однако их конгресс в концс 1922 г. изменил прежнее решение, мотивировав это тактическими разногласиями с синдикалистами (ИРМ заявили о своем отрицательном отношении к насилию и саботажу) и намерением поддерживать дружеские связи как с ними, так и с Профинтерном [59]. Выполняя решения Берлинской конференции, Интернациональное бюро передало ее решения Профинтерну, что вызвало оживленную и резкую переписку между ними [60]. Докладчик уточнил, что старался по мере сил соблюдать объсктивность, хотя, «если бы это зависело от него, письма выглядели бы иначе».
Интернациональному бюро пришлось заниматься также задачей координации работы по оказанию международной солидарности. Прежде всего это касалось положения итальянских трудящихся в связи с приходом к власти фашистов. Отвечая на просьбу УСИ о проведении сборов средств, распространении призывов к бойкоту итальянских товаров и блокаде итальянских портов, Бюро разослало эту информацию синдикалистским организациям различных стран, а также предложило Международной федерации профсоюзов (Амстердамскому Интернационалу) и Профинтерну принять участие в намеченной кампании. Однако те отказались сделать что-либо[61], и кампания была сорвана. Интернациональное бюро организовало международную акцию протеста в связи с арестом в Совeтской России российского анархо-синдикалиста Шапиро после его возвращения с Берлинской конференции. Призывы к протестам были распространены по всем странам; во многих местах проводились собрания протеста, которые были особенно мощными во Франции. По словам Роккера, движение солидарности с Шапиро еще раз доказало необходимость создания синдикалистского Интсрнационала [62]. Под давлением международного рабочего ДВИЖения большевистское правительство вынуждено было заявить через российское дипломатическое представительство в Берлине о том, что Шапиро, арестованный за подписание воззвания совместно с американскими анархистами Эммой Гольдман и Александром БсрКМаНОМ, более не преследуется и может выехать из России в любую страну по своему выбору. В этой связи Интернациональнос бюро направило письмо Профинтерну [63]. В конeчном счете «эта первая акция [солидарности] Интернационального бюро оказалась успсшной»: Шапиро был освобожден и смог принять участис в Берлинском конгрессе.
Делегаты не высказали никакой серьезной критики в связи с деятельностью Интернационального бюро, напротив, выразили признательность за хорошее исполнение обязанностей. Итальянские и французские представители Гради и Лемуан отмстили помощь, оказанную товарищам из Италии, и подчеркнули, что она могла бы оказаться более широкой, если бы уже существовал синдикалистский Интернационал. Ярчук отметил, что положение революционных рабочих в России ничуть не лучше, чем в фашистской Италии, и сожалел, что кампания солидарности была адресована лично Шапиро, но не всем преследуемым российским анархосиндикалистам. Аргентинские делегаты выразили сомнение в целесообразности обращения к Амстердамскому и Московскому Интернационалам. Голландец дисссль предложил рассматривать Бюро, образованное в июне 1922 г., как продолжение предыдущего, созданного еще в 1920 г., однако встретил возражения Роккера, говорившего о принципиальных отличиях между решениями синдикалистских конференций 1920 г., еще признававших «диктатуру пролетариата», и 1922 г. В итоге по предложению Лемуана было единогласно принято решение одобрить деятельность и отчет Интeрнационального бюро [64].
Послeс этого конгресс приступил к обсуждению самого важного вопроса повестки дня: об отношении к Красному Интернационалу профсоюзов и о создании нового синдикалистского Интернационала. Поскольку никто из Московского Интернационала так и нe появился на заседании, немецкий делегат Катср сам ознакомил собравшихся с опубликованным в коммунистичсской прессс обращением Профинтерна «К синдикалистам». В нем утверждалось, что 11 конгресс принял предложение УВКТ относительно устранения официальной связи между Красным Интернационалом профсоюзов и Коминтерном (§11 Устава) и призывает всех синдикалистов не раскалывать рабочее движение, а по примеру УВКТ присоединиться к Московскому Интернационалу. Эта идея встретила поддержку со стороны голландских и французских делегатов. Представитсль НСТ Диссель сообщил, что, по мнению НСТ, снятие параграфа 1 устава Профинтерна изменило ситуацию, и на заседании Правления профобъединения 20 декабря была принята предложенная им, Дисселем, резолюция. Она уполномочивала делегацию НСТ на Берлинском конгрессе не участвовать в создании нового Интернационала и предложить отказаться от такого создания, а вместо этого поручить Интернациональному бюро в Берлине провести переговоры относительно принципов, на основе которых могли бы «объединиться все революционные профсоюзы», с тем чтобы их утвердил III конгресс Профинтерна с участием организаций, собравшихся на Берлинский конгресс. Диссель заявил, что учреждение нового международного объединения ослабило бы борьбу с международной реакцией [65]. В ходе полемики с другими делегатами он защищал также «диктатуру пролетариата», обосноВЫВн эту идею невозможностью ожидать, пока «весь пролетариат созреет для социальной революции», и необходимостью «в определенный момент взять власть как пролетариат» и установить диктатуру, но пролетариата, а не «над пролетариатом». Голландец продолжал ссылаться на Берлинскую декларацию 1920 г., обвинил анархо-синдикалистов в отступлении от нее и защищал работу коммунистов в профсоюзах, вызывающе спросив: почему никто не возражает против стремления анархистов укрепить свое влияние в профдвижении. Диссель призвал работать в Профинтерне и отстаивать его независимость.
В свою очередь, французский представитель Лемуан предложил конгрессу принять голландский проект резолюции о проведении переговоров относительно вступления в Профинтерн [67]. Другой делегат от французского Комитета синдикалистской защиты Бенар был более осторожен. Он говорил о необходимости лучше знать решения Профинтерна, чтобы можно было доказать отсутствие его независимости широким кругам революционных профсоюзных активистов, в том числе и членам французских профсоюзов, чтобы те поняли, что единый фронт пролетариата «не удался не по нашей вине». Это позволило бы, по его мнению, создать «достаточно терпимый» синдикалистский Интернационал, который затем смог бы на независимой основе сотрудничать с «революционными рабочими организациями», в том числе теми, которые входят в Профинтерн [68].
Против любых поисков договоренностей с Профинтерном реШИТеЛЬНО высказались делегаты от других организаций. Представитель ФАУД Риттер назвал Профинтерн «экономической базой» компартий и подчеркнул несовместимость синдикалистской и большевистской концепций социальной революции: первая исходит с предприятий, основана на организациях экономической борьбы и преследует цель ликвидации экономической монополии и наемного рабства, которое отнюдь не устранено в современной России; вторая выдвигает цель диктатуры пролетариата. Однако любая ди ктатура — это наемный труд и эксплуатация рабочих, она возможна лишь в том случае, если трудящиеся — ее объект — не владеют средствами производства, и лишь относительно отличается от диктатуры Хорти и Муссолини. По словам немецкого синдикалиста, единство с Профинтерном невозможно: «У нас социалистическая цель, а не радикально-буржуазная, как у Красного Интернационала профсоюзов». Германская делегация, заявил он, решительно отвергает любые переговоры о присоединении к Профинтерну в какой бы то ни было форме, и очень жаль, что создание нового Интернационала так долго откладывалось. Чехословацкий представитель Новак назвал Профинтерн не социалистической революционной организацией, а «инструментом политической власти для подавления либертарного социализма» и подчеркнул, что чешские синдикалисты отвергли предложения Москвы и не желают иметь с ней ничего общего. Для нас не стоит вопрос о соединении с Профинтерном, нам нужен самостоятельный синдикалистский Интернационал, — поддержал эту позицию делегат УСИ Джованнстги. По eго словам, с отменой §11 Московский Интернационал нe стал присмлсмсе шля синди калистов, поскольку сго организационная и техническая связь с коммунистами содержится и во многих других статьях и параграфах, закреплящих общее подчинение профдвижения господству компартии. Он обвинил большевистский режим в подкупе рабочего движения в Италии и иных странах, в раскольнической деятельности, попытках подорвать итальянский синдикализм одновременно с фашистами и узурпации права говорить от имени профсоюзов России. Другой представитель УСИ Гради обвинил коммунистов не только в стремлении господствовать, но и в предательстве РEВОЛЮЦИИ в Италии. «Синдикалисты чуть ли не на коленях умоляли коммунистов о сотрудничсстве в интересах революции, но для тех имели значение не интересы революции, а их собственные, партийные, — подчеркнул он. — Три раза революция стучала в двери в Италии, и всякий раз коммунисты се отвергали. Только тогда, когда их тактика помогла победс реакции, а профсоюзы были разгромлены, коммунисты призвали к совместной борьбе». Делегат ФОРА Абад де Сантильян огласил позицию ВКТ Мексики и Португалии: против объединсния с Профинтерном, за присоединение к самостоятельному синдикалистскому Интернационалу. «Обычным дипломатическим трюком Москвы», попыткой маневра и саботажа создания революционного Интернационала, «ложью и обманом» назвал последние призывы Профинтерна представитель немецкой левокоммунистической организации Всеобщий рабочий союз — Единая организация Пфемферт. Он подчеркнул, что «мировая реакция воплощена и в Москве», поскольку в России существует режим государственного капитализма, а коммунисты в Германии призывают вступать в Амстердамские профсоюзы. «Никогда, насколько мы могли видеть в истории современного рабочего движения, коррупция, любая низость, любая клевета не практиковались так открыто, как это делают теперь партийные политиканы, которые ведут борьбу с нами на деньги Москвы. Единый фронт с ними? Доверие им? Придя к власти, обманув наше доверие, Москва будет злоупотреблять любым доверием, чтобы удержать власть!» — воскликнул немецкий левый коммунисты
Лансинк, заявивший о том, что он представляет точку зрения большинства членов голландского НСТ, выраженную в ходе внутриорганизационного референдума, также доказывал, что отмена §11 и другие формальные изменения не изменили характера и идеологии Профинтерна: это международное объединение борется только против капиталистического государства, а не государства вообще, по-прежнему подчинено Коминтерну и внешней политике Российского государства. Лансинк назвал иллюзией надежду изменить его изнутри, поскольку настоящие профсоюзы в нем в меньшинстве, а большинство составляют коммунистические фракции в профсоюзах Амстердамского Интернационала, с которым Профинтерн и хочет в конечном счете объединиться. О сохранении прежнего характера Профинтерна заявили также Шапиро и делегат САК Северин, предупредивший, что московский централизм неприемлем для сго организации, и она не намерена участвовать в последующих конгрессах, если решение о создании синдикалистского Интернационала не будет принято немедленно. Представители норвежской НСФ Смит и ФОРА Орландо объявили, что приехали с мандатом на учреждение нового Интернационала, который, как выразился аргентинец, будет стоять на почве федералистского синдикализма, подобно бакунинскому крылу Первого Интернационала — в противовес марксистскому централизму Москвы и Амстердама [69].
Рудольф Роккер произнес яркую эмоциональную речь, призывая участников конгресса определиться с решением сейчас же, раз и навсегда. «Как долго мы должны еще ждать? Как долго мы можем еще ждать? — вопрошал он. — Можно дать себя одурачить один раз, во второй раз, но тот, кто позволяет дурачить себя постоянно, остается в дураках». Речь идет не только об одном параграфе устава, но о том, можно ли вообще идти вместе с Московским Интернационалом, в самом его духе. Роккер заявил, что он — за единый фронт пролетариата, но такой союз не достигается сверху, путем договоров и компромиссов, но осуществляется снизу, самими трудящимися, в случае надобности, как это имело место в Германии во время борьбы с реакционным.
Капповским путчем 1920 г. Он оговорился, что во время выступлений можно и нужно сотрудничать «со всеми революционными организациями», но при этом необходимо иметь организационную самостоятельность. Обвинив партийных КОММУНИСТОВ в раскольнических маневрах, репрессиях, «двойной морали» и стремлении подчинить рабочее движение методами подкупа, неслыханных «бесчестия, позора и коррупции», он провозгласил: «Третий Интернационал и Профинтерн не являются организацииями революционного пролетариата; они — органы внешней политики российского правительства. Между революционными синдикалистами и людьми из Москвы больше не может быть никакой высказался за новый Интернационал, «в котором должны найти место все группы революционного профсоюзного движения», не только анархисты, но и ИРМ, и Всеобщий рабочий союз — Единая организация, но исключил из этого списка большевиков. Он подчеркнул полную идейную несовместимость между сторонниками навязанного сверху «диктаторского социализма» и приверженцами преобразования общества самим народом, снизу, теми, кто понимает СОЦИиИЗМ как «в конечном счете вопрос культуры». Роккер призвал голландских и французских синдикалистов помнить о том, что, выступая за единство с Москвой, они несут свою долю ответственности «за все те репрессии, которые осуществляет Россия против наших товарищей», «за дрожащие губы, за предсмертные вопли из подвалов большевизма». «Если вы заключаете этот контракт, — бросил он им, — вы должны подписать его кровью вашей совести». В заключение немецкий анархо-синдикалист под аплодисменты собравшихся заявил: «Мы на этом конгрессе должны раз и навсегда решить, куда ведет наш путь. Путь ведет прочь от Москвы, от реакции... Центр международной реакции — не в Мадриде или Риме, он в Москве» [70].
Отметим, что при всей резкости осуждения большевизма отношение европейских анархо-синдикалистов к сторонникам компартий в рабочем движении не было свободно от противоречий. С одной стороны, они видели в большевиках одно из самых худших проявлений международной реакции, с другой признавали за их приверженцами в других странах «статус» революционных организаций, с которыми следует сотрудничать в ходе революционных выступлений. (Так, швсдский делегат Северин заявил, что создание синдикалистского Интернационала не будет мешать сотрудничеству с другими революционными организациями.) От этого противоречия европейские синдикалисты так и не избавились вплоть до Второй мировой войны.
Тем не менес дискуссии на конгрессе с очевидностью продемонстрировали, что подавляющее большинство синдикалистских организаций мира выступают за самостоятельность. Коренное решение было принято на послеобеденном заседании 27 декабря 1922 г. Предложение руководства голландского НСТ о новых переговорах относительно вступЛеНИЯ в Профинтерн было отвергнуто единогласно всеми делегатами, кроме самого НСТ, после чего голландская делегация объявила, что отказывается от участия в дальнейших голосованиях и отныне будет рассматривать себя лишь в качестве гостей. После этого конгресс единогласно утвердил поименным голосованием внесенную шведской САК (Северином и Линдстамом) и итальянским УСИ (Гради и Джованнетти), а также поддержанную НСФ (Смит), ФАУД (Кеттенбах и Шлиш), ФОРА (Орландо и Абад де Сантильян) и датчанами (Манус) резолюцию: «постановить создание Интернациошишреволюционного синдикализма и перейти к разработке его статутов» [71]. Принятое решение констатировало отказ секций Профинтерна принять участие в Берлинском конгрессе и возлагало на «антисиндикалистскую политику Москвы» и лидеров этой международной организации вину за провал попыток объединения профсоюзного движения и «чисто сепаратистское поведение». Резолюция подчеркивала, что последние изменения в документах Профинтерна не изменили его сущности, которая состоит в намерении подчинить рабочее движение диктату компартий. Поэтому необходим новый Интернационал революционных синдикалистов, «независимый от всех партий и правительств» [72].
Бенар сообщил, что французская делегация примет участие в создании Интернационала, только если будет принят во внимание ее проект резолюции об отношении к Профинтерну, и до проведения конгресса французского профобъединения ее участие может носить лишь «моральный» характер. Делегаты приветствовали создание международного синдикалистского объединения совместным пением «Интернационала» [73]. На следующий день голландский представитель Схенк уточнил, что представители НСТ голосовали против создания революционно-синдикалистского Интернационала, в соответствии с полученным ими мандатом. Вернувшись домой, они представят отчет своему профобъединению, и оно примет окончательное решение о том, вступать в новую организацию или нет. Гради (УСИ) выразил понимание положения делегации НСТ и пожелал лишь, чтобы при принятии такого решения голландские товарищи больше думали о единстве революционных синдикалистов, чем о единстве с другими силами. Лансинк, который сам сочувствовал созданию МАТ, дал такое обещание [74].
28 декабря конгресс единогласно одобрил финансовый отчет Интернационального бюро революционных синдикалистов, созданного по решению международной конференции в июне 1922 г. Согласно этому документу, расходы органа, который подготовил создание анархо-синдикалистского Интернационала, составили за полгода 216 647 с четвертью марок, включая затраты на издание информационного бюллетеня, отчетов о конференции и резолюций, на аренду помещсниЙ, почтовые услуги, переводы, стенограммы, канцелярский материал и т.д. Поступления в кассу бюро за тот же период составили 344 817,7 марки, причем самая крупная сумма поступила от аргентинской ФОРА (220 тыс. марок) и шведских синдикалистов из САК (108 тыс. марок), остальное — от французской У ВКТ, бсльгиЙцсв и т.д. Интересно, что при обсуждении этого вопроса голландская делегация вновь попыталась подчеркнуть преемственность в деятельности бюро 1922 г. и Информационного бюро во главе с Лансинком, которое было образовано на базе НСТ в 1921 г. Ван Зельм предложил заслушать финансовый отчет этого, прежнего, органа (eго расходы, не считая канцелярских, составили 1 328 600 марок). Подтверждение такой преемственности означало бы, что участники конгресса вынуждены косвенно признать обоснованность «изначальных» принципов работы, якобы нарушенных в дальнейшем. Это обстоятельство прекрасно поняли делегаты. Сухи сразу же напомнил, что новое Бюро нс имеет никакого отношения к прежнему, а Шустер (ФАУД) — о том, что голландская организация нс присоединилась к создаваемому объединению. В концс концов, по предложению делегата УСИ Гради было просто решено возместить голландскому профцентру произведенные расходы [75]
После того как «голландский» вопрос был отложен до последуЮЩеГО решения НСТ, предстояло урегулировать отношения с французскими синдикалистами. В попытке добиться согласия с ними была разработана «Резолюция о революционном единстве», которую зачитал Бенар. В ней подчеркивалось «большое значение революцион ного единства пролетариата в борьбе против наступления капитализма и государства», а на новый Интернационал возлагалась обязанность предпринять «самую активную инициативу для осуществления соединения воедино революционных сил всех стран и установления связей со всеми организациями всего мира, которые заявляют о своей солидарности с этой задачей и обещают ей свою поддержку». Конкретно речь шла о поручении Секретариату МАТ, «несмотря на фундаментальные различия в принципах» с профсоюзами Профинтерна, предпринять «последнее усилие» и продолжить обмен мнениями с этой организацией с целью «открыть путь к профсоюзному единству в международной сфере». Если же Исполком Профинтерна окончательно отвергнет такое соглашение, резолюция предлагала обратиться ко всем его национальным секциям «через головы его вождей». Заявление делегации Комитета синдикалистской ЗаЩИТЫ Франции принималось к сведению в надежде на то, что французский синдикализм поддержит эту инициативу и объединение революционных синдикалистов мира. Эта резолюция была единогласно принята делегатами с решающим голосом. В свою очередь, француз Лемуан, голландец Лансинк, представители российских анархо-синдикалистов, нсмецкого ВРС-Е и чехословацкого СРС заявили о ее поддержке и о согласии с созданием Интернационала.
Однако делегация Комитета синдикалистской защиты нe была удовлетворена принятым решением и не считала себя вправе заявлять о намерении организационно присоединиться к только что созданному Интернационалу. Бенар заявил, что речь может идти лишь о «моральном присосдинеНии», поскольку задача Интернационала, по его мнению, должна была состоять не в объединении людей с определенными взглядами, а в соединении всего революционного пролетариата, стремящегося к свержению государства и капитализма, в единстве профдвижения. Он потребовал от Секрстариата принятия заявления, которое могло бы «удовлетворить весь революционный пролетариат». По существу, дискуссия разгорелась не только по вопросу о взаимодействии с другими рабочими организациями. но и вновь затронула старый спор — кто должен входить в международное объединение революционных синдикалистов.
Заявление французских синдикалистов вызвало у представителей ФОРА взрыв негодования. Ссылаясь на мнение мексиканцев и южноамериканцев, а также испанцев и португальцев, Абад де Сантильян подчеркнул, что конечная цель синдикалистского движения — это анархистский коммунизм (либертарный социализм) и Интернационал призван объединить организации, придерживающисся принципов антиавторитарного (бакунистского) крыла Первого Интернационала. Другие Интернационалы не заслуживают права называться РEВОЛЮЦИОННЫМИ [76]. Что касается отношения с другими течениями, то, по мнению аргентинца Орландо, «после создания Берлинского Интернационала более неуместно обращаться к другим Интернационалам. Теперь следует предпринять попытку установления единства путем обращения к отдельным профсоюзам, имеющим революционный характер [77].
Европейские делегации заняли промежуточную позицию. Роккер призвал «не слишком цспляться к словам». Не отримая приверженности анархистскому, или либертарному, коммунизму, он в то же самое время призвал «не закрывать двери перед рабочими, согласными с нашими целями в целом». Он выступил, с одной стороны, за Интернационал, «простирающийся от Индустриальных рабочих мира до самых крайних испанских анархистов», а с другой — за то, чтобы «время от времени» и при необходимости вступать в связь с рабочими организациями из Московского и даже Амстердамского Интернационалов. «Мы можем сотрудничать с другими, но на почве совместных действий, а не общей организации», — заявил Роккер, предложив своего рода единый фронт «снизу», «логикой фактов», как это имело место в Германии во время Капповского путча 1920 г. За федерализм и автономию отдельных секций Интернационала высказался и итальянский делегат Гради. По его словам, синдикалистская оргаНИЗШИЯ КюКДОЙ страны должна иметь свободу выдвижения собственных принципов, «пока они остаются в рамках общих принципов Интернационала» [78]. Итальянский представитель объяснил также, что не следует выбивать из рук французских синдикалистов важные аргументы в тех дебатах, которые они ведут в рабочем движснии своей страны. Нужно сделать все, чтобы ответственность за разрыв лежала не на синдикалистах, а на Москве.
В попытке преодолеть расхождения Бенар предложил принять компромиссную резолюцию о взаимоотношениях с другими частями рабочего движения, основанную на Декларации принципов июньской конференции 1922 г. и удовлетворяющую все делегации. Проект, внесенный представителями немецкого ФАУД, был передан на доработку и согласование в редакционную комиссию в составе Роккера, Гради, Северина, Бенара и Абада де Сантильяна [79]. К этому вопросу делегаты вернулись на заседании 30 декабря. Представители ФАУД (Шустер), русских анархо-синдикалистов (Ярчук) и УСИ (Гради) подчеркнули, что принятие такого документа им не слишком симпатично, но оно может носить исключительно тактический характер и, в первую очередь, облегчить положение французских синдикалистов. Однако делегат ФОРА Абад де Сантильян сообщил, что его аргентинская делегация не может голосовать за эту резолюцию, поскольку имеет поручение от своей организации: выступать против всяких дальнейших переговоров с Профинтерном. Абад де Сантильян огласил заявление представителей ФОРА8О. В нем еще раз осуждались всякие попытки компромисса. ФОРА призвала французское синдикалистское МеНЬШИНство отказаться от уступок и сделать упор на приверженности принципам, что только и могло, с точки зрения южноамериканцев, убедить массы трудящихся Франции. Аргентинцы пригрозили голосовать против проекта резолюции. В конечном счете аргентинская делегация воздержалась при голосовании, остальные делегаты проголосовали за текст резолюции о «революционном единстве» [80].
29 и 30 декабря 1922 г. участники конгресса перешли к обсуждению принципов и статутов вновь созданного Интернационала.
Преамбула к Декларации принципов, которая была принята июньской конференцией 1922 г. [82], в принципе не встретила серьезных возражений. Но даже общее обсуждение выявило существенные идейные расхождения между участниками. Так, представитель ВРС-Е Алльмер призвал включить в документ пункт о «классовой диктатуре пролетариата», которая должна отличаться от партийной «диктатуры над пролетариатом», существующей в большевистской России. Эта идея не встретила поддержки у синдикалистов. Джованнетги (УСИ) назвал фразу о диктатуре пролетариата «весьма непонятной» и предложил вести речь о «суверенитете рабочего класса». Он высказался также за замену термина «государственный коммунизм» применительно к большевизму на «государственный капитализм», а также к более точному редактированию пункта о насилии. Французский синдикалист Бенар возражал против констатации «банкротства российской революции». Не защищая большевиков прямо, он и здесь стремился к максимальному компромиссу с ними, заявив, что о полном банкротствс говорить еще рано и что большевики остаются «прогрессивной социалистической партией». «Частично правильными», но не принципиальными назвал эти замечания о русской революции итальянец Гради. Орландо (ФОРА) утверждал, напротив, что «в преамбуле существует полная ясность в отношении наших целей» и ничего не следует менять. Северин (САК) настаивал на том, чтобы более ясно подчеркнуть федералистский характер синдикализма и задачу подготовки рабочих к управлению производством. Было решено передать все предложения по изменениям в редакционную комиссию [83].
Принятый в конце концов текст констатировал, что капитал, чьи позиции временно пошатнулись вследствие Первой мировой войны, «великой революции» в России и последующих революций в Германии и Венгрии, вновь переходит в контрнаступление. Несмотря на внутреннее противоборство между различными национальными группировками буржуазии, капитал един в своем противостоянии трудящемуся классу, утверждали революционные синдикалисты. В то время как трудящиеся обескровлены кровавыми войнами и проигранными революциями, капитализм прекрасно организован. Позиции рабочего класса ослабляются к тому же отсутствием ясности в отношении идей, принципов и целей рабочего движения, а также расколом класса на множество враждебных лагереи [84].
Особую роль в дезорганизации и дезориентации трудящихся сыграли, по мнению синдикалистов, поражение Российской революции 1917 г. и победа «капиталистического большевизма».
Первоначально провозглашенные ею «высокие принципы», указывалось в преамбуле, «пробудили самые большие надежды у вссго мирового пролетариата». Но позднее социальная революция деградировала до «простой политической революции», то есть средства сохранения власти коммунистической партии, стремящейся «монополизировать в своих руках всю экономическую, политическую и социальную власть». Этот крах привел к «крайности государственного социализма, который нашел свое выражение в развитии государственного капитализма», не отличающегося от любого буржуазного режима в том, что касается эксплуатации и жажды господства. «Необходимость вновь ввести капитализм в России принесла с собой усиление мирового капитализма. Государственный социализм под именем коммунизма спас буржуазный капитализм от его судьбы, придя ему на помощь якобы с тем, чтобы спасти революцию! [85].
Единственным способом остановить наступление «международных эксплуататоров всех оттенков» революционные синдикалисты считали «немедленнос соединение пролетарских масс в боевую организацию», «мощный блок всех революционных трудящихся всех стран;. Ни Амстердамский, ни Московский Интернационалы профсоюзов, с их точки зрения, не годились для этой роли. Первый — потому что он носил реформистский характер, выступал за согласие между капиталом и трудом и за мирную революцию. Второй — потому что предусматривал господство в революции Коммунистической партии и сохранение государственной формы организации. «Существование государства, — говорилось в преамбуле, — равнозначно существованию рабства, господства системы наемного труда, института полиции и политического угнетения. Все это мы находим в так называемой диктатуре пролетариата», которая препятствует подлинной экспроприации, «подавляет действительный суверенитет трудящегося класса и не может быть ничем иным, кроме как железной диктатурой политической клики над пролетариатом и доминированием авторитарного коммунизма. Это худшая форма авторитета — цезаризм в политике и полное разрушение индивидуальности», — подытоживали синдикалисты.
Вот почему, заявляли они, необходимо создать новый Интернационал, где каждый из членов будет понимать: «окончательное освобождение трудящихся станет возможным, лишь если сами трудящиеся как ТРУДЯЩИССЯ в своих экономических организациях будут подготовлены не только к тому, чтобы завладеть землей и фабриками, но и к тому, чтобы сообща управлять ими», продолжая производство [86].
После обсуждения преамбулы, делегаты без дискуссии и без изменений одобрили Декларацию принципов, которая была принята на международной конференции синдикалистов в июне 1922 г. в Берлинс и основывалась на разработанной в 1919 г. Рокксром «Декларации принципов синдикализма». В ней насчитывалось 10 пунктов, ИЗЛаГаБШИХ ИДСЙные основы и тактику анархосиндикалистского движения.
В первом были закреплены сго цели и основы. Согласно декларации, революционный синдикализм являлся «движснием трудящихся слоев народа», стоящим на почве классовой борьбы. Стремясь объединить «всех работников физического и умственного труда» в «боевую экономическую организацию» для того, чтобы добиться их освобождения «из-под ига наемного рабства и государственного аппарата угнетения», синдикалисты провозглашали своей цслью «реорганизацию всей общественной жизни на основе вольного коммунизма» путем «революционного действия самих трудящихся классов». Они настаивали на том, что политические рабочие партии не могут служить «конструктивным экономическим целям». Революционные задачи могут решить лишь экономические организации трудящихся, то есть рабочие союзы, ведущие социально-экономическую борьбу.
Во втором пункте разъяснялось, в чем суть общественных преобразований, предлагаемых синдикалистами. Альтернатива революционного синдикализма была изложена в анархистском духе. Он отверг всякую «экономическую и социальную монополию» и провозгласил ее замену «хозяйственными коммунами и управлением предприятиями со стороны работников промышленности и сельского хозяйства» на основе свободных, беспартийных Советов. «Политике государства и партий, — подчеркивала декларация, он [революционный синдикализм| противопоставляет экономическую организацию труда; правлению над людьми управление вещами. По этой причине он стремится не к завоеванию политической власти, а к исключению любых государственных функций из жизни общества». Таким образом, синдикалисты — в отличие от довоенного движения — приняли принцип уничтожения государства, которое никогда, в том числе в форме «диктатуры пролетариата», нс могло быть «инструментом освобождения труда». Государство, заявлял анархо-синдикализм, «всегда может быть лишь творцом новых монополий и привилсгиЙ». Вместе с монополией на обладание (собственностью) должна была исчезнуть и «монополия господства», уступив место самоуправлению трудящихся [87].
В пунктс третьем декларации повторялись синдикалистские взгляды на задачи и функции рабочих союзов, восходившие к французскому революционному синдикализму начала ХХ века. Они, с одной стороны, призваны вести «повседневную революционную борьбу» за улучшение экономического, духовного и нравственного положения трудящихся внутри существующего строя, а с другой — подготовить массы к самостоятельному управлению производством и распределением, к взятию в свои руки всей совокупности производства. Новый хозяйственный строй, заявляли синдикалисты, может быть организован не путем правительственных декретов сверху, но лишь «посредством соединения всех работников физического и умственного труда в каждой отдельной отрасли производства, посредством взятия самими производителями в собственные руки управления каждым отдсльным предприятием». Отметим, что это производственное самоуправление не имело ничего общего с распространенным в марксистской критике представлснием о том, что анархо-синдикалисты якобы требуют персдать каждое предприятие в собственность или в аренду конкретного трудового коллектива. В декларации подчеркивалось: «отдельные группы, предприятия и отрасли производства» должны быть «самостоятсльными звеньями всеобщего хозяйственного организма, которые на основе взаимных соглашений планомерно организуют всю совокупность производства и всеобщее распределение в интересах всех». Речь шла, таким образом, о разработке экономичсских планов снизу, в соответствии с принципом федерализма [88].
Федерализму был посвящен следующий, четвертый пункт декларации принципов. Для анархо-синдикалистов это была не только модель общественного устройства, но и основа построения собственной организации. «...Революционный синдикализм говорилось в документе, — стоит на почве федералистского объединения, что означает организацию снизу вверх, добровольное объединение всех сил на основе общих интересов и убеждений». Напротив, централизм, под которым понималась «организация сверху вниз», категорически отвергался как «искусственный», превращающий индивида в «марионетку, направляемую и руководимуло сверху». Подобно традиционному анархизму, анархо-синдикалисты провозглашали, что централизм подчиняет общие интересы привилегиям немногих, разнообразие — единообразию, личную ответственность — «мертвящей дисциплине» [89].
Пятый и восьмой пункты декларации фиксировали методы действий революционного синдикализма — методы прямого действия в форме стачки, бойкота, саботажа и т.д. вплоть до «всеобщей социальной стачки» как «прелюдии к социальной революции». Оговаривалось, что синдикалисты поддерживают «любые проявления борьбы народа», которые не противоречат их целям. В то же самос время они категорически отвергали «любую парламентскую деятельность и любое сотрудничество в законодательных учреждениях», поскольку полагали, что «вся парламентская система имеет лишь одну цель — придать господству лжи и социальной несправедливости видимость законного права» и «побудить рабов скрепить свое рабство штемпелем закона» [90].
Соответственно в декларации была найдена компромиссная формулировка спорного вопроса о применении насильственных методов борьбы. На самом конгрессе эта тема практически не поднималась, однако было известно, что в синдикалистском движении существовали различные мнения на сей счет. Синдикализм и анархизм ХХ столетия категорически отвергали террористическую стратегию индивидуальных покушений — «пропаганду действием», которую широко практиковали анархисты в конце XIX века, хотя нередко оправдывали такого рода акты, совершенные одиночками по мотивам личной мести или совести (так, аргентинская ФОРА выступила в поддержку анархиста С. Радовицкого, который в 1909 г убил организатора репрессий — начальника полиции Буэнос-Айреса, заявив: «...Я убил полковника Фалькона, потому что он приказал убивать рабочих... Я — сын трудового народа и брат тех, кто погиб, сражаясь с буржуаизей [91].
Многие синдикалисты допускали применение силы в ходе трудовых, социально-экономических конфликтов [92]. Но и здесь имелись другие взгляды, так, значительная часть лидеров североамериканских Индустриальных рабочих мира, к примеру, отвергала саботаж на производстве и «экономический террор». Большинство революционных синдикалистов и анархосиндикалистов соглашались, что в ходе социальной революции возможен момент вооруженного восстания, хотя и здесь мнения могли расходиться. Другие соглашались с неизбежностью вооруженного восстания в будущем, но отрицали всякий преждевременный «путчизм». Наконец, анархо-синдикализм отвергал послереволюционнос организованное насилие, в то время как ВРС-Е отстаивал беспартийную «диктатуру пролетариата» [93].
Декларация принципов революционного синдикализма выражала взвешенную позицию, которую отстаивал Рудольф Роккер. Прежде всего подчеркивалось, что синдикалисты — «противники всякого организованного насилия в руках любого РEВОЛЮЦИОННОГО правительства», что сразу же отделяло анархо-синдикализм от приверженцев «диктатуры пролетариата». Что жс касается применения насильственных средств борьбы, то здесь их подход был основан на представлении о самообороне общества от государства и государственного насилия. Признавая, что «в решающих сражениях между капиталистическим настоящим и вольным коммунистическим будущим дела не будут идти беспрепятственно», декларация признавала «насилие как средство защиты против насильственных методов правящих классов, в борьбе за захват предприятий и земли революционным народом». Одновременно в документе подчеркивалось, что оборона революцйи не должна быть возложена на какую-либо специальную «воен ную или другую организацию», отделенную от экономических ассоциаций пролетариата; иными словами, эта функция должна находиться в руках самоорганизованного народа [94].
Интернационализм (пункт 6) и антимилитаризм (пункт 7) также занимали важное место в системе взглядов анархо-синдикалистов. Революционный синдикализм воспринимал все государственные, административные и национальные границы искусственными и усматривал в национализме «религию современного государства, за которой скрываются лишь интересы имущих пассов». Признавались лишь региональные различия, причем за каждой группой населения (культурной, этнической и т.д.) признавалось право самостоятельно решать свои проблемы, «в солидарном согласии со всеми другими региональными или страновыми экономическими объединениями».
Отвергая национализм, анархо-синдикалисты логическим образом боролись и с милитаризмом. Декларация ПРИНЦИПОВ называла антимилитаристскую пропаганду одной из основных задач «в борьбе против существующей системы». Сюда включался личный и коллективный отказ от военной службы [95].
Заключительный пункт декларации (10-й) еще раз провозглашал сущность революционного синдикализма: «Только в революционных экономичсских организациях трудового наода находятся рычаг для его освобождения и творческая сила для восстановления общества в духе вольного коммунизма» [96].
Сам термин «анархо-синдикализм» в Декларации принципов сше не упоминался; вместо него использовалась формула «революционный синдикализм». Тем не менее принятие этого документа ознаменовало собой окончательный переход от политически нейтрального или колеблющегося синдикализма к движению, открыто провозгласившему анархистские цели.
Эволюция движения была отражена и в принятии названия международной организации. Проект, вынесенный на конгресс, предусматривал, что она будет называться «Международной ассоциацией революционно-синдикалистских трудящихся» [97]. В попытке добиться расширения «базы Интернационала Пфемфсрт предложил назвать его «Международная ассоциация трудящихся — революционных синдикалистов и индустриалистов». Однако идея не встретила поддержки. Шапиро заметил, что название «Международная ассоциация трудящихся» (МАТ) «ближе всего к Первому Интернационалу», к тому же сокращенное наименование резко отличается от того, каким пользуется Профинтерн. Итальянский делегат Джованнстги официально внес предложение: «использовать для Берлинского Интернационала имя Первого Интернационала», поскольку он «в конечном счете преследует те же цели». Оно было единогласно принято. Это произошло 29 декабря 1922 [98].
Далee участники приступили к обсуждению пункта статутов о целях и задачах МАТ [99]. Пфемферт пытался добиться, чтобы в их перечислснис было включено стремление к созданию и укрепленико «революционных», а нс просто синдикалистских организаций, после чего шведский делегат Северин предложил формулу «революционные профсоюзные организации». Итальянские представители выступили за допущение возможности эпизодических совместных действий с другими организациями пролетариата, причем не только с профсоюзными, что в принципс нс встретило возражений, но и политическими, против чего решительно выступил делегат ФОРА Орландо. Но основные споры вызвал вопрос о создании «международного фонда солидарности». Аргентинская делегация восприняла эту идсю как согласие с практикой забастовочных касс, которая активно осуществлялась реформистскими профсоюзами. Орландо рекомендовал МАТ принять на вооружение тактику ФО РА: не создавать резервные фонды, а в случае стачек или иных социальных конфликтов призывать к спонтанной сол идарности трудящихся масс. Такой подход позволял, по мнению южноамериканских революционеров, нс допустить возникновения бюрократии и формирования настроений пассивности среди рабочих. Они утверждали, что действительная сол идарность должна обеспечиваться не только и не столько сбором денег, сколько присоединснисм к борьбе (стачками солидарности и т.д.). Итальянский представитель Гради в принципе согласился с критикой реформистской практики «финансовой поддержки» рабочих выступлений, но как он, так и другие европейские делегаты (Шапиро, Кетгенбах, Лансинк, Джованнетти) утверждали, что небольшой фонд для экстренной помощи на первое время совершенно необходим. Орландо нс уступал и заявил, что европейские секции, если они пожелают, могут сами собирать средства в такого рода резервный фонд, но южноамериканцы верят в стихийную солидарность и никаких жестких обязательств регулярных взносов на себя не возьмут. В итоге по предложению Гради, напомнившего, что Интернациональное бюро МАТ и так имеет полномочия регулировать вопросы, связанные с взаимной помощью, вопрос был снят [100].
В целом утвержденный текст статутов Закрегшял за международной организацией следующие цели и задачи: создание новых и укрспленис существующих профсоюзных организаций, «полных решимости вести борьбу за разрушение капитализма и государства»; усиление массовой борьбы; противодействие попыткам проникновения со стороны любой политической партии и установления с се стороны контроля над профсоюзным движением; осуществленис временных совместных действий «с другими профсоюзными и революционными пролетарскими организациями», вплоть до международного уровня; противодействие произволу со стороны всех правительств против социальных революционеров; изучение всех вопросов, имеющих отношение к трудящемуся классу во всем мире, с тем чтобы иметь возможность продолжать и развивать пролетарскую борьбу; осуществление любой взаимной помощи в случае крупных экономических выступлений трудящихся или при обострении борьбы против «врагов рабочего класса»; наконец, оказание моральной и материальной помощи классовому движению пролетариата различных стран. В статутах подчеркивалась автономия секций МАТ: Интернационал мог вмешиваться в дела отдельных секций исключительно по просьбе самой секции или в случае ее отхода от принципов МАТ [101].
При обсуждении пункта о том, кто может быть членом МАТ [102], выступавшие на конгресс поддержали предложенный основополагающий принцип: секциями Интернационала должны быть прежде всего революционные синдикалистские организации отдсльных стран. Как пояснил Джованнетти, это необходимо для того, чтобы в международное объединение не смогли проникнуть структуры, находящиеся под влиянием политических партий. Лансинк и Катер настаивали даже на том, что никкис другие группы или течения, дажс признающие декларацию принципов, не должны приниматься в ассоциацию. Однако Шапиро разъяснил, что там, где еще нет революционных синдикатов, следует допустить членство Рeволюционно-пропагандистских групп, которыс распространяют синдикалистские идеи и подготавливают создание синдикатов в будущем. Особую остроту имел вопрос о возможности приема нескольких организаций из одной и той же страны (так, на вступление претендовали, помимо синдикалистских федераций соответствующих государств, также голландский профсоюз моряков «Согласие», итальянский профсоюз железнодорожников и ВРС-Е в Германии). Катер и Ярчук обратили внимание делегатов на таящуюся в этом угрозу: параллельные сскции могли бы саботировать работу друг друга. По предложению Лансинка и Шапиро делегаты приняли следующую норму: в случае, если в Интернационал намеревалась вступить еще одна организация из той же самой страны, она могла быть принята только с согласия соответствующей страновой синдикалистской федерации. Если же речь шла об отколовшихся группах или союзах, то они могли присоединиться к основной секции, в противном случае вопрос выносился на комиссию МАТ или передавался для решения международному комиссию МАТ или передавался для решения международному конгрессу [103].
Членами МАТ, согласно итоговому тексту статутов, становились «страновые революционно-синдикалистские организации, которые не принадлежат ни к какому другому Интернационалу», «организованные революционно-синдикалистские меньшинства», входящие в секции других профсоюзных Интернационалов (с согласия страновой секции МАТ, если таковая имелась), отдельные профессиональныс или отраслевые союзы, признающие Декларацию принципов и цели МАТ (опять-таки, с согласия страновой секции, при ее наличии), а также революционно-синдикалистские пропагандистские организации, признающие принципы и цели МАТ (при отсутствии сскций Интернационала в данных странах). Осо60 подчеркивалось, что принятие второй страновой синдикалистской федерации из той же самой страны могло быть одобрено только международным конгрессом ассоциации по докладу комиссии, которая назначалась административными органами Интернационала в составе представителей органа МАТ, уже имеющейся секции и организации-прстендента. Отдельные профсоюзы, вышедшие или исключенные из секции МАТ, могли получить членство в ассоциации лишь при единодушном согласии конференции с участисм представителей органа Интернационала, секции в данной стране и заинтересованного профсоюза [104].
Интернациональные конгрессы МАТ, в соответствии с принятыми статутами, должны были собираться минимум один раз в два года. (В первоначальном проекте планировалось созывать их раз в ГОД [105]) Их решения были обязательны для организаций, состоявших в Интернационале. Если жс конгрессы как минимум трех секций (в первоначальном проекте речь шла о двух сскциях, но, по предложению Шапиро, это число было увеличено) выражали несогласие с ними, мог быть организован международный референдум для окончательного решения вопроса [106]. Споры вызвали нормы представительства на конгрессе и принцип проведения референдума. Итальянский делегат Джованнетги предложил, чтобы каждая секция была представлена на высшем форуме МАТ количеством делегатов, пропорциональным числу се членов. Однако Шапиро назвал это предложение «чрезвычайно опасным» и дискриминирующим меньшинство, а делегат ФАУД Риттер — противоречащим принципу федерализма. В итоге Джованнстги взял свою идею назад [107]. В статутах было записано лишь, что «норма голосования на конгрессах должна определяться каждым конгрессом CAМОСТОЯТEЛЬНО [108].
Джованнстти возражал также против референдумов в МАТ, угверждая, что такая практика не дает возможность провести совместную дискуссию и обменяться аргументами, что, по его мнению, открывало возможность для манипуляций. Его поддержал шведский делегат Северин, но Орландо, Шапиро и Ритгeр возражали им. В конечном счете принцип проведения референдума был одобрен четырьмя голосами против двух. При этом голосование должно было проводиться по норме: одна страна — один голос. За такую норму, как соответствующую федералистским принципам, высказапись в ходе дискуссии Катер, Шустер и Шапиро. Лансинк пытался возражать, но все делегации единогласно поддержали предложенный проект [109]. Не вызвал разногласий следующий пункт статутов, предусматривавший свободнос зачисление любого переехавшего за границу члена одной из секции МАТ в организацию новой страны его проживания [110].
В качестве административного органа МАТ создавалось Интернациональнос бюро. Его функции, согласно статутам, состояли в том, чтобы «регулировать международную деятельность» ассоциации, собирать информацию о пропагандистской работе и акциях синдикалистов во всех странах, «успешно осуществлять решения международных конгрессов» и «руководить всеми работами МАТ». Бюро назначалось конгрессом и должно было включать, в соответствии с предложением Шапиро, по одному представителю с решающим голосом от каждой из входящих в МАТ страновых синдикалистских федераций и по одному члену с СОВИЦательным голосом от входящих организаций из стран, где синдикалистских федераций еще не было. Местонахождение бюро также определялось конгрессом. Кроме того, окончательный текст статутов предусматривал и создание еще одного технического и связующего органа Секретариата МАТ, избираемого конгрессом [111]. В первоначальном проектс он нс упоминался) [112].
Делегат ФОРА Абад де Сантильян настаивал на том, что члены Интернационального бюро не должны состоять в политических партиях, прямо или КОСВСННО стремящихся к завоеванию политической власти. Его поддержали Гради (УСИ), французский синдикалист Бенар и представитель норвежской организации Смит, говорившие о плохом опыте своих организаций с членами партий и депутатами. Только Северин от шведской САК утверждал, что «в соответствии с принципом федерализма, надо предоставить каждой страновой организации выбор, кого она направит в Интернациональное бюро». В духе довоенного революционного синдикализма он призывал не отталкивать трудящихся, состояших в политических партиях, и держать двери открытыми «для всех синдикалистски настроенных рабочих», нс спрашивая об «их политических или религиозных взглядах». На голосование был вынесен смягчснныЙ проект Абад де Сантильяна, Гради и Бенара, который все-таки допускал возможность того, что члены Интербюро будут состоять в тсх или иных политиЧеСКИХ партиях, но оговаривал, что они не должны быть носителями «политических функций», то есть участниками органов власти. За это проголосовали все делегации, кроме шведской [113].
При обсуждении окончательной редакции была сделана попытка ужесточить принятое решение. Шустер и Риттер (ФАУД) потрсбовали вернуться к предложению о том, что в Интербюро не могут входить члены политических партий. Но против на сей раз высказапись нс только Шапиро и Сухи, опасавшиеся, что это преградит путь в МАТ французским синдикалистам, но и итальянский делегат Джованнетги. Он напомнил: в ряде случаев, например в Италии, анархисты также рассматривают себя как партию. Послс этого поправка немецких представителей была отклонена [114].
Остальные разделы статутов не вызвали серьезных разногласий. Они предусматривали регулярное перечисление секций Интернациональному бюро определенной минимальной суммы (1/2 процента общей суммы взносов, собранных каждой организацией) на расходы по деятельности бюро и экстренные меры международной солидарности. При этом каждая секция могла самостоятельно принять решение о перечислении более крупных сумм [115]. Шапиро сообщил, что указанный минимальный размер составлял бы около 500 тыс. марок в мссяц [116]. В обязанности бюро вменялось также издание информационного бюллетеня для рабочей печати, РСгулярного журнала, посвященного вопросам теории и тактики, и разовых публикаций по мере необходимости. Наконец, предусматривалось создание международного контрольно-ревизионного органа — избираемой конгрессом контрольной комиссии, которая должна была изучать финансовые расходы Интернационального бюро и представлять соответствующие отчеты конгрессу МАГ [117].
В конеч ном счете делегаты единогласно одобрили статуты МАТ (аргентинская ФОРА — с оговорками) [118].
Выборы органов нового Интернационала были проведсны на конгрессе 30 декабря. Делегат САК Северин, поддержанный голландцем Лансинком, предложил разместить.
Интернациональное бюро в Берлине и избрать секретарем МАТ Сухи. Но Сухи отказался, не желая покидать пост редактора печатного органа ФАУД «дер Синдикалист». Представитель немецких анархо-синдикалистов Шустер, в свою очередь, высказался за кандидатуру Шапиро, однако тот также не хотел принимать это назначение, ссылаясь на то, что за ним не стоит какая-либо секция МАТ. В этой ситуации Сухи дал согласие на свое избрание секретарем нового Интернационала. Однако в ходе дальнейшего обсуждения итальянские делегаты Гради и Джованнетги выдвинули другую идею: выбрать трех равноправных секретарей — Сухи, Роккера и Шапиро; немецкая делегация выразила согласие с этим предложением. Представители ФОРА Абад де Сантильян и Орландо вообще возражали против должности освобожденного и платного секретаря, ссылаясь на то. что в аргентинской органиЗаЦИИ подобной практики не существовало и «любая организационная работа нс оплачивалась» (за исключением случаев потери заработка). Такое же положение, как разъяснил Пфемфeрт, существовало в ВРС-Е. Шапиро также не хотел занимать оплачиваемый пост. Однако европейские синдикалисты (Кеттенбах, Лансинк, Шустер, Джованнетти) считали невозможным «просто перенести аргентинскую практику на весь Интернационал». Гради полагал, что следует иметь трех освобожденных секретарей; Кетгенбах, поддержанный Лансинком и Пфемфертом, предложил систематически оплачивать работу лишь одного из трех избираемых секретарей. Именно это предложение было принято голосами всех делегаций, кроме ФОРА. Секретарями МАТ стали Сухи (освобожденный секретарь), Роккер и Шапиро [119] . Председателем контрольно-ревизионной комиссии был избран немецкий анархо-синдикалист Шустер; двоих других членов должен был определить ФАУД [120].
Делегаты конгресса выразили солидарность с жертвами репрессий в различных государствах. Так, по предложению итальянских представителей, конгресс единогласно принял заявление «протеста против преследуемых революционеров». Выразив поддержку жертвам фашИзма в Италии, участникам классовой борьбы во Франции, в США и других странах, делегаты призвали «все революционно-синдикалистские оргаНИЗаЦИИ плечом к плечу с другими рабочими организациями бороться против мировой реакции и за освобождение всех жертв этой реакции» [121].
Особая резолюция выражала протест против преследований «левых элементов революционных рабочих» в России. Конгресс выразил солидарность с революционной тактикой и деятельностью российских анархо-синдикалистов и анархистов. Он резко осудил «все насилия, совершенные псевдосоциалистическим правительством России» и призвал трудящихся всего мира «требовать незамедлительного освобождения всех революционеров и заюлючснных товарищей из большевистских тюрем». Во всех странах должны были быть образованы организации поддержки и помощи арестованным русским революционерам [122].
Конгресс принял ряд решений, в которых были очерчены основныс направления работы анархо-синдикалистов. В резолюции о «революционной тактике», принятой на основе проекта, который был предложен на обсуждение конгресса [123], подчеркивалось, что МАТ признает лишь те средства борьбы, которые соответствуют цели «установления нового социального строя на основе либертарного коммунизма», принципиально отвергает «всякий компромисс с существующими институтами капиталистической эксплуатации и современного классового государства» и делает упор на методы прямого и революционного действия. К таким действиям резолюция причисляла пропаганду, стачку, бойкот, саботаж, акции «социальной ответственности» и всеобщую стачку. При этом давалось определение и разъяснение всем указанным методам. Так, к пропагандистской работе («неустанному и планомерному распространению идей революционного синдикализма устно и письменно») причислялись и демонстрации, причем указывалось, что синдикалисты должны участвовать во всех рабочих манифестациях за пролетарское освобождение и против реакции, всегда сохраняя и демонстрируя свою идейную самостоятельность. В ходе стачек рекомендовалось всегда стремиться «углубить социальный характер таких движений и поднимать их с уровня обычной борьбы за зарплату до сознательных акций в общих интересах», особенно в формах манифестаций солидарности и коллективной инициативы. Бойкот характеризовался в первую очередь как действия трудящихся в их роли потребителя. Сюда включался планомерный отказ потребителей от покупки тех или иных товаров массового потребления с тем, чтобы таким образом добиться улучшения условий труда или прекращения их производства. Предусматривалась возможность и политического бойкота, направленного против тех или иных законов и указов правительств. Саботаж («сознательное нанесение ущерба предпринимателю посредством планомерной шлохой работы или приведения в негодность орудий труда») был призван принудить предпринимателей уступить тeм или иным требованиям работников. При этом анархо-синдикалисты оговаривались, что в принципе они против разрушения общественных богатств, созданных человеческим трудом, но вынуждены прибегать к подобным мерам, когда это необходимо для защиты общих интересов или элементарных условий жизни людей. К актам саботажа причислялись, например, рассеянные стачки, выведенис из строя машин, транспортных путей и т.д., особенно в случае угрозы войны или реакционного государственного переворота. Большая роль отводилась «действиям социальной ответственности»: речь шла о сознательной борьбе самих работников против производства опасных для здоровья товаров, использования некачественных или вредных материалов и т.д. Синдикалисты надеялись, что такие шаги позволят в будущем «создать совершенно новые отношения между производителями и народом в целом и укрепить связь между производителями и потребителями». Это воспринималось и как демонстрация способности работников управлять производством.
Высшей формой солидарности анархо-синдикалисты считали всеобщую стачку: как с целью достижения определенных целей в рамках существующего общества, так и «социальную всеобщую стачку» в революционных ситуациях. В последних случаях такое выступление могло стать прелюдией к социальной революции, приводя, как говорилось в резолюции конгресса, «к открытому народному восстанию и к захвату фабрик и земли производителями» с последующей реорганизацией ими общества [124].
Отдельная резолюция конгресса МАТ была посвящена теме безработицы и борьбы с ней. Соответствующий проект был представлен шведской САК [125]. В ЦСЛОМ анархо-синдикалисты рассматривали безработицу как закономерное проявление капиталистической экономической системы, результат нерациональности производства, подчинения человека экономической машине и бессмысленности капитализма. Они выделяли две формы этого явления — сезонную и конъюнктурную. Вторая, по их мнению, была теснейшим образом связана с самим капиталистическим способом производства и возникла вместе с «производственной системой частнокапиталистической крупной индустрии». Как и марксисты, анархо-синдикалисты связывали изменение конъюнктуры и циклические кризисы экономики с перепроизводством товаров, точнее, с недостаточной потребительской и покупательной способностью трудящегося большинства населения. Но либертариев, в отличие от последователей Маркса, волновала и этическая сторона явления. «Безоглядная погоня за прибылью, которая служит целью производства, встав на место удовлетворения человеческих потребностей, переходит в разрушительную войну всех против всех, — указывалось в резолюции Берлинского конгресса. — Работник обращастся против предпринимателя, потребитель против производителя, продавец против покупателя; каждый является оторванным от всех остальных индивидом, чья единственная ЦСЛЬ — утвердиться за счет других. Каждый с жадностью ждет, пока ему представится возможность наброситься на другого; доверие между людьми подрывается, на место чувства общности приходит безоглядное самоутверждение, сотрудничество и организация делаются невозможными, а общественный интерес попирается современными экономическими рыцарями-разбойниками».
По мнению анархо-синдикалистов, безработица, органически связанная с системой частного капитализма, могла быть ликвидирована только вместе с ней, при замене ее иным строем, основанным на синдикализме, сотрудничестве и организации в интересах всех. Любые меры против безработицы при сохранении капиталистичсского порядка резолюция называла «паллиативами». В то же время в ней утверждалось, что работники не должны нести ответственность за последствия «капиталистического безумия». Поэтому МАТ поддерживала борьбу за сокращение рабочего врсмсни в период кризиса — с тем чтобы смягчить положение трудящихся, предотвратить раскол и укрепить солидарность между ними [126].
Поскольку одной из основных целей синдикализма было устаношение рабочего самоуправления на производстве, конгресс МАТ принял «Резолюцию о контроле на производстве и Советах предприятий». Письменный доклад на эту тему был прислан ВСДУЩИМ активистом УСИ Армандо Борги. Он опирался прежде всего на опыт движения фабричных Советов в Италии 1920 г. УСИ воспринимал Советы, избираемые всеми трудящимися данного предприятия, как революционный орган подготовки работников к взятию в свои руки управления производством, потенциальной «экономической власти» трудящихся (в противовес политической власти государства и партий), как часть синдикалистской традиции. Итальянские синдикалисты категорически отвергали всякую попытку превратить их в орган участия рабочих в управлении капиталистическим производством или в институт «диктатуры пролетариата», за что выступали соответственно социал-демократы и коммунисты. «Рабочий контроль», понимаемый как подобного рода участие, по их мнению, был иллюзорным или вредным. «В период революционного успеха для пролетариата, как это было в Италии в 1920 г., — писал Борги, контроль — это ловушка. В период спокойствия — это усиление самого худшего реформизма, то есть сотрудничество на производстве [между трудом и капиталом)... Если же понимать контроль как рабочее управление, то вопрос встает иначе». Что касается роли Советов как органа управления производством при социализме, то здесь Борги считшт необходимым дополнить их институтами федералистских синдикатов, которыс ПОЗВОЛШ1И бы выйти за рамки «ораниченных технических и индустриальных компетенций таких Советов предприятии»
Принятая резолюция закрепляла отрицательное отношение анархо-синдикалистов к идее участия рабочих в управлении капиталистическим производством, которая активно пропагандировалась социал-демократией и реформистскими профсоюзами. Прежде всего анархо-синдикалисты выступили за разделение функций между Советами предприятий и профсоюзами. Именно последние должны были заниматься конфликтами с предпринимателями, борьбой за повышение зарплаты и улучшение условий труда. Советам, по их представлениям, не следовало вмешиваться в эти конфликты на предприятиях, но готовиться к превращению в органы, способные и готовые заменить предпринимателя и его администрацию. Синдикалисты категорически отвергли такие формы «рабочего контроля» на производстве, которые предполагали его подчинение интересам предпринимательской стратегии, роста капиталистического производства и прибыли капиталистов. Они настаивали на том, что контроль на капиталистическом предприятии, осуществляемый Советами, не может решить экономические проблемы эксплуатации и разрыва между производителями и потребителями, но, напротив, укрепляет ощущение общности интересов между предпринимателями и работниками, нанося ущерб «духу революционной массовой борьбы». Реальное управление все равно остается в руках капиталистов, и действенный контроль рабочих над производством и финансами невозможен [128].
Таким же сложным было отношение Берлинского конгресса к идеям кооперации. Соответствующий доклад представил секретарь Национальной федерации металлистов УСИ Джованнегги. Категорически отрицая буржуазную кооперацию, итальянский синдикалист более осторожно относился к «классовым кооперативам» трудящихся, отмечая как их позитивные стороны, так и риск их интеграции в капиталистическую систему. Он предлагал «превратить кооперативы в подлинные органы синдикатов, зависящие на деле от синдикатов той же самой отрасли промышленности, если речь идет о трудовых кооперативах, или от местных союзов синдикатов, если, напротив, это организации распределения» [129].
В «Резолюции о кооперативном движении» анархо-синдикалисты подчеркнули «буржуазное происхождение кооперативов», иллюзорность надежд на то, что они смогут способствовать освобОЖДСНИЮ трудящихся в рамках капиталистической системы. Тем не менее они признавали, что особенности социального развития в отдельных странах привели к возникновению рабочих потребительских и производственных кооперативов, которые «выполняют определенные функции в распределении продуктов, а также в администрации определенных отраслей промышленности». Конгресс допускал, что такие кооперативы, как «зародыши новой организации», могут оказаться полезными «в так называемый промежуточный период» перехода «от буржуазной экономической системы к обществу свободных и равных людей». Но при этом они пока что подчиняются хозяйственным законам капитализма, как и прочие предприятия. Поэтому рабочие кооперативные организации должны работать под контролем профсоюзов, не допускать формирования внутренних привилегированных групп, ориентироваться не на распределение прибыли среди членов, а на помощь борьбе и классовому движению, а также не допускать к управлению «чуждыс» элементы [130].
Учредительный форум МАТ утвердил также «Резолюцию о нейтралитетс Индустриальных рабочих мира». В ней выражалось «сожалсние» в связи с отказом североамериканских ИРМ принять участис в конгрессе. Подчеркнув, что новый Интернационал создан на «широкой международной основе», несмотря на имеющиеся различия между организациями различных стран, анархо-синдикалисты призвали ИРМ вступить в него на следующем конгрессе [131].
Итоговым документом Берлинского конгресса стало воззвание «К трудовому народу всех стран и языков». Оно давало общую оценку международной ситуации и рабочему движению за четыре года, минувших со времени окончания Первой мировой войны, и закрепило поворот революционно-синдикалистского движения на рельсы безгосударственного социализма — анархо-синдикализма. Революционные взрывы в России и Центральной Европе в конце войны, заявили синдикалисты, открывали перед трудящимися мира исторический шанс избавления «от тысячелетнего рабства и угнетения», от капитализма и тирании современного государства. Однако этот шанс был упущен из-за того, что к власти пришли сторонники государственного социализма — представители правого и левого крыльев 2 Интернационала, социал-демократы и большевики. Завоевание власти, подчеркивали синдикалисты в воззвании, стало «ужасающим роком для социализма и рабочего класса и разрушило одну из редчайших возможностей в освободительной борьбе пролетариата». В Германии социал-демократы даже не рискнули осуществить какие-либо экономические преобразования, ограничились принятием буржуазной конституции и открыли двери реакции под КОНСТИТУЦИОННЫМ прикрытием. В России бОЛЬШСвизм сконцентрировал в своих руках всю власть и принес социализм в жертву партийной диктатуре. «Насильственно разрушив с железной последовательностью все институты, которые развились из народной инициативы, как это было с Советами, кооперативами и т.д., чтобы подчинить массы вновь созданному классу комиссародержавия, он парализовал творческую активность масс и создал новый деспотизм, удушивший любые свободные мысли и втиснувший всю духовную жизнь страны в тесные формы пустого партийного шаблона, — отмечалось в документе. — Так называемая ”диктатура пролетариата ” — фиговый листок большевистской реакции — оказалась в состоянии стабилизировать господство нового верхнего слоя над широкими народными массами и обречь на смерть революционеров всех других направлений, но была не способна повести экономическую и социальную жизнь страны по новому пути и осуществить действител ьно конструктивную работу в социалистическом духе».
Все это, с точки зрения анархо-синдикалистов, доказывало лишь полную непригодность политической партии как института для дела социалистического преобразования общества. Прежде всего в силу природы самой политики, которую анархо-синдикалисты рассматривали в соответствии с анархистской традицией. Политика, восклицали они, — это «разлагающий и деструктивный фактор в истории современного рабочего движения», «теология государства», попытка посредничать «между свободой и народом». Образуя партии, она раскалывает единство трудящихся как производителей: «ведь партия — это всегда часть, осколок целого, который сознательно или неосознанно стремится навязать целому свои особые цели». Кроме того, социальное освобождение трудящихся вообще не может осуществляться политическими средствами. «Не в парламентах шли законодательных органах буржуазного либо так называемого ”пролетарского государства” будет осуществляться преобразование в сторону социализма, а на фабриках и предприятиях, на полях и верфях, на шахте и в техническом бюро». Лишь сами работники в состоянии понять, как функционирует производство, и перестроить его на всеобщее благо; чиновникам псевдосоциалистического «переходного государства» такое не под силу. Путь государственных декретов — всего лишь «губительное наследие буржуазных революций». И это социальное освобождение не произойдет автоматически, «с фатальной неизбежностью закона природа», а только по сознательной воле и в результатс революционных действий самих трудящихся масс.
Средоточием и естественной основой сознательной революционной деятельности анархо-синдикалисты провозгласили «реВОЛЮционные экономические организации рабочих», рабочие союзы. В соответствии с синдикалистской традицией, воззвание Берлинского конгресса объявляло рабочие союзы не «временным явлением внутри капиталистического общества», а органом восстановления единства трудящихся как производителей, механизмом защиты их непосредственных и повседневных интересов, «школой» развития их духовных и физических качеств, наконец, «ячейками», «из которых произойдет экономическое преобразование общества на основе либертарного социализма». МАТ, как международное объединение таких союзов, не желающих подчиняться партиям, еще раз провозглашала себя стоящей на почве Интернационала, продолженисм его федералистских и революционных принципов.
В то же самое время она заявляла о своей готовности взаимодействовать с трудящимися, входящими в другие профсоюзы, НАХОДИВШИЕСЯ под влиянием социалистических и коммунистических партий. Но не в рамках «произвольной и чисто механической состыковки противящихся друг другу элементов под нажимом бездушной и мертвой дисциплины, а в общих интересах людей и в соответствии с их убеждениями». Констатировав наступление реакции в самой различной форме повсюду в мире (в фашистской Италии, хортистской Венгрии, большевистской России и т.д.), рост национализма и угрозы новой войны, ухудшение условий жизни трудящихся и усиление их раскола, анархо-синдикалисты призвали «рабочих всех стран» к общей борьбе «против любой формы эксплуатации и рабства», любой тирании, за «меб и волю для всех» [132].
Некоторые из присланных на конгресс проектов по различным причинам в ходе его не рассматривались. Так произошло, например, с предложениями французских синдикалистов, которые в тот момент воздержались от присоединения к МАТ. Между тем они представляют значительный интерес как своеобразное подведение итогов довоенного революционного синдикализма. Так, Комитет синдикалистской защиты предложил текст интернационалистского заявления с осуждением Версальского мирного договора, в котором вина за Первую мировую войну и послевоенные кризисы возлагалась на правящие круги всех стран и выражалась солидарность с трудящимися Германии, Австрии и Турции, вынужденными платить за последствия империалистического соперничества. «Присоединяя свой голос и свое действие к голосу и действию немецких пролетариев, — писали французские синдикалисты, — мы выступасм на бой вместе с ними. У нас одна и та же цель — исчезновение капитализма и всех порождаемых [133]. Другим проектом, предложенным КСЗ, были «Тезисы о всеобщей стачке», авторы которых предприняли попытку проанализировать тактические аспекты синдикалистского прямого действия — от отдельной частичной стачки до всеобщей забастовки — социальной революции. Французскис синдикалисты считали, что в новых условиях, когда предприниматели тесно сотрудничают в борьбе против рабочего движения, прежние традиционные формы стачек (местные забастовки и более общие забастовки одной профессии) теряют свою эффективность и следует уделять большее внимание солидарности, организации межпрофессиональных и территориально более широких выступлений, но в первую очередь — отраслевых и межотраслевых стачек. Для этого, настаивали они, «необходимо, чтобы синдикализм изменил механизмы своего функционирования, перенес свое действие на отраслевой и региональный уровни, как это сделал и сам капитализм». (Эту идею анархо-синдикалисты Франции позднее активно пропагандировали в МАТ, добиваясь создания отраслевых федераций и международной реорганизации движения.) Что касается общенациональной всеобщей стачки, то в проекте выделялись три ее возможных типа: как ответ на реакционный политический путч, как помощь революционному политическому перевороту и как социальная революция. В первом случае профсоюзам надлежало, парализуя действия новой власти и не допуская восстановлсния старой, стремиться извлечь максимальные выгоды из ситуации для трудящихся, при благоприятном положении пытаясь превратить выступленис в социальную РEВОЛЮЦИЮ. Второй вариант отражал представленис французских синдикалистов того периода о возможности взаимодействия с коммунистами и революционными синдикалистами. В отличие от большинства синдикалистов других стран, активисты КСЗ считали необходимым оказать поддержку политическому выступлению, организуемому «крайне левой» партией, но при этом добиваться цели «поддержать революцию на ее чисто пролетарском и социальном, то есть экономическом уровне». Профсоюзы должны были, по их логике, воспользоваться событиями для того, чтобы заштадеть средствами производства и обмена и заставить их работать на новых основаниях, а далее ориентироваться либо на объединение всех революционных сил (возможность, которуло французские синдикалисты считали идеальной, но мало реальной в действительности), либо быть готовыми выступить и против новой партийной масти. Наконец, высшей формой борьбы признавалась «всеобщая стачка-восстанис». Последняя должна была последовать в революцион ной ситуации как результат предшествующей борьбы и состоять не только в одновременном и повсеместном прекрашении работы, но и в захвате рабочими синдикатами средств производства и обмена, в военном разгроме сил противника профсоюзными рабочими милициями (а не «пролетарской армией») и в разрушении государственной власти. При этом следовало сократить время приостановки производства до минимума и как можно скорее приступить к налаживанию новой жизни [1З4]. Французским синдикалистам нс удалось обсудить свои предложения на Берлинском конгрессе, но многие из этих идей они позднее пытались осуществить в МАТ после того, как присоединились к ней в 1927 г.
«Нe повезло» на конгрессе молодежному и женскому вопросам. На конгрессы были вынесены проект создания международной организации синдикалистской молодежи, подготовленный Федерацией синдикалистской молодежи Сены и КСЗ (Франция), и докумснт «Синдикализм и женщины». Международная организация синдикалистской молодежи должна была, в соответствии с проектом, участвовать в профсоюзной работе, способствовать подготовке активистов революционного рабочего движсния, вести борьбу против «милитаризма, религий и их догм, алкоголизма, любых социальных предрассудков», а также заниматься проблемами образования и культуры. На местном уровне предлагалось создать межпрофессиональные молодежные группы, которые обладали бы автономией в отношениях с рабочими союзами и объединялись в региональные, национальные и интернациональную федерации [135]. Проект по женскому вопросу констатировал невозможность социального освобождения и создания либертарно-коммунистического общества без самого активного участия трудящихся женщин. Помимо широкого привлечения женщин в профсоюзы, документ рекомендовал образовать специальные союзы революционных женщин, в которых могли бы состоять не только работницы, но также домохозяйки, матери, женщины, работающие в ресторанах и отелях, и т.д. Такие союзы призваны были помогать общей борьбе рабочих (к примеру, организовать услуги и снабжение во время стачек и других выступлений), изучать отдельные вопросы, касающисся женщин (материнства, сознательного регулирования рождаемости, гигиены, воспитания, домашнего хозяйства), вести антимилитаристскую работу и т.д. Выдвигалось требование равной оплаты за равный труд для мужчин и женщин [136]. Однако на все эти вопросы, по-видимому, не хватило времени.
Как бы то ни было, Берлинский конгресс достиг своей цели. На нем было окончательно оформлено создание массовой всемирной федералистской организации анархо-синдикалистов как отдельного течения в международном рабочем движении. Учредительный конгресс МАТ в Берлине был решительным отказом Коминтерну и диктатуре большевиков и открытым провозглашением принципов либертарного синдикализма», — подчеркивал Роккер [137]. По месту своего учреждения и местопребыванию ее Секретариата новая организация получила свое неофициальное название — Берлинский Интернационал профсоюзов)

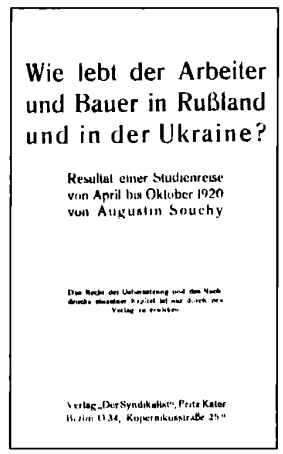

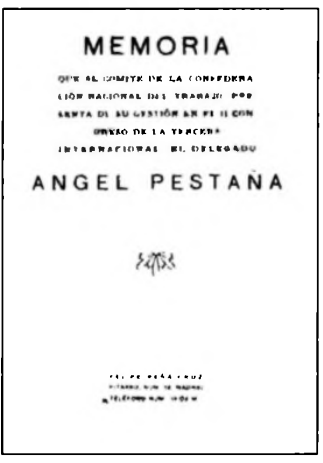
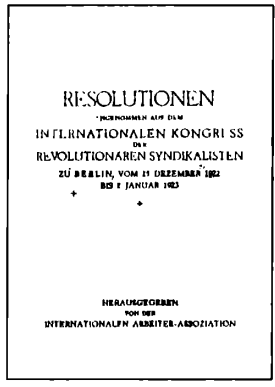

Нет комментариев