Глава 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА... Европейские секции МАТ в 1920-х годах
Относительный успех, которого сумели добиться синдикалистские движения, объяснялся отчасти стадией, достигнутой классовой борьбой... История позволяет предположить, что революционные движения во времена относительной стабильности остаются достаточно небольшими, по сравнению с их реформистскими конкурентами. Соответственно... синдикалистски организованные трудящиеся в нереволюционных ситуациях остаются меньшинством среди организованных рабочих. Синдикалистские движения могут добиться гегемонии в рабочем пассе лишь тогда, когда существует революционная ситуация.
Марсель ван дер ЛинДен и Уэйн Торп, исследователи истории синДикализмш [1].
Анархо-синдикалистский Интернационал возник на спаде мировой революционной волны. Самим его создателям казалось, что это ненадолго, что отступление будет преходящим и временным, что трудящиеся, оправившись от дезориентации, созданной усилиями реформистов и большевиков, вскоре смогут вновь перейти в решающее контрнаступление на государство и капитал. Но социальные конфликты и потрясения 1923 года оказались лишь арьергардными боями. За ними последовали годы экономической стабилизации. Многие люди всерьез заговорили о наступлении новой эпохи «процветания».
Отразив социальные угрозы, предприниматели смогли приступить к глубоким производственным реформам, которые в более длительной перспективе решающим образом изменили индустрию, организацию труда и менеджмента и сам социально-психологический облик трудящихся. Первая мировая война значительно ускорила эту перестройку экономики. Из США распространилась вторая индустриальная волна, получившая наименование «тсйлористской» (по имени автора новых методов организации производства Фредерика Тейлора) или «фордистской» (поскольку впервые она нашла широкое применение на автомобильных заводах Форда). ВнедрявипЯСЯ техника (конвейер, станки нового типа и т.д.) дробила работу на предприятии на множество мелких участков, где простые работники все время выполняли одни и те же серийные операции, в то время как отделенные от них менеджеры и администраторы сосредотачивали в своих руках организацию производства, раздробление труда и контроль над ним. Последние ремесленные навыки целостности и самостоятельности труда у работников утрачивал ись, представление о его смысле и цели исчезало, а вместс с ними и стремление рабочих взять производство под свое управление (ключевая идея синдикализма). Отупляющая, однообразная конвейерная работа превращала рабочего в простого исполнителя и приучала не рассчитывать на что-либо большeе [2]. центр тяжести социально-экономических конфликтов в тенденции переносился из сферы контроля над производством в область борьбы за ббльшую долю в распределении произведенного общественного продукта [3].
Послевоенная экономическая стабилизация была тесно связана с этой организационной рационализацией и технической реконструкциеЙ. Производительность и интенсивность труда значительно возрастали. Однако широкое внедрение техники и механизации вело к хронической недогрузке мощностей и к сокращению рабочих мест. Увеличение массовой, многомиллионной безработицы способствовало снижению уровня солидарности и взаимной поддержки между трудящимися, что подрывало еще одну из основ синдикализма.
Наконец, в период после Первой мировой войны государство начало значительно расширять свое вмешательство в социальную сферу. Во многих странах были приняты законы о государственном регулировании трудовых отношений. Социал-демократы и реформистские профсоюзы объявили эти меры важным прогрессом и достюкением для трудящихся, и этот взгляд получил широкое распространение в обществе. В то же самое время участие государства в разрешении социальных конфликтов коренным образом противоречило синдикалистской идее прямого действия и невмешательства власти в трудовые конфликты.
Все эти общественные перемены СОЗДAВAЛИ неблагоприятный фон для деятельности анархо-синдикалистов в 1920-х годах.
«Еще живо пламя...» [4]
Немецкие анархо-синдикалисты в Веймарской республике
Немецкие анархо-синдикалисты в Веймарской республике
В Германии 1923 г. ничто, казалось, не предвещало грядущей стабилизации. Напротив, социальное, экономическое и ПОЛИТИЧEСКОE положение в странс обострилось. Оккупация Рура французскими и бельгийскими войсками в январс 1923 г. привела к катастрофическим последствиям. Их еще более усугубила политика «пассивного сопротивления», провозглашенная германским правительством Вильгельма Куно. Оно распорядилось закрыть все предприятия, которые могли принести пользу оккупантам; жителям Рура запрещалось платить налоги оккупационным властям, перевозить их грузы и т.д. Но тяжесть этой политики ложилась в первую очередь на трудящихся. Промышленники Рура получили существенную компенсацию от властей. Прекращение ввоза угля в остальные районы Германии, нарушение работы транспорта, спеКУЛЯЦИЯ привели к росту цен на все основные товары. Безработица и головокружительная инфляция (в середине июня 1923 г. доллар обмснивался на 100 тысяч марок, а в середине ноября — на 4420 млрд. марок) делали положение широких масс населения невыноСИМЫМ. В течение всего года по странс прокатывались волны протестов, то нарастая, то снова идя на спад [5].
Анархо-синдикалисты играли в этих рабочих выступлениях самуко активную роль. «В эпоху инфляции ФАУД был массовым движснисм, особенно в Рейнской и Рурской области, — писал впоследствии синдикалист Герхард Вартенберг. Во многих городах насчитывались тысячи членов... Только в период наибольшего обесценения денег в 1923 г., как кажется, наступил резкий спад числа членов» [6].
Происходило оформление анархо-синдикалистского молодежного движсния. В апреле 1923 г. насчитывалось уже 57 местных групп [7]. Продолжалась полемика между сторонниками создания молодсжных профсоюзных организаций или сскций ФАУД [8] и теми, кто призывал укреплять структуры «Синдикалистско-анархистской молодежи» [9]. На конференции в Магдебурге (июнь 1923 г.) было одобрено создание федералистской региональной территориальной структуры организации [10]. Заслушав доклад видного активиста САМ П.Альбрсхта (в 1929 г. перешел к коммунистам) об отношении движения к проблеме насилия, делегаты постановили перейти к систематической организации молодежи на основе революционного синдикализма и либертарного коммунизма [11].
С начала 1923 г. члены ФАУД в Саарской области приняли участие в крупной забастовке шахтеров, организованной реформистскими союзами. В знак солидарности с шахтерами забастовали металлисты. Положение бастующих синдикалистов было особенно тяжелым, у них не было никаких средств, в то время как реформистам помогали немецкие националисты, стремившиеся повернуть эту стачку против Франции. ФАУД неоднократно обращался с призывом к сбору средств в помощь синдикалистам, участвовавшим в стачке, к международной солидарности. Послс 14 недель борьбы выступление завершилось в мае безрезультатно [12].
«Синдикалистским путчем» назвала пресса массовые выступления безработных в Мюльгейме в апреле 1923 г. Расстрел демонстрации и гибель восьми человек вызвали взрыв негодования, который перерос в бунт. ФАУД созвал в городе рабочее собрание, которое объявило всеобщую 24-часовую стачку, выдвинуло лозунги освобождения арестованных, выплаты компенсации жертвам, удовлетворения требований безработных, создания пролетарских сил по поддержанию порядка и разоружению буржуазных отрядов самообороны. В город были переброшены войска, и протесты были подавлены. ФАУД собирал средства в помощь своим членам, пострадавшим в ходе событий в Мюльгейме [13].
В мае 1923 г. рабочие стачки охватили Рур. 17 мая началась стачка горняков и металлургов в Дортмунде, в последующие дни к ним присоединились металлисты, строители, работники коммунальной отрасли [14]. Требования о повышении зарплаты встретили всеобщую поддержку, и в последующие дни забастовочное движение распространилось на Херде, Хамм, Бохум, Виттен, Ветер, Хербеде, Хатинген, Гельзенкирхен, Ваттеншейд, Ботроп, Эссен, Дуйсбург, Хамборн, Буер, Херне и т.д. Число бастовавших достигло почти 400 тысяч чсловек. Сопровождавшееся столкновениями с фашистами движение приняло революционный характер. «На предприятиях, — писала газета «дер Синдикалист», — стихийно возник единый боевой фронт рабочих, невзирая на организации». Наиболее активную роль играли коммунисты и синдикалисты. Напротив, официальные профсоюзы объявили Рурскую стачку «незаконной». В ходс забастовш были арестованы многие члсны ФАУД; пять из них еще в июле оставались в заоючснии. Стачка закончилась после того, как коммунисты и контролируемые ими рабочие организации подписали в Берлине соглашение о частичном повышснии зарплаты для одних шахтеров. ФАУД назвал этот шаг «предательством в Рурс» [15]. Весной и летом анархо-синдикалисты призывали к солидарности к многонедельной стачке коммунальных работников и транспортников Дюссельдорфа [16].
Рост волны и радикализма рабочих выступлений укреплял у ФАУД надежду на сравнительно скорую революцию в Германии. Административная комиссия выпустила воззвание «К немецким рабочим!», в котором призвала ТРУДЯЩИХСЯ действовать независимо от политических партий и централ истских профсоюзов, готовить всеобщую стачку против государства и капитала, сопровождающуюся экспроприацией общественных богатств [18]. Новое обращение с аналогичным названием, опубликованное летом 1923 г., констатировало «чудовищное обнищание» и «невыносимость» жизни трудящихся, неспособность и нежелание официальных профсоюзов защиищть рабочих. ФАУД повторил призыв ко всеобщей стачке «против капитализма, фашизма, любого правительства», к «захвату продуктов питания», к революции социальной, но не политической, к «вольному коммунизму без правительства» [19]
Не все анархо-синдикалисты Германии летом 1923 г. разделяли крайний оптимизм. Раздавались и более осторожные голоса. Так, автор статьи в «Дер Синдикалист» Франц Барвич, один из видных теоретиков ФАУДдо 1925 г., утверждал: «Возможность налицо, цсль уже видна, от нас зависит, достигнем ли мы ее и когда». Он сетовал на недостаточную численность рядов организации и активность лишь малого числа членов. Если к моменту, когда неминуемый экономический и социальный крах разразится, эти недостатки не будут срочно устранены, тогда результатом его станет не революция, а диктатура, а значит, имеет смысл заранее готовиться к подпольной работе, предупреждал автор [19]. Другие активисты опасались, что революция потерпит неудачу в решении конструктивных задач, если в анархо-синдикалистских союзах будут преобладать не убежденные сторонники коммунистического анархизма, но приверженцы «золотой середины». «Мы еще далеко не достигли вершины — анархо-синдикалистского сообщества, мы стоим лишь в самом начале, но в наши ряды уже в опасной мере проник оппортунизм», — заявлял один из авторов в «дер Синдикалист» [20].
Ожидание близкой революции побуждало активистов и теоретиков движения предложить программу действий на этот случай.
ПсрвыЙ подробный проект такого рода (один из первых в истории мирового либертарного движсния) был разработан еще в псриод непосредственного послевоенного революционного подъема. В начале 1920-х годов исследовательская комиссия берлинской рабочей биржи разработала «Директивы к построению коммунистического общества после победоносно завершившейся всеобщей стачки». Не претендуя на полноту и окончательность рекомендаций, этот документ содержал тем не менее основные ориентиры, которые вполне позволяли ПРСДСТаВИТЬ себе, как намерсвались действовать анархо-синдикалисты в случае социальной революции. В основу разработок были положены работы Кропоткина «Хлеб и воля» и «Поля, фабрики, мастерские». Значение проекта ФАУД состояло прежде всего в том, что он представлял собой антиавторитарную штыпернативу большевистской политике «военного коммунизма» и государственническим представлениям о революции вообще.
Согласно «Директивам», всеобщая стачка должна была завершиться лишь после окончательного разоружения буржуазии, вооруженных сил и полиции, экспроприации всей собственности в промышленности, торговле, крупном и среднем землевладении. В городах рабочим предстояло порайонно завладеть всеми запасами продовольственных запасов, магазинами, складами, коммунальными и государственными институтами. Рабочие и служащие должны были взять в свои руки предприятия и учреждения, на которых они трудились. Дома переходили под управление Советов квартиросъемщиков. Все районы и делегаты от предприятий составляли местную коммуну. Предполагалось немедленно распределить всех безработных по окрестным дсрсвням и ПОМССТЬЯМ. В сельской мсстности перед сельскохозяйственными рабочими, арендаторами и мелкими крестьянами стояла задача разоружить и экспроприировать крупных и средних земельных собственников и распределить между собой и приехавшим из городов населением землю для управления ею. Все наличные сельскохозяйственные запасы предполагалось передать под общес управление деревенских и общинных Советов. Единство действий и организованное сотрудничество должны были поддерживать профсоюзы работников промышленности и сельского хозяйства через посредство своих федераций. После завершения разоружения и экспроприации и «достижения цели социалистической формы эконом ики» все оружие подлежало уничтожению.
Немедленно после завершения всеобщей стачки и проведения экспроприации следовало приступить к созданию новой формы общественного регулирования потребления и производства. В соотвстствии с анархистской традицией, немецкие анархо-синдикалисты начинали свои «Директивы» с проблем, касающихся не производства, а потребления. В основу проекта была положена идея общественного планирования снизу, опираясь на выявленные потрсбности населения.
«Пока нет правильной новой статистики, в соответствии с которой можст ОСУЩEСТВЛЯЛСЯ распределение продуктов питания, одежды и т.д., говорилось в «Директивах», — сохранится... система карточек на все виды изделий» 21 . Выдача карточек и контроль над ними переходили в руки Советов квартиросъемщиков и окружных организаций рабочих бирж; всякие деньги и оплата упразднялись. Отделения бирж должны были вместе с профсоюзами немедленно составить перечень всех наличных запасов потребительских благ, жилья и статистику населения. Далее предполагалось свссти стаТИСТИЧССКИС данные вместе на собрании делегатов от отдельных районов данного населенного пункта, а затем поступить аналогичным образом на уровне округов, земель и страны в целом. Специалистам предстояло рассчитать средний уровень потрсбностсй на душу населения. В соответствии с предложениями анархо-синдикалистов, вначале следовало выдавать всем работающим равнос количество предметов потребления, благ и услуг (особо учитывая также детей, стариков и больных); в будущем врачи и районные комиссии по здравоохранению должны были рассчитать индивидуальные нормы потребления. Работоспособные, отказывавшиеся от работы, получали лишь половинный рацион и могли быть изгнаны из общины. Выпуск карточек рационирования и контроль над ними возлагались на Советы квартиросъемщиков и делегатов населения на различных уровнях. Точно так же планировалось поступать в сельской местности, причем общинные Советы должны были выпустить также карточки на корм для скота и управлять семенным запасом. За сокрытие продуктов полагалось исключенис из общины. Никакие иные репрессивные меры нс предусматривались. Городские и сельские органы «бирж труда», как предполагалось, должны были составлять статистику наличных сельскохозяйственных орудий и машин, одежды, предметов потребления и т.д., которыс будут необходимы на ближайшее будущее и могут быть изготовлены отраслевыми федерациями. Одновременно федерациям следовало предпринять скорейшие меры по прекращению выпуска ненужных товаров и переключиться на производство исключительно продукции, необходимой для обеспечения сельского хозяйства и удовлетворения потребностей населения в жилье, одежде и т.п. Предполагалось предпринять срочные меры по обеспечению сельского хозяйства необходимой техникой, переходу к более рациональным методам земледелия и животноводства. Горожане могли приступить к обработке пустующих полей и полсзных площадей. В идеале анархо-синдикалисты выступали за постепенное соединение хуторов в поселения, но предупреждали, что принуждать крсстьян к этому нельзя: «...Если они пожелают и далее трудиться попрежнему, то им не следует в этом препятствовать, главное, чтобы они предоставляли наличные продукты питания за вычетом причитающихся им продуктов, кормов и семенного запаса» [21].
Для управления производством на предприятиях работники физического и умственного труда должны были избрать Советы, состоящие из делегатов, которые в любой момент подлежали отзыву [22]. В задачи Совета входил точный учет наличных производственных средств и производственных возможностей. Эта информация подлежала сведению вместе на уровне населенного пункта на собраниях делегатов от этих Советов, созываемых местным отраслевым профсоюзом; на них же могли решаться вопросы о закрытии, перепрофилировании или совершенствовании производств. Точно так же следовало поступать на уровне округа, земли и страны в целом, причем каждый раз предполагалось «выравнивать» наличные излишкиили недостачу. Общие вопросы в масштабах страны решались на периодических конгрессах рабочих бирж и отраслевых федераций. Все делегаты на любом уровне могли быть отозваны членами их местной организации.
Что касается организации потребления, то анархо-синдикалисты считали настоятельно необходимым «привлечь к социализму» всех (даже первоначально несогласных) трудящихся «с помощью справедливого распределения или обмена продуктами труда». Разработанные ими «Директивы» были основаны на принципах анархистского коммунизма. «Синдикалисты, — говорилось в документе, — хотят полностью исключить деньги как средство обмена, чтобы сделать невозможным возвращение к частнокапиталистическому хозяйству... цель вольного социалистического общества: каждый трудится в соответствии со своими способностями и получает по своим потребностям. Социализм предполагает, таким образом, высокоразвитое чувство общности у подавляющей массы трудящихся» [23]. Немецкие анархо-синдикалисты полагали, что неимущие промышленные и сельскохозяйственные рабочие уже обладают такими качествами. Среди крестьян и «верхних слоев работников умственного труда», которые столь же жизненно важны «для построения нового общества», необходимо еще до революции вести упорную разъяснительную и просветительскую работу, тем более что многие профессии в сфере услуг, финансов, торговли и т.д. исчезнут.
Следуя ОБЩЕПРИЗНАННЫМ в тот период в среде социалистов всех направлений представлениям о будущем коммунистическом «изобилии», анархо-синдикалисты констатировали, что «в первое время полное удовлетворение всех потребностей невозможно», отраслевым федерациям придется ввести у себя определенные нормы рабочего времени, и все должны будут трудиться. Но даже в это «переходное время» распределение должно было осуществляться не с помощью денег, а посредством рационирования, причем, разумеется, не государственного (сверху), а общественного, согласованного самими трудящимися. Кроме того, предполагался принцип своеобразного «бартера» между отраслевыми федерациями: «Отдельные федерации должны будут также в переходное время обменивать свои продукты шии выполняемые работы на соответствующее возмещснис в виде необходимых им продуктов» на основе конкретных соглашений и договоренностей. С помощью такого обмена синдиилисты предполагали вовлечь в социалистическую экономику крестьян и представителей ряда профессий умственного труда [24].
В отношении формы распределения на первое время в ФАУД существовали различные представления. Наряду с преобладавшим в тот период взглядом о распределении по карточкам, выдаваемым рабочими организациями в населенных пунктах, высказывались мнения о раздаче продуктов на предприятиях по спискам работаЮЩИХ [25].
Производственный баланс на уровне страны предстояло сводить страновой конференции отраслевых федераций. Она могла принимать решения об обмене с заграницей. При этом синдикалисты выдвигали следующие принципы: «В первую очередь будет производиться необходимое для самой страны, затем для заграницы, причем только в обмен на необходимые продукты питания и сырье... Мы должны сделаться как можно более независимыми от заграницы, пока социализм не будет введен во всем мире» [26].
Отношение многих немецких анархо-синдикалистов тех лет к кооперативам и иным формам «экспериментального социализма» было скорее негативным. Они подчеркивали, что эти образования появляются при капитализме и живут по его законам. Даже принося некоторые частичные успехи, кооперативы нс могут способствовать переходу к новому строю. Поэтому синдикалисты советовали рабочим задуматься, «не лучше ли для общего движения сконцентрировать свои силы на общем СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ строительстве, вместо того чтобы распылять их на подобные сомнительные частичные действия». Но в то же самое время они призывали готовиться к немедленной организации таких кооперативных поселений, как только начнется революция. К тому же рабочие коопераТИВЫ, по мнению синдикалистов, могли бы помогать обеспечению продовольствием рабочих в момент всеобщей стачки.
«Директивы» были почти целиком сосредоточены на экономических проблемах, поскольку синдикалисты придавали первостепенное значение именно преобразованию экономики. В то же время они подчеркивали важный момент, который резко отличал либсртарную постановку вопроса о социализме от большевистской: социалистические задачи могут быть «осуществлены лишь в том случае, если одновременно будут созданы духовные предпосылки у самих носителей экономики, работников. Таким образом, еще до строительства социалистической экономики должна быть соответствующим образом изменена и усовершенствована вся духовная конституция людей». Здесь анархо-синдикалисты предпочитали не выдвигать каких-либо КОНКРСТНЫХ предложений, но выступали за то, чтобы предоставить всем направлениям духовной и семсЙной жизни возможности для полностью свободного развития, когда будут сброшены «кандалы государства». Предлагалось создать специальную комиссию для изучения вопросов, связанных со школой, воспитанием и образованием, а также женскую комиссию для исследования проблем семейной жизни, быта и воспитания детей.
Анархо-синдикалисты полагали, что в будущих местных коммунах будут образованы комиссии по продовольствию; одежде; жилью и строительству; образованию, развлечениям и искусству; здравоохранению; общественному транспорту. Местным рабочим биржам рекомендовалось уже в настоящее время приступить к созданию таких комиссий. С точки зрения отраслевой организации предполагалось существование федераций сельского и лесного хозяйства; производства продовольствия и предметов потребления; одежной и текстильной промышленности; обувной и кожевенной промышленности; строительной и каменной промышленности; деревообрабатывающей промышленности; горного дела, доменной и солеваренной промышленности; химической промышленности; металлической и электротехнической промышленности; печатного дела и бумажной промышленности; транспорта; свободных профессий. По этим отраслям тоже должны были быть образованы отдельные комиссии. Всем этим комиссиям предстояло разработать более детальные предложения по своим направлениям дсятсльности [27].
В ходе дискуссии насчет предложенного плана в ФАУД нс было выдвинуто каких-либо существенных и принципиальных критических замечаний. Высказывались мнения о том, что следует в большей мере учитывать духовные и культурные аспекты созидания; некоторые предлагали организовать анкетированис члснов союза для выявления их способностей и т.д. Были разработаны также предложения по отдельным отраслям и областям общественной жизни.
В 1 923 году, НериеЦКИС анархо-синдикалисты вернулись к обсуждению вопроса о непосредственной подготовке социальной революции. «Теперь перед нами задача осуществить на деле все то, что мы десятилетиями пропагандировали устно и письменно, — писал «дер Синдикалист». — Теперь теория становится программой. Программой, исполнение и режиссура которой переходит к самим массам» 28 . Теоретики движения подчеркивали необходимость прежде всего обеспечить снабжение продовольствием. Они предлагали в первую очередь в нужный момент захватить иебопскарни, передать их под управленис профсоюза пскарсй и гарантировать распределение хлеба, для чего союз должен был заранее приступить к сбору всех необходимых статистических данных. Профсоюзы транспортников обязаны были обеспечить бесперебойное снабжение городов и промышленных центров всем необходи.мым. «Поскольку все капиталистические средства платежа с переходом снабжения хлебом профсоюзами будут выведены из обращения, исб будут получать все имеющие удостоверение бастующего... За деньги ничего нельзя будет купить, и ни у кого не будет причин красть ради денег», — утверждали синдикалисты. Предполагалось немедленнос трудоустройство в распределении продовольствия, транспорте, строительстве, гигиене, сооружении жилья и сельском хозяйстве всех тех, кто занят непроизводительным или офисным трудом, работал на закрывшихся предприятиях и т.д. «Рабочая биржа (профсоюзный картель) устанавливает потребности, предприятия ориентируют на них производство... Округа станут управлять направлением продуктов питания, одежды и предметов домашнего обихода в должные места, в первую очередь наиболее нуждающимся...» [29].
Надеясь на относительно скорую революцию в Германии, анархо-синдикалисты всеми силами предостерегали нсмсцких трудящихся от влияния фашизма и большевизма. Уже в мае 1923 г. в печатном органс ФА УД «Дер Синдикалист» появилась редакционная статья «Долой фашизм!», где подчеркивалось: «Было бы непростительным легкомыслием недооценивать реакционную опасность, таящуюся в фашизме и большевизме». Синдикалисты расценивали диктатуры большевиков в России и Муссолини, который «взял за пример Ленина», как эпицентр мировой реакции, распространяющейся далее по всему миру, в том числе в Германии. Статья интсрссна также тем, что дает один из первых примеров анархистского анализа фашизма. В ней отмечаются радикализм фашизма как явления, возникшего в революционную эпоху как реакция на терпящую поражение пролетарскую революцию, его антипарламснтаризм и ориентация на прямое действие. «Он хочет, как и большевиз,м, силой овладеть государственной властью и, осуществляя диктатуру, ввести свой политичсский и экономический режим». Авторы обращали внимание и на реакционный социальный характер экономичсской программы фашистов: «Частную собственность следует защищать от всяких социалистических посягательств, систем наемного труда надо защищать, а рабочие должны стать сше более бесправными. Чтобы ВЫбИТЬ почву из-под ног социалистической пропаганды, должны быть проведены некоторые реформы в области биржевого капитализма, чтобы рабочие пребывали в увсренности, будто идет борьба с паразитической спекуляцией. Но предпринимательство должно не просто сохраниться, а получить дальнейшее развитие» на основе установления «патриархальных отношений» между предпринимателями и работниками, как это было «до развития современного крупного капитала». Установление такого режима, указывали анархо-синдикалисты, сопровождается самым диким террором и разгромом рабочих организаций.
Большевистский коммунизм — непригодное средство для борьбы с фашизмом, ибо он готовит трудящимся точно такую же судьбу, заявляли анархо-синдикалисты. В статье содержался призыв бороться с фашистами не с помощью создания вооруженных подразделений, заведомо уступающих фашистским, а революционно-синдикалистскими методами рабочей борьбы на производстве и подготовки всеобщей экспроприационной стачки. Лишь синдикализм может спасти Германию от фашистов [30].
ФАУД неоднократно обличал сближение коммунистов с нсмецким национализмом, особенно послс того, как представитель Коминтерна в Германии Карл Радек в знаменитой «речи о Шлагетере» призвал летом 1923 г. к сотрудничеству с «честными» НАЦИОНАЛИСТАМИ [З1]. Он назвал Радека «самым ревностным защитником большевистского фашизма» [32]. Большевистская пропаганда толкает трудящиеся массы «прямо в объятия фашизма», — заявляла Административная комиссия ФАУД [ЗЗ].
Анархо-синдикалистская критика большевизма и коммунистов летом 1923 г. ожесточилась, как никогда ранее. КПГ воспринималась уже не просто как «партия контрреволюции», но и как союзница фашистов. «Пути расходятся, — писала газета «Дер Синдикалист». — С одной стороны стоят фёлькише и коммунисты, которые с помощью революции хотят решить национальный вопрос, то есть разорвать Версальский договор, чтобы вновь превратить Германию в сильную великую державу. С другой стороны стоят революционные синдикалисты и анархисты, которые хотят уничтожить любое правительство и любой авторитет, ликвидировать частную собственность и наемное рабство, чтобы ввести социальное равенство» 34. В последующие недели жесткая полемика с коммунистами продолжалась. Анархо-синдикалисты с возмущением реагировали на то, что в органе КПГ «Роте Фане» печатались статьи графа Ревентлова, других националистических лидеров и крайне правых офицеров, на выступление одного из лидеров коммунистов Рут Фишер, которая призвала националистов к союзу с Советской Россией и к борьбе не только «против еврейского капитала», но и против немецких монополистов. «Коммунистическая партия Германии, — заявляли анархо-синдикалисты, — является наЦИОНИЬНОЙ, антисемитской, милитаристской и, не в последнюю очередь, диктаторской. Революционный пролетариат, борющийся за свое освобождение из-под ига милитаризма, от которого столь горько пострадал, стремящи йся уничтожить национализм и достичь свободного, социалистического общества, должен с отвращением отвернуться от коммунистов... и энергично и решительно бороться с этой новой ”красной реакцией“ Только на развалинах коммунистической партии, после уничтожения Коммунистическою Интернационала может увенчаться успехом борьба против фашизма» [З5].
Задавшись вопросом, что же общего между фашистами и коммунистами-государственниками, немецкие анархо-синдикалисты были одними из первых, кто подверг критике тоталитаризм, пусть даже не используя еще этот термин, и определил его основные черты: и коммунисты и фашисты «стремятся к национализации, огосударствлению. Свободы не хотят ни коммунисты, ни фашисты, и те и другие хотят государственного принуждения... Коммунисты, как и немецкие фёлькише, борются за национальное освобождение». Им остается только договориться о будущих формах политического устройства. Поэтому синдикалисты призвали немецкий пролетариат не верить «партии измены».
Почти пророчески звучит предупреждение анархо-синдикалистов о том, куда может завести коммунистов этот националистический курс: «Если революционный пролетариат пожелает бороться за национальное освобождение... то сму нс нужны ни коммунисты, ни Интернационал, он может сразу с головой отдаться я фёлькише» [36].
(Именно так и произошло 10 лет спустя!)
Если революционные события далеко развели анархо-синдикалистов с компартией, то они, напротив, сблизили ее с левыми коммунистами — сторонниками беспартийной системы Советов. Усилились инициативы по объединению ФАУД с Всеобщим рабочим союзом — Единство. Например, 8 июля 1923 г. первая конференция рабочих бирж Центральной Германии единогласно постановила предоставить представителям ВРС-Е право решающего голоса, поскол жу тот «обдумывает вступление в ФАУД». 23 сентября 1923 г. на следующей конференции было одобрено присоединение к ФАУД организации ВРС-Е Западной Саксонии [37].
Новым пиком революционного движения в Германии в 1923 г. стало забастовочное движение в начале августа, превратившееся во всеобщую стачку, которая привела к падению правительства Вильгельма Куно. Во многих районах (Ахене, Гамбурге, Ганноверс, Эйслебене. Кульмбахе, Витгенбсргс, Любеке, Лейпциге и других) забаСТОВКМ сопровождались столкновениями или волнениями; имелись убитыс и рансныс. Члены ФАУД приняли самое активное участис в движении, а также в рабочих выступлениях, которые разворачивались одновременно с ним? [38].
Так, в Крефельде официальные профсоюзы были против стачки, и она началась по призыву местной рабочей биржи ФАУД. Голюд, дороговизна и инфляция вызвали столь бурное возмущение, что городские власти пообещали конфисковать все нераспроданные товары, но так и не сделали этого. Полиция напала на демонстрацию бастующих рабочих со сталелитейного предприятия «Райнхольд»; имелись раненые с обсих сторон. Совещание «доверенных лиц» (рабочих делегатов) ФАУД призвало провести всеобщую стачку протеста, и эта инициатива получила поддержку почти всех трудящихся города, за исключением некоторых мелких предприятий. Полицейские снова атаковали участников митинга, используя сабли. В ходе вспыхнувших столкновений было тяжело ранено 15 человек, три из которых позднее скончались. Сотни взбешенных рабочих стали брать штурмом продуктовые магазины и продовольственные склады; несколько чсловск получили тяжслые ранения. ФАУд выпустил листовку с призывом прекратить «грабежи» и начать организованную раздачу продовольствия. В ходе совещаний рабочих организаций и партий социал-демократы и официальные профсоюзы заявили, что не желают иметь с анархо-синдикалистами ничего общего; коммунисты и независимые социал-демократы вначале поддержали позицию ФАУД, но затем вместе с социал-демократами призвали рабочих прекратить забастовку и вернуться на работу. ФАУД в одиночку просил рабочих не прекращать борьбу до полного удовлетворения их требований, и всеобщая стачка продолжалась, даже несмотря на подписанное официальными профсоюзами соглашение о небольшом повышении зарплаты. В общей сложности всеобщая забастовка в Крефельде длилась с пятницы до четверга следующей недели [39].
В угольном бассейне в Центральной Германии (Борне, Мойзельвице, Розице, Гейзельтале, Биттерфельде, Цейце-Вейсенфельде) забастовка вспыхнула стихийно, без призыва каких-либо партий и профсоюзов. Анархо-синдикалисты предложили рабочим захватить предприятия, организовать их оборону и немедленно наладить с крестьянами и сельскохозяйственными рабочими обмен угля на продукты, одновременно призвав их экспроприировать помсщиков. Однако на собрании рабочих эта идея была отвергнута. Вместо этого по настоянию коммунистов были выдвинуты лозунги против правительства Куно, за создание «рабоче-крестьянского правительства». Вопреки призывам ФАУД, трудящиеся не стали проводить оккупационную стачку и покинули предприятия. Под консц руководство выступлением оказалось в руках коммунистов, которые так и не предложили какой-либо альтернативной тактики борьбы. В результате движение было подавлено [40]. В Цейце доведенные голодом до отчаяния рабочие вступили в настоящее сражение с полицией «шупо»; имелись убитые и раненые. 10 рабочих погибли, 35 были ранены. Среди пострадавших в этом районе были члены и сторонники ФАУД. Послс окончания стачки начались репрессии. В 26 группах союза насчитывались сотни подвергнутых санкциям различного рода. Массовые увольнения шахтеров, состоявших в ФАУД, прошли на шахтах Нижних Лужиц (Нидерлаузица). Анархо-синдикалисты просили ЧЛСНОВ организации помочь товарищам [41]. Приветствовав свержение правительства Куно, они призвали рабочих страны готовиться к новой всеобщей стачке и социальной революции [42].
Летом и осенью 1923 г. у немецких анархо-синдикалистов появился еще один противник — рейнский сепаратизм. Идея создания отдельной республики на Рейне пользовалась поддержкой среди части населения, измученного экономическим крахом и последствиями политики «пассивного сопротивления». Движение увлекло за собой и некоторое количество либертариев и синдикалистов [43]. Бертрам Дитц, бывший член ФАУД и Федерации коммунистических анархистов, выступал в Дюссельдорфе за создание Рейнской республики, в которой надеялся добиться создания «системы Советов на синдикалистской основе». Сепаратизм поддержала федерация текстильщиков ФАУД Ахена [44]. В Людвигсхафенс бывший член ФА УД расклеивал сепаратистские листовки.
Большинство активистов и членов ФАУД решительно отвергло рсЙнскиЙ сепаратизм, поскольку анархо-синдикалисты выступали против государства вообще, осуждая в равной мере всякий национализм и империализм, «милитаристскую Францию» и капиталистическую Германию. «Рабочие, которые борются за социализм, — писал печатный орган ФАУД, — не должны ни выступать за образование нового государства, ни защищать существующее или будущее государство [45]» Резолюции против поддержки сепаратизма приняли отделение Федерации рабочих-металлистов ФАУД в Большом Рейнхаузсне, организации союза в Мюльгейме, Большом Дюссельдорфе, члены федерации рабочих-металлистов Крефельда, рабочие биржи Хёрде, Кёльна, Дюссельдорфа, местная синдикалистская группа в Нойвиде, рабочие биржи в Мангейме, Людвигсхафене, Хёхстс, Ахене и Ахенском округе, Крефельде, Хохэммерихе, Дуйсбурге, Эльберфельде. Конференция синдикалистских организаций Рейнской области, проходившая 2—3 сентября в Крефельде, постановила считать членов ФАУД, примкнувших к Рейнско-республиканской партии, выбывшими из рядов союза. За «поддержку сепаратизма» из союза была исключена федерация текстильщиков Ахена [46]. Окончательное решение было вынесено на созванной Административной комиссией конференции ФАУД Рейнской области 1 ноября 1923 г. в Дюссельдорфе. В принятой почти единогласно (против выступил только один делегат) резолюции указывалось, что анархо-синдикализм выступает против любого государства и правительства. ФА УД не поддерживает лозунг единства Германского государства, считая, что такого единства не нужно для сохранения ценностей культуры и цивилизации. Однако он не может поддержать и действия рейнских сепаратистов по созданию нового государства, поскольку рабочий класс ни в экономическом, ни в ином отношении ничего не выиграет от нового государства. Конференция постановила, что те из членов ФАУД, которые по своей инициативе примкнут к сепаратистскому движснию, ставят себя вне ФАУД. Анархо-синдикалисты подчеркнули, что, если новое государство все же возникнет, они будут и в нем продолжать борьбу за социальные цсли трудящихся [47].
Осенью 1923 г. ситуация в Германии оставалась напряженной. «Нищета трудящихся в октябре и ноябре 1923 г. была неописуемой, — писал историк Вольфганг Руге. — Уровень жизни масс, который почти безостановочно падал на протяжении 1O лет, достиг абсолютного дна. 7070 рабочих были полностью или частично безработными. Почти 9570 всех предприятий простаивали... Промышленное производство составляло лишь 2070 от уровня 1913 г.» [48]. Правительство Густава Штреземана, которое анархо-синдикалисты назвали «диктатурой центра» [49], объявило о прекращении «пассивного сопротивления» и стремилось во внешней политике — к соглашению с государствами бывшей Антанты, а во внутренней — к введению стабильной валюты и укреплению предпринимательства. Предприниматели воспользовались благоприятной ситуацией и стали почти повсюду пытаться отменить восьмичасовой рабочий день, который был одним из достижений Германской революции, пересматривали тарифные соглашения. ФАУД призывал трудящихся всеми силами и средствами сопротивляться наступлению предпринимателей и защищать 8-часовой рабочий день [50]. Ожидая окончательного краха марки в сентябре 1923 г., анархосиндикалисты вновь повторяли, что предотвратить надвигающуюся экономическую и социальную катастрофу может лишь всеобщая стачка, «немедленная подготовка организованного пролетариата к взятию в свои руки средств производства, продолжение производства на основе экономики, ориентированные на удовлетворение потребностей людей и распределение произведенных благ среди всех нуждающихся, насколько это позволяют имеющиеся запасы» [51]. «Апогеем народной гибели» назвали они финансовую реформу, ОСУЩЕСТВЛЯВШУЮСЯ кабинетом Штреземана [52].
В эти осенние месяцы в статьях и заявлениях ФАУД постоянно присутствовали одновременно два мотива. С одной стороны, это тревога в связи с нарастанием реакции, утратой достижения рабочего движения, угрозой военной диктатуры и фашизма [53]. Соответственно анархо-синдикалисты призывали к оборонительным сражениям. «Синдикалисты и анархисты могут вступить в контакт на предприятиях со всеми рабочими и организациями, которые также осуждают парламентаризм и любую диктатуру, как, например, с ВСР-Е, с тем чтобы готовить совместные акции в оборонительной борьбе против ЛИКВИДаЦИИ 8-часового рабочего дня... — писала газета «Дер Синдикалист». — Они должны стремиться к тому, чтобы убедить других организованных людей в преимуществе революционного синдикализма. Только благодаря ему и его методам борьбы прямого действия рабочие смогут еще отразить реакцию в политической, социальной и экономической сфере» [54].
С другой стороны, анархо-синдикалисты продолжали готовиться к социальной революции. В статье, опубликованной осенью в печатном органе ФАУД, видный активист движения Аугуст Ксттснбах утверждал, что «в Германии обстоятельства подталкивают в этом направлении» и необходимо как можно интенсивнее вести агитацию, разоблачать партии и привлекать в организацию новых членов. Выступая за общество без насилия, он выразил понимание действиями участников голодных бунтов, вплоть до массовой расправы над спекулянтом продуктами питания в Гельзенкирхене и над прокурором, стрелявшим в рабочих во Франкфурте [55].
В октябре 1923 г. Административная комиссия ФАУД вновь выпустила воззвание «К германскому пролетариату!» с еще одним призывом готовиться ко всеобщей революционной стачке. «На рабочих Германии, — писали анархо-синдикалисты, — лежит ответствснность: взять свою судьбу в собственные руки и совершить революционный поворот — или заслужить проклятие грядущих поколений. Последний раз напоминаем вам: решайте!» Предложенная линия действий состояла в отстаивании «сегодняшних требований» (введения 6-часового рабочего дня для борьбы с безработицей, ликвидации налогообложения зарплаты, роспуска всех военных и полицейских формирований, отмены осадного положения, снижения цен при одновременном повышении зарплаты с тем, чтобы выйти на довоенный уровень их соотношения, освобождения всех политических заключенных) и подготовке к борьбе за «завтрашние требования». Под этими последними ФАУД понимал задачи социальной революции: экспроприацию капиталистов, ликвидацию капиталистического экономического строя, уничтожение государства и любого правительства, овладение всеми рабочими вместе землей, шахтами, фабриками и транспортными средствами, учет всех ресурсов и производственных мощностей и производство, ориентированнос на удовлетворение потребностей, а не на прибыль, учет имеющегося жилья и распределение жизненно необходимых благ среди нуждающихся. Сценарий действий в момент всеобщей стачки и после нее в целом совпадал с рекомендациями «Директив»: прекращение работы, завершение разоружения контрреволюционных сил, отправка рабочих в сельскую местность для организации продуктообмена с деревней, экспроприация предприятий работниками и возобновление производства с переориентацией на потребности людей, закрытие предприятий, не производящих жизненно необходимые продукты и блага, и трудоустройство освободившихся рабочих рук и безработных, уничтожение центральной государственной власти, недопуиление возникновения нового правительства, «пусть даже состоящего из рабочих», и прихода к власти компартии, содействие революционному движению за рубежом [56]. Анархо-синдикалисты выступили с резким осуждснисм восстания, организованного коммунистами в Гамбурге в конце октября 1923 г. Они характеризовали его как «путчистские игры», приведплие к бессмысленным жертвам среди рабочих [57]. С озабоченностью синдикалисты реагировали на фашистский путч Гитлера — Людендорфа в Баварии и на антисемитские погромы [58].
После кризиса в конце октября — начале ноября 1923 г. в Германии быстро наступил перелом. 8 ноября правительство передало диктаторскую власть генералу Хансу фон Секту. Левые организации подверглись преследованиям. В течение ноября властям удалось добиться стабилизации марки, а также смягчения напряженности в отношениях с державами-побсдительницами. Для анархо-синдикалистов все это означало «наступление контрреволюции».
«Капиталистам удалось наконец с помощью непрерывного подкопа все болсс сдерживать революционные силы народа и самим стать хозяевами положения, — признавал печатный орган ФАУД.
Трусливое поведение социал-демократии и централистских профсоюзов облегчило реакции эту игру». Вокруг революционных рабочих все теснее сжимается кольцо рейхсвера и фашистских отрядов, утверждала газета. Она все еще предрекала, что «вооруженный исход борьбы с бандами реакции кажется неминуемым» [59].
Означают ли последние события действительный конец «революционного развития в Германии»? — задавался вопрос в другой статье того же номера. «Мы не верим в это, и мы этого не ДОПУСмм... — восклицали анархо-синдикалисты. — Мы, синдикалисты, и в эти тяжелые времена должны высоко держать знамя революции и пропагандировать идею прямого действия, творческого вмешатсльства масс. Еще не все проиграно. Нужно еще надеяться на то, что рабочий класс нс отдаст без борьбы свое место контрреволюции...» ФАУД вновь призвал трудящихся защищать 8-часовой рабочий день, переходить в контрнаступление и добиваться ограничения рабочего времени шестью часами в дснь [60].
Экономический и политический кризис 1923 г. и его последствия нанесли роковой удар по немецкому анархо-синдикализму. «Зарплаты рабочих за неделю хватало лишь на то, чтобы в лучшем случае купить меб и полфунта маргарина. А если зарплата не выплачивалась ежедневно, то к концу недели деньги вообще уже ничего нс стоили... — сообщал ФАУД в отчете II конгрессу МАТ. — Перед лицом подобного положения нечего было и думать о цифрах взносов в организацию, нельзя было тратить средства на организацию, газету и литературу для рабочих». К тому же на основании чрезвычайного положения были запрещены местные союзы ФАУД в прусских провинциях Вестфалия, Ганновер, Мекленбург и Померания, в Саксонии и Саксонии-Ангальт, в Баварии, их им имущество конфисковано, а многие активисты репрессированы [61]. Сообщалось о том, что в Массене и Хеерене (недалеко от Дортмунда) был конфискован весь материал организации и произведены массовые аресты ее членов. В Зельм-Байфанге, Тойхерне, Камене, Нидерпланице и во всем районе Цвиккау (Западная Саксония), в Фареле (Ольденбург), Верне-Эфенкампе, Ремшейде, ШтейнбергШталленберге (Тюрингия) военные конфисковали всю документацию и часть библиотечного фонда. Преследования ФАУД не были предписаны официально генералом Сектом и центральным руководством рейхсвера, и это позволяло оспаривать их как «местные перегибы». 29 ноября представитель Административной комиссии ФАУД подал жалобу в военное министерство в Берлине, и там пообещали отменить принятые меры и вернуть конфискованное имущество. Руководство ФАУД призвало местные организации также подавать жалобы в окружную военную администрацию [62].
Согласно данным «Словаря по общественно-политическим наукам», число членов ФАУД в 1923 г. упало до 30 тысяч [63].
В конце 1923 г. стали появляться признаки того, что некоторые из ведущих активистов ФАУД пересматривают прежние радикальные позиции в отношении будущей социальной революции. Редакционная статья в последнем номере «дер Синдикалист» утверждала, что «спад силы действий рабочего движения ясно проявлялся уже в конце 1922 г., в минувшем же 1923 г. предпринимательские круги буквально пошли на штурм против всего, чего добились рабочие». Новый год не обещает быть лучше, хотя кризис и не разрешен, уверяла газета [64]. В газете был опубликован материал А. Шапиро, который, ссылаясь на разработки русских анархо-синдикалистов и опыт Русской революции, призвал «отказаться от предрассудков». Он заявил, что «грядущая революция не принесет с собой полного осуществления анархистского идеала» и немедленного «полного равенства». Шапиро доказывал, что неизбежное падение производства в период революционного переворота, необходимость применения насильственных методов для подавления ее врагов и другие трудности будут порождать особый этап, когда синдикалистские профсоюзы, еще не включая в себя всю массу населения, должны будут взять на себя ответственность за управление обществом, контроль над рабочими отрядами и т.д. Он допускал также временное сохранение денег «на начальной стадии нового общества» [65]. В аналогичном духе высказывался — во изменение своей прежней позиции — и Ф. Барвич. В изданной в 1923 г. брошюре «Коммунистическое строительство синдикализма» он утверждал: «Дeньги на переходное время должны быть сохранены как средство обмена, но лишены своих свойств источника обогащения. Когда и каким образом произойдет позднее полная отмена денег, должен показать опыт» [66]. Но эта позиция еще отнюдь не стала преобладающей в ФАУД.
Воспользовавшись экономическим кризисом и ослаблением рабочего движения в конце 1923 г., германские предприниматели усилили наступление на 8-часовой рабочий день. Трудящиеся вели упорные оборонительные бои. 18 декабря 1923 г. на металлургических предприятиях Круппа в Рейнхаузене началась забастовка, которая в январе переросла во всеобщую стачку металлистов в Рурской области и Рейнланде, затем распространилась на Берлин и другие области, захватив в конечном счете до 500 тысяч человек. 150 тысячам металлистов Берлина был объявлен локаут. Конференция рабочих и производственных советов в Рейнхаузене 3 января 1924 г. прошла под влиянием духа революционного синдикализма, что не в последнюю очередь объяснялось активной пропагандистской работой членов ФАУД. Другие профсоюзы саботировали движение, но признали его как свершившийся факто [67].
Ход рейнско-рурской стачки был обсужден на конференции ФАУД. Ее участники констатировали, что выступление приобретает все более отчаянный характер. Оккупационные власти арестовывали членов ФАУД за «анархо-синдикалистскую подрывную деятельность» и передавали их немецкой полиции. По обвинению в государственной измене были заиючены в тюрьму активисты Хаусманн и Фридрих; арестован редактор газеты «Шёпфунг» Древес. Все члены ФАУД в Рейнхаузене были арестованы и высланы из города. Члены организации вынуждены были бежать из Дюссельдорфа, спасаясь от оккупационной французской полиции. В Юрдингене было совершено ночное нападение на рабочую биржу ФАУД. В Вормсе французские оккупационные власти конфисковали газету ФАУД «Дер Синдикалист». В Аахене и Вурмском бассейне 50 анархо-синдикалистов были обвинены в нарушении «гражданского мира»; над ними был начат процесс. Только в одном Вюрзелене 40 членам организации грозили различные обвинения. Среди арестованных оказались такие видные активисты, как Х. Хауэр и О. Амаккср. В связи с этими преследованиями конференция ФАУД постановила организовать помощь преследуемым, готовиться к запрету ФАУД и усилить пропаганду против предстоявших парламентских выборов и политических партий [68]. Борьба металлистов Рейнской и Рурской области продолжалась восемь недель.
Весной 1924 г. бастовали входящие в ФА УД моряки, протестуя против намерения предпринимателей ввести двисменный режим труда по 12—15 часов. В тот же период по всей странс прокатилась волна стачек в самых различных отраслях [69]. Во время стачки на баДеНСКИХ анилиновых заводах члены ФАУД организовали уход за детьми бастующих [70]. Среди забастовок выделялось выступление шахтеров Рейнланда-Вестфалии и Саксонии, явочным порядком восстановивших 7-часовой рабочий день, на что предприниматели ответили локаутом в начале мая, уволив почти полмиллиона рабочих. Добиться 7-часового рабочего дня не удалось. Синдикалисты предложили объявить всеобщую стачку, но реформистские союзы не поддержали эту идею. Рабочие согласились на «временнос» продление рабочего времени. ФАУД охарактеризовал конец выступления как «бесславный» и обвинил в таком исходе реформистские профсоюзы. После этой забастовки рабочее движение в Германии, по оценке анархо-синдикалистов, «достигло известной мертвой точки». Отдельные стачечные выступления еще продолжались, но это были уже отзвуки большой борьбы? [71]
ФАУД пытался оказывать помощь своим членам в ходе забастовок, локаутов и иных конфликтов. Размеры ее не должны были превышать сумму, соответствующую пятикратному еженедельному членскому взносу. В течение первых двух недель оказание поддержки целиком ложилось на местный союз, и лишь затем в случае необходимости можно было обратиться к своей отраслевой федерации (если и эти средства были исчерпаны, должен был последовать призыв Административной комиссии ко всем членам организации). Местные межпрофессиональные объединения обращались напрямую в комиссию. В отчете 11 конгрессу МАТ немецкие анархо-синдикалисты заявляли, что «до сих пор... в нормальные времена было всегда возможно оказывать в ходе конфликтов такую поддержку, что их никогда не приходилось прекращать или прерывать из-за нехватки финансовых средств». Значительную помощь оказывали также региональные рабочие биржи, которым нередко удавалось самостоятельно вести и финансировать конфликты с требоВаНИЯМИ повышения зарплаты, улучшения условий труда и т.д. [72]
В 1925 г. немецким рабочим удалось в основном добиться восстановления 8-часового рабочего дня. В связи с предстоявшими выборами в производственные СОВСТЫ на предприятиях ФАУД собрал I февраля 1925 г. специальную конференцию для определения своего отношения к ним. До тех пор ФАУД считал, что такие Советы должны выражать интересы только рабочих, и не участвовал в выборах в производственные Советы как официальные учреждения [7З]. Тем не менее участие в конкретных выборах, согласно решению конгресса ФАУД, оставалось на усмотрение членов организации на местах. Конференция не имела права изменять это решение. К тому же она выявила глубокие разногласия в движении. Представители Рейнской области и Вестфалии выступали за участие в выборах в официальные производственные Советы, делегаты Побережья, Верхней Силезии и Северной Баварии — категорически против. Конференция вынуждена была призвать сторонников обеих точек зрения к взаимной терпимости и постановить, что исключение отдельных члснов и организаций в связи с их участием либо неучастием в этих выборах не должно производиться [74].
В начале 1925 г. в ФАУД существовало пять отраслевых или профессиональных федераций — горняков, строителей, деревообделочников, металлистов, работников одежной промышленности и транспорта. Они охватывали примерно две трети всех местных союзов; остальные союзы существовали как межпрофессиональные объединения. На I февраля 1925 г. в ФАУД насчитывалось 375 местных союзов, которые объединяли около 25 тысяч членов. Иными словами, за период, прошедший после 14-го конгресса ФАУД в 1922 г., число членов организации сократилось почти втрое [75]. Одной из причин такого падения стала безработица, резко выросшая после начала стабилизации. «Были уволены сотни тысяч горняков, металлистов и работников смежных отраслей, — подчеркивалось в докладе ФАУД II конгрессу МАТ. — Они вынуждены влачить Жикое существование на минимальное пособие по безработице и думать не могут о том, чтобы дать хоть пфенниг на организационные нужды. Перед лицом такой ситуации понятно, что синдикалистское движение в Германии, как и все остальные, теряло членов» [76]. Следует отмстить, что ФАУД, следуя традиции европейского профсоюзного движения и в отличие, например, от южноамериканского рабочего движения, был основан на твердой и регулярной уплате членских взносов, которые составляли не менее 1% недельной зарплаты. Это ограничивало возможность безработных состоять в рядах ФАУД.
Оценивая положение немецких анархо-синдикалистов в период стабилизации (1924—1929 гг.), Вартенбсрг позднес писал: «Во внутриполитическом плане буржуазия одержала большую победу над пролетариатом, планы которого насчет непосредственного завоевания власти пришлось отложить надолго. Буржуазия... воспользовалась своей победой, ввела осадное положение, запретила революционные организации, продлила рабочий день и т.д. ФА УД был теперь ослаблен, его ориентация на «смертельный кризис» устарела. Следовало радикально переориентироваться; повседневная борьба за каждый пфенниг зарплаты, за каждые полчаса рабочего времени должна была теперь составлять практическую деятельность ФАУД. Только так можно было вновь прийти к массам», утверждал Вартенберг [77].
Подобно ему, значительная часть ведущих активистов ФАУД стала добиваться своего рода смены курса. Они предлагали отодвинуть на второй тан общую социально-революционную агитацию и сделать упор на практические вопросы повседневной борьбы за интересы трудящихся. Сюда относилось и участие в производственных Советах, обращение в суды по трудовым вопросам и т.д. «Главная причина упадка нашего движения... — писал, например, Эрнст Ригер, — в том, что мы упустили возможность переложить центр тяжести нашей деятельности именно на переплетение материальных интересов, а также на отпор реакционным, политическим или культурным атакам и посягательствам. Простой декламацией самых прекрасных и возвышенных идей анархизма нельзя ни помочь среднему рабочему, ни завоевать его интерес к нашему движению» [78].
Однако такой подход встретил существенное внутреннее сопротивление. Многие синдикалисты напоминали, что повседневные требования и борьба за них неотрывны от общей цели движения, и это необходимо постоянно подчеркивать.
Кризис сбыта является результатом капиталистической ориентации на удоњлетворение платежеспособного спроса, а не реальных потребностей людей, следствием умножения товаров и спекуляции ими, точно так же, как и проблемы, связанные с зарплатой и безработицей, писал старый синдикалист Карл Рохе. «Кризис сбыта, политика зарплаты и безработица — это силовые вопросы массовой борьбы, которые не могут быть решены за счет отодвигания социалистической конечной цели на задний план; их следует поднимать, объяснять и разрешать путем ликвидации капитала и государства» [79].
Хотя Роккер написал брошюру о повседневной борьбе «Борьба за повседневный хлеб» и многие вели подобную агитацию, «движенис не сделало из этого практические и тактические выводы, — сетовал позднее сторонник прагматической линии Вартенберг. «Во многих местах все еще пребывали в мире идей доктринеров из Всеобщего рабочего союза — Единая организация (ВРС-Е — левокоммунистическая организация сторонников беспартийных рабочих Советов, критически относившаяся к борьбе за частичные требования. — В.Д.) и т.д., которые называли борьбу за повседневный хлеб реформизмом. В других местах на словах высказывались за повседневную борьбу, но из боязни конфликта со сверхреволюционными критиками ничего не предпринимали в этом направлении. Многие товарищи хотели вести борьбу по вопросам зарплаты и рабочего времени, но не желали использовать те средства, которые обеспечивают синдикалистскому фабричному рабочему доверие его коллег: производственный совет, представительство перед судом по трудовым вопросам, переговоры по зарплате. Другие шли по этому пути, но не занимались систематическим просвещением приобретенных членов относительно принципов анархо-синдикализма» [80].
Из-за острых внутренних разногласий обсуждение спорных вопросов чаще всего заканчивалось промежуточными решениями. Так, вопрос о производственных советах стал одной из основных тем, обсуждавшихся на 15-м конгрессе ФАУД 1O—13 апреля 1925 г. в Дрездене. Делегат Метц из Дуйсбурга выступил с докладом о «нынешних задачах ФАУД», подчеркнув необходимость «завоевать массы». Спор на конгрессе закончился компромиссом. Вопрос был объявлен непринципиальным. Было решено, что те, кто считает нужным и вынужденным участвовать в таких выборах, могут делать это в порядке эксперимента и под свою ответственность. Делегаты конгресса приняли резолюцию по докладу Роккера «Принципиальная основа синдикализма и организационное устройство ФАУД», в которой подчеркивалось, что организация выступает против партий, в поддержку МАТ. В отношении других течений была подчеркнута полная организационная самостоятельность ФАУД, его отказ от заключения каких-либо блоков и картелей за счет принципов при одновременной готовности к сотрудничеству в конкретных действиях с другими рабочими организациями. Соответственно конгресс высказался против контролировавшейся коммунистами организации «Красная помощь», несмотря на участие в ней отдельных членов ФАУД. Делегаты приветствовали идею ежедневной газеты, но сознавали, что се издание невозможно. Конгресс признал синдикалистскую молодежь в качестве самостоятельной организации. Была принята резолюция о работе среди женщин. Конгресс поручил комиссии ФАУД подготовить справочник для агитаторов. Отдельное решение касалось активизации антимилитаристской работы: в соответствии с решениями 11 конгресса МАТ, в первое воскресенье августа 1925 г. должны были состояться антивоенные манифестации. Другие репрессии касались поощрения эсперанто, осуждения репрессий и протеста против приговора Сакко и Ванцетти в США [81].
Еще одним неразрешенным спорным вопросом в этот период стало распределение полномочий между отраслевыми федерациями и рабочими биржами. Эти глубинные расхождения выступили на поверхности в видс дебатов о том, какая структура ФАУД должна оказывать солидарную помощь в ходе стачек и увольнений. Конфликт разгорелся на конференции провинциальных и окружных рабочих бирж в Берлине 3—4 октября 1925 г., созванной для разработки единых действий «бирж» по всей стране. Большинство выступало за то, чтобы постепенно передать дело координации оказания помощи из рук федераций в руки рабочих бирж на местах и Административной комиссии, федерации строителей и металлистов возражали и требовали вынесения вопроса на конгресс ФАУД. Позднее, однако, конференция Федерации металлистов согласилась с принятым решением; упорствовало только руководство строителеи [82].
В 1925 г. ФАУД начал выпуск отраслевых газет строителей и металлистов, расширил издание газет транспортников и др. С учетом газет «Синдикалистской молодежи» и Берлинской рабочей биржи ФАУД, анархо-синдикалисты выпускали 4 еженедельника, 3 ежемесячника и т.д. Они принимали активное участие в новой волне стачек. Там, где пользовались определенным влиянием: среди кафельщиков в Берлине и Кельне, печников Берлина, строителей, движение происходило под моральным руководством ФАУД и с использованием синдикалистских методов удалось достичь повышения зарплаты и увеличения отпусков. Активизировал работу созданный по решению конгресса ФАУД Интернациональный комитет действий по пропаганде [83].
В некоторых местах члены ФАУД продолжали играть значительную роль в забастовочном движении. Например, в стачке на вагонной фабрике в Шёндорф—Дюссельдорфе в апреле 1925 г. из 800 бастовавших 120 были синдикалистами. Рабочим удалось добиться повышения зарплаты [84].
В ходе оборонительных стачек 1925 г. анархо-синдикалисты продолжали доказывать недостаточность и уязвимость частичных забастовок и пропагандировали всеобщую. Они активно участвовали в двухмесячной стачке 140 тысяч строитслей. Одна тысяча синдикалистов бастовала в Берлине, две тысячи — в провинции [85].
Определенную выгоду анархо-синдикалистам удалось извлечь из недовольства радикальных членов прокоммунистического «Союза работников физического и умственного труда» курсом их партийного руководства. КПГ в этот период форсировала присоединение своих рабочих организаций к СОЦИалдемократическим профсоюзам, что соответствовало официальной линии Профинтерна. В июне 1925 г. шахтеры из «Союза работников физического и умственного труда» жаловались в Москву на активизацию в этой связи пропагандистской работы синдикалистов. Так, после того, как в районе Дортмунда КПГ дала указания распустить местные группы союза и вступить в официальные профсоюзы, 28 июня на общем собрании группы из Харденберга с участием двухсот членов было принято решение присоединиться к ФАУД, а представителей коммунистов отказались слушать. Коммунисты опасались, что та же ситуация возникнет в округах Ванне и Херне, где сохранялось сильное влияние синдикалистов [86].
В молодежном анархо-синдикалистском движении в этот период шла острая борьба. Э. Фридрих, бывший лидер «Свободной молодежи» 1919 г., защищал культурную, образовательную и пацифистскую ориентацию. Пытаясь привлечь молодежь на свою сторону, он созвал весной 1924 г. «Международную антимилитаристскую встречу» в Лейпциге, отстаивал автономию молодежного движения, создание коммун и т.д. Его влияние удалось нейтрализовать, и конференция САМ в Ганновере (декабрь 1924 г.) подтвердила ориентацию на участие в повседневной массовой борьбе. Делегаты постановили, что в борьбе с государственным насилием допустимы любые средства, вплоть до вооруженной борьбы. В САМ насчитывалось в этот период 120— 180 местных групп с 2,5—3 тысячами членов; издавалась газета «Юнге Анархистсн» тиражом в 5 тысяч экземпляров [87].
В сентябре 1925 г. в САМ имелось 76 местных групп с 3—4 тысячами членовК8 . Газета выходила 4-тысячным тиражом. На пятой конференции в Эрфурте (24— 26 октября 1925 г.) были представлены 60 местных организаций, в которых состояла одна тысяча членов. Делегаты приняли декларацию принципов, в которой провозглашались массовая борьба, оппозиция против всех политических партий и реформистских профсоюзов. В документе подчеркивалась верность принципу организации (в противовес антиорганизационному индивидуализму), необходимость борьбы за повседневные интересы трудящихся. Одной из важнейших задач организации был объявлен антимилитаризм: «синдикалистская молодежь» заявляла, что защита революции дело народных масс, а не специальных военных организаций. Делегаты отклонили предложения докличика Хельмута Рюдигера о том, что члены организации должны по достижении 25 лет выйти из нее и вступить во «взрослую организацию» ФАУД, и о том, что в «Синдикалистской молодежи» могут состоять только члены ФАУД. Тем не менее была принята резолюция о поддержке ФАУД как отраслевой и территориальной организации и инструмента регулирования производства и обмена в будущем обществе. Были обсуждены также специфические задачи молодежи [89] прежде всего в области образования и культуры.
В начале 1926 г. провели забастовку ящичники Берлина (их союз, насчитывавший 500 членов, присоединился к ФАУД в 1923 г.). Конфликт был вызван действиями реформистских профсоюзов, которые попытались распространить на рабоч их условия тарифного договора, заключенного ими с предпринимателями. Добившиеся ранее в ходе упорной борьбы лучших условий синдикалисты вынуждены были объявить стачку и отстаивать свои условия. В тот же период к ФАУД присоединился союз строительных сметчиков Берлина [90].
В 1926 г. ФАУД, несмотря на принципиальное неучастие в государственной политике, принял решение принять участие в проводившемся референдуме о конфискации собственности бывших германских монархов и князей. Административная комиссия и большинство организаций выступили за такую позицию, часть местных организаций была решительно против, считая это нарушением традиционной линии анархо-синдикализма. На страницах газеты «Дер Синдикалист» шла острая дискуссия по этому вопросу [91]. Однако эти споры быстро закончились и не создали угрозы для единства движения.
В середине 20-х годов немецкая секция МАТ стала испытывать серьезные трудности. Почти две трети ее членов оказались без работы. ФАУД все шире участвовал в выборах в производственные Советы, местами добиваясь существенных успехов. Так, на шахтах Рура он получил в 1925 г. 1248 голосов, в 1926 г. — 1665 голосов. На фирме «Дортмундер унион» ФАУД собрал в 1926 г. 5070 голосов (1694), получив пять мест в производственном совете и одно место рабочего советника [92].
Деятельность ФАУД была сильно затруднена тем, что анархосиндикалисты с самого начала оказались в меньшинстве в рабочем движении Германии. Реформистские профсоюзы использовали практику тарифных соглашений, которые они нередко заключали за спиной рядовых трудящихся. Только признанные государством профсоюзы имели «право заключать тарифные соглашения с объединениями предпринимателей для всех трудящихся отрасли. По окончании срока тарифного контракта происходят переговоры между представителями самозваных рабочих профсоюзов и представителями объединений предпринимателей в присутствии государственного арбитра на предмет новых тарифов. В этих условиях (работники) почти всегда с самого начала исключены, поскольку реформистские профсоюзы заключают с хозяевами соглашения, в соответствии с которыми должны работать трудящиеся на предприятиях, даже если они не удовлетворены этими соглашениями. Переговоры почти всегда приводят к компромиссам между реформистами и хозяевами, но в общем выигрывают почти всегда хозяева. Если трудящиеся выступают против решения арбитража и начинают бастовать, их действие объявляется незаконным». Так описывали ситуацию немецкие анархо-синдикалисты [93].
С января по май 1927 г. продолжалась забастовка синдикалистских ленточников в Крефельде. Руководство реформистских профсоюзов заняло штрейкбрехерскую позицию, но активистам ФАУД, пользовавшимся существенным влиянием в рабочей среде, удалось привлечь к выступлению рядовых членов официального профсоюза. В результате был достигнут успех [94].
16-й конгресс ФАУД 25—28 мая 1927 г. в Мангейме обсудил вопросы об отношении к капиталистической рационализации (с докладом об этом выступил Роккер) и к социальному законодательству. Делегаты подчеркнули необходимость решительной борьбы с практикой государственного арбитража трудовых КОНфликтов; для выработки мер противодействия была образована специальная комиссия. Было решено также ввести взносы солидарности с жертвами реакции и упорядочить их взимание через местн ые рабочие биржи [95]. Что касается вопроса об оказании помощи при стачках и увольнениях, то — вопреки требованию части федерации строителей — конгресс подтвердил, что это должно быть задачей местных, окружных и провинциальных рабочих бирж в сотрудничестве с Административной комиссией.
Было решено приступить к изданию теоретического и дискуссионного органа — журнала «Ди Интернационале». Организация была официально переименована в «Свободный рабочий союз Германии (анархо-синдикалисты)» [96].
Сторонникам переориентации на борьбу за частичные требования не удалось добиться полного триумфа, и они были этим весьма недовольны. «...Тактические расхождения не нашли своего разрешения на конгрессах периода стабилизации (в Дрездене в 1925 г. и в Мангейме в 1927 г.) в том смысле, чтобы решительно вступить на какой-либо один из возможных путей.. с сожалением замечал Вартенберг. — Нет, устроились гораздо удобнее: Эти горящие тактические вопросы просто оставили в подвешенном состоянии, каждый мог решить для себя так или иначе. Из всех возможностей это, безусловно, была самая пагубная». Противоречия в собственных рядах создавали у людей впечатление дезориентации, сетовал он. Органы ФАУД с готовностью печатали мнения «за» и «против», но не было позиции организации в целом. «Нельзя, чтобы в течение многих месяцев или лет официально сосуществовали рядом два или три диаметрально противоположных мнения по вопросам производственных советов, участия в плебисците об экспроприации собственности князей, борьбы против фашизма и т.д.» Такая «терпимость» — это «не федерализм, это слабое тихое топтание», — полагал Вартенберг. Поскольку по вопросам тактики не удавалось найти решения, они оставались на заднем плане. Из всех брошюр, изданных до Дрезденского конгресса, только одна («Борьба за повседневный хлеб» Роккера) была посвящена актуальным тактическим вопросам; остальные были агитационными брошюрами (в значительной мере написанными еще до войны) и анархистской классикой. Между Дрезденским и Мангеймским съездом брошюр по тактическим вопросам вообще не было; лишь две брошюры были посвящены общим актуальным вопросам («Долой закон о халтуре», выпущенная Объединением левых издателей, и «Преступление юстиции в отношении автора этапа Гент»). В 1927 г. появилась брошюра Фрица Линова о трудовом праве. Позднее был издан доклад Роккера о рационализации. Долгое время больше не было ничего. Только осенью 1931 г. вышла новая брошюра по актуальной тематике, но вновь не о тактике, а об Испании.
Вартенберг сожалел, что ФАУД не участвовал в злободневных политических спорах и кампаниях, таких как скандалы, избрание Гинденбурга президентом, вопрос о князьях, судебные приговоры революционерам, локаут в Руре в 1928 г., вопрос о броненосцах, борьба с фашизмом. По его мнению, их следовало использовать для агитации, а не просто информировать и протестовать, полагая, как заявил Ф. Катер на Дрезденском съезде, что синдикалисты ничего об этом не говорят, потому что ничего нового сказать не могут и уже давно все сказали на сей счет. Напротив, было издано немало брошюр о проблемах свободной любви, сексуальности. задачах в отношениях человечества и т.д. Все это потому, что, «во-первых, было слишком мало интереса к тактическим проблемам», а «во-вторых, там, где он был, существовали различные мнения по этим проблемам». У организации не было «единой тактики», возмущался Вартенберг [97].
1 июля 1927 г. был введен в действие закон о судах по трудовым вопросам. ФАУД оказался не в состоянии защищать в них экономические интересы трудящихся, так как по своим статутам он был социально-революционной (то есть политической), а не экономической организацией. В 1928 г. Административная комиссия ФАУД предложила новые статуты, которые были одобрены референдумами профсоюзов. В них указывалось, что ФАУД защищает экономические, культурные, социальные и духовные интересы своих членов и может заключать тарифные соглашения [98].
В принципе ФАУД отвергал государственное трудовое законодательство, за которое активно выступали реформистские профсоюзы и социал-демократия. «Трудовое право, — писал Фриц Линов, считавшийся экспертом ФАУД по этим вопросам, — есть типичное детище капиталистической экономики и нацеленной на ее сохранение политики реформистских профсоюзов». Практика тарифных соглашений между предпринимателями и профсоюзами, обязательных для выполнения сторонами, связывает рабочим руки. Она превратилась «в учреждение, которое гарантирует экономике трудовой мир и сокращает нарушения равновесия до минимума». Он подчеркивал, что профсоюзы должны «вести борьбу за победу своих идей вне рамок господствующих правовых, политических и экономических воззрений». По словам Линова, трудовое право представляло собой «огромное препятствие» для работы профсоюзов во всех обЛаСТЯХ и на его место должна была прийти «беспрепятственная экономическая борьба рабочих» [99]. Он резко осуждал государственное вмешательство в социальной и трудовой сфере. Социальное законодательство в лучшем случае лишь «санкционирует то, что рабочие уже превратили в обычное право благодаря самопомощи»; фиксируя и консервируя эти завоевания, власть как бы определяет их «внешние пределы» и тем самым не дает трудящимся бороться за улучшение своего положения, сковывает их свободу движения. Сила рабочих — не в законах, а в мощи их организаций и в решимости вести борьбу, — подчеркивал Линов [100] . Наконец, государственныЙ арбитраж по трудовым вопросам представляет собой вмешательство в интересы профсоюзов и препятствует им проявлять свою мощь. Он «означает отказ от профсоюзной классовой борьбы» и интеграцию рабочих организаций в создаваемую государством систему «экономической демократии», которую Линов назвал «таким же бастардом, как и демократия Веймарской республики» о Линов [100] осудил новое, измененное законодательство по трудовым вопросам, принятое в Германии с июня 1927 г., как попытку отсеять любые нереформистские профсоюзы [102].
Но сам же Линов подчеркивал, что синдикалистам необходимо знать трудовое право и разбираться в нем. Уже в середине 1928 г. один из ведущих прагматиков Х. Рюдигер замечал, что «к счастью, теперь в наших рядах все больше практикуется» интерес к этим проблемам, и необходимо пытаться «с помощью функционеров, хорошо обученных в этих вопросах, оказывать помощь нашим членам в том, что касается их все более сужающихся прав... Мы можем и должны подобным поведением доказать массам, что умеем выполнять и эту необходимую часть профсоюзной работы, причем в конечном счете последовательнее и лучше, чем соответствующие институты центральных профсоюзовЫ [103]. Вскоре другой видный активист ФАУД Ригер призвал преодолеть «полностью ошибочное отрицательное отношение наших друзей к практическим воздействиям социального законодательства», учиться использовать в своих интересах «государственные учреждения органов социального страхования, юстиции и т.п. [104] Он выступил за то, чтобы «уже теперь» извлечь из них «любую возможную пользу для рабочего класса» и осущестњлять «маномерное и целенаправленное мияние на управление всеми этими учрежДениялш страхования» [105]. Наконец, уже в 1930 г. Ф. Линов возмущался на страницах журнала «Ди Интернационале» в связи с тем, что суды по трудовым вопросам препятствуют праву ФАУД представлять в них интересы трудящихся, брал под защиту заключение тарифных соглашений как тактический ход и заверял, что его организация намерена соблюдать заключенные коллективные договоры. Правда, он по-прежнему заявлял, что анархо-синдикалисты не признают государственного арбитража в трудовых конфликтах [106].
В начале 1928 г. во время крупной забастовки металлистов в Центральной Германии синдикалисты вновь резко критиковали действия официальных профсоюзов, назвав их «комедией классовой борьбыЫ [107]. В первой половине года ФАУД вел тяжелую забастовочную борьбу на некоторых производствах. Особенно продолжительным оказался конфликт с предпринимателями берлинских деревообделочников, особенно в индустрии производства роялей. Требования бьши выдвинуты реформистскими профсоюзами, однако ФАУД в течение нескольких месяцев проводил забастовку солидарности с рабочими, которые требовали повышения зарплаты [108].
В 1928 г. разгорелся конфликт в Федерации строителей ФАУД. Разногласия касались форм поддержки борьбы рабочих. Большинство выступило за то, чтобы финансовая поддержка оказывалась всем ФАУД через «биржи» и Административную комиссию, меньшинство полагало, что помощь должна оказываться только своей федерацией, как автономной. В результате федерация раскололась надвое. Одна из фракций, во главе с Марковым, осталась в ФАУД, другая, во главе с Бутом, вышла из него. Международная конференция синдикалистских строителей в октябре 1928 г. обязала их объединиться [109]». Однако конференция Федерации строителей ФАУД в мае 1930 г. так и не достигла договоренности об объединении [110] В итоге течение Бута—Лаунера откололось от ФАУД.
Еще один внутриорганизационный спор, хотя и не приведший к столь тяжелым последствиям, касался вопроса о полномочиях местных союзов. Согласно «Программной основе», местный союз мог отозвать состоявшего в нем функционера центрального ФАУД. Административная комиссия, обвиненная в нарушении основополагающего документа, пошла на созыв чрезвычайного конгресса в Лейпциге 6—8 апреля 1928 г. Делегаты признали факт нарушения, но постановили изменить «Программную основу». Отныне отзывать то или иное избранное лицо мог только избравший его орган, то есть в данном случае конгресс ФАУД [111].
В 1929 г. ФАУД удалось удержать свои позиции, но никакого прогресса достигнуто не было. Анархо-синдикалистам приходилось бороться с беспощадной экономической рационализацией, с безработицей и с политикой официальных профсоюзов. Жизненный уровень трудящихся падал, и социальное недовольство прорывалось в форме «диких» забастовок (не санкционированных официальными профсоюзами). ФАУД усилил пропаганду прямого действия. Однако реформистам удалось сдержать забастовочную волну с помощью государственного арбитража и судов. Они договаривались с предпринимателями об игнорировании организаций ФАУД на предприятиях. Чтобы добиться возможности защищать своих членов в судах по трудовым вопросам, ФАУД пошел на следующий шаг (сомнительный, с точки зрения анархо-синдикалистских идей): он обратился с жалобой в высшие судебные инстанции государства.
ФАУД продолжал активную пропагандистскую работу. Он издавал газету «Дер Синдикалист», теоретический журнал «Ди Интернационале», органы отраслевых федераций и отдельных окружных рабочих бирж:
С конца 1920-х годов в ФАУД велись интенсивные дискуссии по вопросу о так называемом «конструктивном социализме». Это выражение должно было «составлять противоположность по отношению к чисто негативному, критическому социализму, общественной критике... — пояснял Вартенберг. — Люди не хотят все разрушать, не зная, что поставить на место старого общества, но желали бы иметь как можно более точную картину будущих учреждений и норм» [113].
Лейтмотивом сторонников «конструктивного социализма» было порицание «устаревших» и «катастрофических» представлений о революции. «Слово "революция" — утверждал, например, Рюдигер, — в устах многих синдикалистов приобретает почти мистическое звучание. Древнейшие хилиастические надежды на внезапное наступление нового времени еще живут во всех нас как остатки религиозных воззрений». Новый общественный организм должен будет возникнуть еще в недрах старого и содержать в себе еще незрелые зачатки будущей развитой формы [114].
Приверженцы «конструктивного» подхода уверяли, что «задачи либертарного движения не могут исчерпываться лишь голым пропагандистским противопоставлением государственно-эксплуататорской реальности и либертарно-социалистического будущего». В противовес преобладавшему в первые годы существования ФАУД предстањлению о преимущественно «культурно-революционной» и идейной роли анархо-синдикализма, они выступали против того, чтобы «ограничиваться первоначально только формированием социалистически мыслящих людей» с помощью «длительной критики капитализма и провозглашения наших принципов» [115]. На практике речь шла о том, как можно привлечь к себе трудящихся не только с помощью отрицания существующего строя, но и с помощью позитивной программы сегодняшней борьбы и создания нового общества в будущем. Это побуждало синдикалистов более внимательно относиться к проблемам будущего общественного устройства и подготовки к нему трудящихся.
Согласно представлениям немецких синдикалистов, хозяйственная организация социалистического общества не должна была быть простой копией существующей. «Между экономикой капитализма и социализма существует разительное различие, — писал Райнхольд Буш. — И поскольку мы, анархо-синдикалисты, не являемся фанатиками ”диалектического" развития, то не верим и в сказку о том, что социализм и его экономика с неизбежной необходимостью разовьются из капитализма и его структуры» [116]. В основу социалистического хозяйства следовало положить совершенно иной принцип: ориентацию не на изњтечение максимальной прибыли, а на наиболее полное удовлетворение потребностей людей. Прежде всего, это подразумевало глубокое изменение самой экономической структуры. Задолго до экологического движения немецкие анархо-синдикалисты ПРИШЛИ к выводу о том, что значительная часть экономики является в действительности не нужной людям, как они говорили, «паразитической». С их точки зрения, она обслуживает не действительные потребности простого человека, а исключительно интересы поддержания существующей системы. Сюда относились, к примеру, военная промышленность, крупные ирригационные сооружения и т.д. Рост такой сферы, предупреждали некоторые синдикалисты, может быть пагубен для сохранения жизни. «Основа может выдержать известную долю паразитов без того, чтобы разрушительные воздействия стали заметны слишком быстро, — писал, например, Отто Эбштайн из Берлина, обличавший фордистскую рационализацию американской промышленности как «паразитическую». — Но если паразиты слишком сильно умножаются, основа попадает под удар и разрушается»!
Соответственно уже в рамках «конструктивных задач сегодняшнего дня» следовало не только пропагандировать и вести стачки за повышение зарплаты, сокращение рабочего времени и т.д., но и ставить вопрос об ответственности производителя, о смысле и цели производства и той шли иной трудовой деятельности: бойкотировать фирмы, производящие некачественную, вредную или ненужную продукцию, в том числе военную, химическую и иную, отказываться от работы на строительстве тюрем и дворцов, использовать практику «профсоюзного ярлыка», с помощью которого рабочие сигнализировали потребителям о качестве и смысле того или иного изделия, пропагандировать «ответственное производство и потребление» и т.д. П8 Ханс Бекманн добавлял, что следует шире использовать такие формы, как «ответственное производство» и бойкот в сельском хозяйстве [119].
В рамках вопроса о «конструктивном социализме» более интенсивно стал пропагандироваться лозунг рабочего контроля. Он был включен в традиционное первомайское воззвание ФАУД в 1929 г. (наряду с требованиями сокращения рабочего времени и введения единой шкалы зарплаты). О рабочем контроле теперь говорили в плане постепенной подготовки работника к взятию на себя ответственности за производство. «Эта ответственность, — писал Рюдигер, — может быть внутренне и внешне завоевана лишь шаг за шагом, путем все более глубокого проникновения революционных рабочих в экономический механизм, что должно иметь СЛИСТВИем влияние на экономику в соответствии с требованиями преобразования в сторону социализма» по. В подобных, хотя и осторожно сформулированных, высказываниях могли содержаться и зерна будущего реформизма. Однако выдвигаемые социал-демократией идеи «экономической демократии», то есть влияния рабочих на ход капиталистического производства», все же отвергались бОЛЬШИНством анархо-синдикалистов, поскольку они предполагали социальное партнерство между трудом и капиталом и «принципиальное согласие с экономическими основами капитала» [121]. Иная ситуация, по мнению синдикалистов, должна была возникнуть после революции, когда управление производством перешло бы в руки рабочих и производственных Советов, экономика и управление ею с отпадением всех рыночных функций и расчетов упростились бы и было бы осуществлено предлагавшееся Кропоткиным преодоление индустриального разделения труда.
В попытке расширить социальную базу движения некоторые анархо-синдикалисты стали призывать к разработке «синдикалистской аграрной программы», чтобы найти пути привлечения крестьянства [122]. При этом одни из анархо-синдикалистов утверждали, что крестьян — в отличие от сельскохозяйственных рабочих — привлечь в синдикаты будет невозможно в силу того, что они являются собственниками, консерваторами и противниками классовои борьбы. «Единственное, чего мы можем достичь, — заявлял, например, Вартенберг, — это удержать сельских хозяев от активной контрреволюционной деятельности, сказав им, что мы не желаем их ”экспроприировать”, боремся против их эксплуатации финансовым капиталом, приветствуем их кооперативы... и после революции хотим по возможности удовлетворить их пожелания». В то же самое время он призывал поддерживать создание производственных сельскохозяйственных кооперативов как «предварительной ступени к социализму» [123]
Тем не менее предпринимались попытки поставить вопрос о работе в деревне с точки зрения «конструктивного социализма». Так, Бекманн предлагал создавать социалистические «конструктивные кооперативы» и превратить их в «бастион против капиталистических картелей», в «связующее звено между городом и деревней», средство объединения сельскохозяйственных рабочих и трудящихся крестьян. При социализме лишь эксперимент и практическое развитие покажут, какие отрасли сельского хозяйства можно и следует социализировать, писал он, настаивая на принципе предоставления всем желающим «права на землю» в таком количестве, которое они смогут обработать силами своей семьи. Бекманн звал к привлечению крестьян к делу социальной революции с помощью их привлечения в кооперативы [124]. «Поскольку... картели и монополии так же будут вредить мелким и средним крестьянам, как когда-то тресты и концерны уничтожали ремесло, собственно говоря, будет нс слишком трудно привлечь большую часть крестьянства к социалистическим стремлениям производства и потребления» [125] Бекманн предлагал также приступить к покупке земельных участков, организовать рабочий банк для финансирования крестьянских хозяйств, учредить потребительские кооперативы, а затем подумать и о создании рабочих предприятии [126]
Призыв к работе с крестьянами, страдающими от давления со стороны финансового капитала, выдвинул также Вартенберг. Он называл такие возможности, как «устранение торговцев путем прямого обмена между сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, удешевление производства с помощью объединения в кооперативы по совместному использованию... техники при соответствующем соединении земельных участков, просвещение крестьян относительно роли капитала и буржуазных партий, борьба с любым пугалом ”экспроприации”, улучшение школьного образования... на селе и т.п..
Обсуждался и вопрос о производственной кооперации в промышленности. Так, журнал «Ди Интернационале» опубликовал в дискуссионном порядке статью У. Рата, который выдвинул идею покупки трудящимися обанкротившихся предприятий и фирм, которые производят пользующуюся спросом и нужную для населения продукцию. Он допускал при этом взятие ими средств в долг с последующим расчетом из выручки, полученной с реализации продукции. С сго точки зрения, рабочим следовало уже сейчас повсеместно создавать общества по изучению «своих» предприятий и возможности их приобретения [128]. Однако такие предложения не встретили понимания у большинства немецких анархо-синдикалистов. Редакция журнала в своем комментарии не только подчеркнула необходимость равной зарплаты для всех работников таких рабочих кооперативных предприятий, но и напомнила о неизбежном противодействии со стороны других предпринимателей и о задаче одновременного оформления потребительских кооперативов [129]. «Нереализуемым» и «несоциалистическим» назвал проект Рата Вартенберг, предсказавший неминуемый крах подобных кооперативных предприятий и их интеграцию в капиталистическую экономику. В то же самое время, отрицая возможность того, что путь постепенного выкупа фабрик и заводов ведет к социализму, он указывал на «воспитательную ценность» таких экспериментов [130]. Примерно в том же духе высказались Рюдигер и Бекманн. Последний оценил «сегодняшние конструктивные попытки и социалистические эксперименты» как «работу по подготовке к практическому строительству, как практическое изучение возможности социализма» [130]. Сочтя критику Вартенберга в адрес «экспериментального» социализма «односторонней», Бскманн выдвинул план создания кооперативов, которые, начав с организации потребления, занялись бы снабжением сельскохозяйственными продуктами и налаживанием связей с крестьянством, переходя затем к производственным вопросам [132]. Таким образом, можно было бы, по его мнению, вернуться к старой идее Прудона о «сельскохозяйственно-промышленной федерации», противостоящей капитализму [133].
В другом проекте Ф. Фишера предусматривалось образование потребительских и «социальных» производственных кооперативов; они не должны были ориентироваться на получение прибыли, а их члены должны были состоять в ФАУД и получать равную зарплату [134].
В ФАУД существовал ряд небольших потребительских кооперативов. Некоторые группы в ФАУД (в Гёппингене, Магдебурге и т.д.) выступали с предложениями по организации производственного кооперативного движения. 16 июля 1929 г. члены местных групп из Крефельда-Оппума, Бохума и Линна образовали кооператив под названием «Свободная экономическая рабочая биржа». Эта потребительская ассоциация работала на неприбыльной основе, за счет взносов членов, сбывала товары по себестоимости и стремилась осуществлять закупки на основе наличного расчета или прямого обмена [135].
Другие сторонники «конструктивного социализма» отвергали широкие кооперативные проекты как фантастические [136]. К попыткам «осуществления социалистических принципов в небольших масштабах при капитализме» применимо скорее понятие не «конструктивного», а «экспериментального социализма», писал Вартенберг. Не возражая против социалистических производственных и поселенческих экспериментов в принципе, он утверждал, что они в долгосрочной перспективе не жизнеспособны, не конкурентоспособны и легко превращаются в капиталистические. В лучшем случае такие проекты могут существовать, если не [137].
«Конструктивные социалисты» ставили вопрос о постоянной работе над «планом социальной реорганизации», о такой форме синдикалистской организации, которая была бы подготовлена к выполнению задач строительства нового общества, о превращении органов ФАУД в «рабочие группы» по изучению экономики и возможностей ее преобразования [138]. Так, Рюдигер доказывал, что синдикалистское движение должно «сильнее, чем прежде, подчеркивать свой производственный характер», окончательно преодолеть остатки профессиональной организации и перейти к организации строго отраслевой [139].
Рюдигер призывал к систематическому исследованию предприятий на предмет их производственных возможностей и к выявлению потребностей через рабочие биржи, к обсуждению этих вопросов на собрания ФАУД, собирать снизу статистику, разрабатывать потребительскую кооперацию и т.д. Металлисты Тюрингии в подготовленном ими документе указывали на то, что необходимо способствовать пониманию задач «децентрализации производства и возрождения радости труда в новой трудовой единице», «изучению и совершенствованию методов производства, которые соединяли бы максимальную экономию трудозатрат с максимальным производственным богатством», созданию комиссий по изучению возможности преобразования процесса производства «на основе определяемых через Трудовые биржи потребностей и потребительских нужд вольных коммун, объединяющихся в федерации в масштабе общества». Рабочие призывали к «проверке производства предприятий на предмет их социальной полезности и производственно-технической взаимосвязи многих предприятий в производственном организме», составлению и изучению статистики относительно производственных возможностей отдельных предприятий, потребностей в сырье, средствах производства, рабочей силе и рабочем времени [140].
Подобные предложения, на первый взгляд, вполне соответствовали анархо-коммунистическим представлениям. Но некоторые из сторонников «конструктивного социализма» стали пропагандировать пересмотр ряда основных положений анархистского коммунизма. Тот же Рюдигер, назвав идею ничем не ограниченного потреблсния «безумной» и вполне обоснованно предлагая определить его реальную «верхнюю границу», выдвигал в качестве регулятора деньги. При капитализме, заявлял он, деньги приобрели «антисоциальные и эксплуататорские» формы; в плановой же социалистической экономике, по его мнению, им предстояло играть роль «средства измерения» [141].
В конце 1929 — начале 1930 г. дискуссионный журнал ФАУД «Ди Интернационале» публиковал обширный материал «автономного социалиста» Штирна. Автор предисловия к публикации Ягер выступил с резкими нападками на «преодоленный» им анархистский коммунизм, назвав его «противоречащим самому себe» [142]. С точки зрения самого Штирна, анархистский вариант «целостного коммунизма» был всего лишь демократическим «ростом капитализма», ведущим к концентрации капитала и обнищанию масс. Средства производства, по его мысли, следовало передать не обществу в целом, а отдельным общинам и сообществам. В экономике «социалистического» общества должны были продолжать действовать рыночные по существу принципы рентабельности и обмена [143] Что касается распределения, то Штирн объявлял принцип «от каждого по способностям, каждому по его потребностям» невозможным. При этом он повторял все старые, опровергнутые еще Кропоткиным аргументы: об эгоизме и лености работника, о том, что производство первично по отношению к потреблению, о необходимости материального стимулирования, нерентабельности коммунистического производства и т.д. [144]. Автор предлагал вернуться при социализме к принципу оплаты труда, выдавая каждому работнику квитанции на сумму, эквивалентную стоимости произведенных им товаров, то есть введя некую форму денег. В его схеме предусматривались также банковские и кредитные институты, хозяйственный плюрализм, в котором существовали как индивидуалистические, так и коммунистичсские или смешанные элементы, предприятия и службы [145].
Комментируя публикацию, редакция, возглавлявшаяся Рюдигсром, сочла нужным подчеркнуть: «Представленные идеи лежат в общем русле нашего движения (враждебности авторитету и приверженности социализму), однако частично сильно отклоняются от известной как коммунистический анархизм позиции, неоднократно подвергнутой критике и в нашем журнале» [146]. Вартенберг оспаривал мысль о противоречии между обществом в целом и общиной, однако подтверждал идею «плюрализма» при анархизме, с сосуществованием «рядом друг с другом многих ”обществ”», практически не связанных между собой. «Почему бы коллективизму не существовать рядом с коммунизмом и автономизмом, если во всех этих системах нет эксплуатации?» — спрашивал он. Не соглашаясь далее с тезисами о лености человека, его исконном нежелании трудиться и о невозможности анархистского коммунизма, он в то же самое время допускал, что люди изменятся еще не скоро и потому будет необходим переходный период. «Мы должны предположить, — писал он, — что непосредственно после социальной революции, в переходный период, который сегодня признает, наверное, всякий разумный революционер, потребуются определенные принудительные мсрьк демократического характера. Но этот период, который не будет знать конкуренции, эксплуатации, буржуазной прессы, кино, в коем выступают почти что одни графы, этот период окажет значительное воспитательное влияние на человека, которое еще усилится хорошо проводимым воспитанием молодежи». В это время понадобится известное ограничение потребления с рационированием ряда продуктов и сохранением некоторых коллективистских принципов [147]. И хотя предложения о банках и особой денежной системе он отверг, как и вообще модель «автономистского социализма», Вартенберг по существу эволюционировал от традиционной анархистской концепции революции к марксистской. Классический анархизм исходил из того, что люди еще в условиях капитализма смогут в ходе борьбы осознать не только то, против чего они выступают, но и обрести новую культуру, новую систему ценностей, новос сознание, а потому не потребуется никакого особого «переходного периода» после революции. Новый взгляд исходил из предположения, что к моменту революции трудовое население еще не станет достаточно сознательным и развитым для осознанного коммунистического творчества и потребуется этап его «самовоспитания». Но именно этим и обосновывали марксисты представление о переходной «воспитательной диктатуре». Анархистский «ревизионизм» отвергал диктатуру, но признавал «воспитательный переход». Оставался вопрос, кто же будет заниматься таким «воспитанием», но ответа на него не было.
Разумеется, не все анархо-синдикалисты Германии разделяли такие представления. Не случайно в том же журнале «Ди Интернационалс» была опубликована статья жившего в Берлине индийского анархиста М. Ачарьи, который отстаивал и защищал анархокоммунистические принципы. «Единственный строй, который может прийти на место нынешней и всех дурно устроенных систем, — это руководство производством со стороны самих потребителей с целью равного потребления продуктов, — писал индийский революционер. — Это влечет за собой разрушение государства и любой формы частной собственности...; далее возможно создание независимых местных коммунальных сдиниц, в которых каждый член общества равен всем ОСТИЬНЫМ и представляет сам себя, вместо того чтобы передоверять представительство [своих интересов] другому лицу... Труд, а не деньги станут масштабом человечности... Сотрудничество может и должно осуществляться не через посредство обмена, а только путем совместного расчета производства и соответствующего распределения продуктов различными общинами». Внутри федерации таких коммун «не может быть никакого вопроса о ценах, никакого обмена и подобных сложностей». Ачарья предлагал «статистическую службу для различных соединенных друг с другом коммун», которая, используя самые современные технические средства, могла бы получать и передавать каждой коммуне информацию о том, «сколько благ могли бы быть потреблены в отдельных общинах». Во всех остальных вопросах каждая коммуна могла бы действовать и существовать совершенно автономно, в духе разнообразия и гармонии, обеспечивая свободное передвижение людей, свободу в семейных и брачных отношениях, уход за детьми и воспитание их. Объединение коммун заменило бы собой государство, не нуждаясь в специальном управленческом, полицейском, карательном или дипломатическом механизме [148].
В связи с разработкой «конструктивных» проблем стал подниматься вопрос о союзниках или попутчиках синдикалистов в революции. Традиционные представления революционного синдикализма предусматривали перенесение его формы организации на все общество. Теперь же Рюдигер утверждал, что «было бы неверно предполагать... что синдикалистская организация как таковая возьмет на себя задачи строительства [нового] и моментально превратится, так сказать, в организацию труда всей страны». Он рассчитывал теперь на то, что «в ходе революционного развития» это движение сможет в духовном смысле «задавать тон» [149]. О «переходном времени от революции к социализму» упоминал и Р. Буш [150].
Стали раздаваться призывы к пересмотру и некоторых других идейно-теоретических взглядов анархо-синдикализма. К примеру, говорилось о том, что с переходом к новой военной технике прежние антимилитаристские призывы к отказу от производства оружия более нереалистичны, равно как и распространенные ранее в ФАУД симпатии к ненасилию и гандистским методам [151]. Другие возрапротив пересмотра традиционно негативного отношения к «работе на военные нужды» [152]. Не все члены ФАУД были согласны и с самой ориентацией на «конструктивный социализм». Так, ветеран синдикалистского движения Карл Рохе, возражая Рюдигеру, видел основные текущие задачи синдикализма в ведении «психологической борьбы за социально-революционное сознание у трудящихся» и в массовой борьбе анархосиндикалистских организаций. Рохе настаивал на том, что человек, сознание, культура и система ценностей которого находятся в плену буржуазного общества, не в состоянии ни бороться за свои права, ни создать новое свободное общество. Люди все еще слишком пассивны, повинуются централизму и опеке, государству и порядку. «...Нам нужно изменить людей, ведь иное состояние и иной строй экономики и общества предполагают иных людей». Поэтому он считал, что со старым сознанием экспериментирование бессмысленно. «Что мы должны предпринять сегодня из конструктивного социализма? Противопоставить производственные кооперативы трестам? Или выступать с потребительскими кооперативами против концернов-универмагов?» — спрашивал Рохе. По его мнению, анархо-синдикалистское движение должно было прежде всего ставить цели культурно-революционные, способствуя становлению нового, свободного сознания и новых ценностей [153].
Отношения ФАУД с «Синдикалистско-анархистской молодежью» — по мере все большей ориентации ФАУД на борьбу за повседневные экономические требования — заметно охладели. Наиболее активные сторонники ФАУД были исключены из административного органа САМ — Информационного бюро. 6-я конференция молодежной организации в декабре 1926 г. закрепила «новое самовосприятие САМ как образовательного сообщества и анархо-синдикалистской организации массовой борьбы». Иными словами, САМ не собиралась отказываться от культурной и идейной работы с целью распространения новых общественных ценностей. Конференция отказалась считать обязательными для молодежной организации решения конгрессов ФАУД. После этого сторонники «взрослого» анархо-синдикалистского союза создали весной 1927 г. в Рейнско-Вестфальской области и Тюрингии самостоятельную «Анархо-синдикалистскую молодежную федерацик)». Однако в 1928 г. напряженность несколько сгладилась. В САМ насчитывалось теперь лишь 46 групп с 300—500 членами. Седьмая конференция в декабре 1928 г. предотвратила окончательный раскол молодежного анархо-синдикалистского движения и высказалась за дальнейшее организационное включение в рабочие биржи ФАУД и признание Декларации принципов «взрослой» организации. С 1930 г. представители САМ участвовали с совещательным голосом в работе Административного комитета ФАУД [154].
Франция: долгий путь к Революционно-синдикалистской ВКТ
В 1922 г. французские анархо-синдикалисты остались в меньшинстве на конгрессе Унитарной Всеобщей конфедерации труда (УВКТ) в Сент-Этьенне; победу одержал блок коммунистов и синдикалистов. Но первые признаки неустойчивости Сент-Этьеннского большинства проявились уже в декабре 1922 — январе 1923 г., когда в Эссене была созвана международная рабочая конференция для обсуждения Рурского кризиса. Часть членов Исполнительной комиссии потребовала пригласить на нее также сторонников МАТ из Германии и Франции, а также германские профсоюзы, но эта идея была отвергнута [155]. Во Франции У ВКТ образовала Комитет действий для организации сопротивления против франко-бельгийской оккупации Рура, пригласив в него представителей ФКП и Анархистского союза последние не приняли
В марте 1923 г. Национальный комитет конфедерации 75 голосами против 22 ратифицировал вступление в Профинтерн [157]. Участники, за исиючением анархо-синдикалистов, высказались за создание единого рабочего фронта «нe только снизу» [158].
Но Сент-Этьеннское большинство уже начало распадаться. Неожиданно для себя активисты КСЗ и другие оппозиционеры получили поддержку в лице фракции Луи Оскара Фроссара, занимавшего до осени 1922 г. пост генерального секретаря ФКП, но в 1923 г. покинувшего партию. Позднее эта группа оформилась как Социалистический коммунистический союз (в 1924 г. большинство членов примкнуло к Социалистической партии). Фроссар печатал синдикалистов на страницах издаваемой им газеты «Эгалитэ», резко критиковал ФКП и защищал принцип независимости профсоюзов от партии [159].
Сторонники большей независимости У ВКТ от ФКП потребовали включения представителей течения Фроссара и анархистов в Комитет действия. Большинство в Исполнительной комиссии отвергло это требование, заявив, что входить в упомянутый орган могут лишь «регулярно конституированные партии». В марте l923 г. Национальный совет конфедерации постановил пригласить в комитет членов Союза анархистов и организации Фроссара (после ее официального конституирования) [160]. Через несколько месяцев, однако, анархисты покинули комитет, протестуя против «расширения (его) комптенеции» [161].
Многие синдикалисты, прежде поддержавшие присоединение к Профинтерну, спохватились, когда ФКП приступила к широкой организации собственных профсоюзных ячеек. Представитель ФСдерации строитслсй Брутшу выдвинул проект резолюции, который рассматривал эти организации как форму подчинения У ВК Т компартии. На заседании Исполнительной комиссии конфедерации 23 марта 1923 г. эта резолюция была отклонена 12 голосами против шести. Однако дискуссия в У ВКТ нс утихала. Коммунист Семар выдвинул текст, в котором доказывалось, что деятельность профсоюзных комиссий является внутренним вопросом ФКП и профсоюзы не должны, в свою очередь, вмешиваться в дела партии. Появился также проект резолюции, выдвинутый лидером почтовиков Лартигом. В нем содержался призыв к единству конфедерации, но решительно отстаивался принцип полной независимости профсоюзов от любых партий или сект [162]
Наиболее непримиримо выступал против коммунистического влияния Комитет синдикалистской защиты. 11 апреля 1923 г. на его заседании была принята резолюция с осуждением действий коммунистов. Французских синдикалистов возмутило то, что председатель Коминтерна Зиновьев, выступая на IV конгрессе Коминтерна, осудил забастовку в Гавре, а французский профцентр Унитарная ВКТ нс выступил против этого. Коммунисты осудили также стачки в Бельфорс и Периге. Из ФКП были ИСкЛЮчены члены, не выполнившие указаний профсоюзного руководства. КСЗ обвинил большинство У ВКТ в сектантстве. Было принято решение об объединении всех сил, полных РEШИМОСТИ «спасти синдикализм», образовать «Комитет единства» и подготовить конгресс синдикалистов. КСЗ высказался за восстановленис единства ВК Т на основе «Амьснской хартии» и постановил принять все меры для того, чтобы фабричные Советы сохранили свой первоначальный характер профсоюзной ячейки, а не превращались в орудие компартии [163]
Другим центром сопротивления коммунистическому влиянию в профсоюзном движении стали союзы строительных рабочих. Федерация работников строительства и общественных работ Франции, объединявшая 30—32 тысячи рабочих, не спешила присоединиться к создававшемуся в рамках Профинтерна «Интернационалу строительных рабочих» и добивалась от Москвы ответа на такие вопросы, как обеспечение национальной и интернациональной независимости профсоюзного движения, ведение пропаганды за сокращение рабочего времени как мерз по смягчению безработицы, борьба за 8-часовой рабочий день, проблема эмиграции рабочей силы и создания международного членского билета, возможность создания «рабочих гильдий» (акционерных товариществ под контролем профсоюзов). Федерация не была удовлетворена ответом Профинтерна в области обеспечения независимости профсоюзов. Ее Национальный комитет дал мандат делегатам на Берлинском конгрессе МАТ 1922 г. «создать Интернационал строителей, включающий все национальные организации, не входящие в Амстердам» и стоящие на почве пассовой борьбы. Федерация предлагала провести международный конгресс с этой целью в марте 1923 г. [164]. Она вела активную работу среди трудящихся других национальностей, пыталась привлечь в свои ряды итальянских рабочих во Франции. Ведение соответствующей агитации в Парижском районе, департаменте Мёрт и Мозель и на Севере страны было поручено старому итальянскому железнодорожнику-антифашисту. Предпринимались попытки развернуть работу среди металлистов и маляров [165].
В 1923 г. общее собрание членов объединенного профсоюза строительных рабочих департаментов Сены официально высказалось против любой связи с партиями, за верность принципам революционного синдикализма и прямого действия. Профсоюз заявил, что выступает за «чисто синдикалистский Интернационал» [166].
Сторонники Лартига оформили свое собственное течение — «Революционно-синдикалистскис группы» (РСГ). Однако оппозиция оставалась расколотой. Бенар возлагал ответственность за кризис синдикалистского движения на РСГ, критикуя их за позицию на Сент-Этьеннском съезде и отказ объединиться с КСЗ [167].
Тем не менее позиции коммунистов в конфедерации к лету 1923 г. существенно пошатнулись. Федерация строителей резко атаковала политику ФКП. Большинство профсоюзов государственных служащих (особенно служащие мэрий), союз рабочих по одежде и федерация почтовиков, которые на конгрессе в Сент-Этьенне поддерживали Профинтерн, теперь перешли на сторону оппозиции. В поддержку ее высказались и двое секретарей У ВКТ — Мари Гюйо и Казаль. «Коалиция анархистов и сопротивленцев успешно пошла вперед, — бил тревогу Монмуссо в письме Лозовскому от 11 июля 1923 г. — Однородности Исполнительной комиссии и Конфедерального бюро больше не существует, и весьма возможно, что на Национальном совете 22 и 23 июля мы окажемся в меньшинстве по весьма весомому вопросу, касающемуся отношений У ВКТ с Коммунистической партией и Профинтерном». Он высказывал опассния, что анархо-синдикалистам удастся «утвердиться в руководстве У ВКТ, чтобы повернуть се в сторону БЕРЛИНА», то есть МАГ [168]. В борьбе с противниками коммунисты не останавливались даже перед тем, чтобы обличать Бенара, Барта и их сторонников как масонов [169].
На июльском заседании Национального совета У ВКТ оппозиция (КСЗ и РСГ) выступила единым блоком, но потерпела поражение. За резолюцию Семара проголосовали 19 отраслевых и профессиональных федераций и 40 департаментских союзов, за резолюцию Гюйо—Лартига 1 федераций и 26 союзов. Девять членов Исполнительной комиссии и два члена Конфедерального бюро подали в отставку в знак протеста. Испугавшись несвоевременного раскола, большинство под давлением Федерации строителей согласилось созвать внеочередной конгресс У ВКТ, на котором предстояло окончательно решить вопрос о профсоюзных комиссиях ФКП и членстве в Профинтерне [170]. Период между июльским Национальным советом и конгрессом У ВКТ в ноябре 1923 г. стал временем острейшей внутренней борьбы ТСНдеНЦИЙ.
В преддверии его КСЗ предложил РСГ провести официальные переговоры с целью объединения революционных синдикалистов. Однако единственная состоявшаяся встреча закончилась провалом: выработать общую платформу для совместных действий не удалось. Стороны смогли договориться лишь о принципиальной необходимости «уважения и защиты нсзависимости и самостоятельности синдикализма во французском профсоюзном движении» [171].
За год анархо-синдикалистам не удалось существенно укрепить свое влияние. На чрезвычайном съезде У ВКТ в Бурже в ноябре 1923 г. было 973 сторонника компартии, 147 КСЗ и 122 — РСГ. Большинство одобрило политику руководства и подчинение компартии [172]. Предложение о присоединении к Берлинскому Интернационалу было отклонено: за Профинтерн было подано 962 голоса, за Берлин — 219 голосов [173]. Фракция КСЗ ушла из зала заседаний, но в итоге раскол был предотвращен [174]. Большая часть синдикалистского меньшинства предпочла не покидать У ВКТ, что, как признал Бенар, было серьезной ошибкой [175]. Синдикалистский блок распался на части.
Теперь Бенар стал искать сближения со «старой» ВКТ. В конце 1923 — начале 1924 г. он обратился к своим друзьям в руководстве этого профцентра, предложив объединение на почве признания «Амьенской хартии» и прав меньшинств. Такое объединение должно было вначале состояться на местном и отраслевом уровнях, а потом следовало организовать конгресс. 14 января 1924 г. предложение было официально передано Административной комиссии ВКТ. 14 февраля оно было отклонено. Однако Бенар продолжал усилия с тем, чтобы договориться. В феврале он выдвинул новые предложсния об объединении, включая независимость синдикализма от любых группировок и присоединение к тому Интернационалу, который согласится с этими принципами. В частной переписке он допускал возможность того, что объединенные профсоюзы присоединятся к Амстердамскому Интернационалу как «более сильному» [176]
Объясняя свою позицию, Бенар писал в журнале МАТ: «Объединение синдикалистских сил УВКТ с теми, кто в настоящий момент находятся вне ее, и с обеими ВКТ не только позволило бы французскому синдикализму возобновить свое развитие, как было до войны, но и в известной мере позволило бы справиться с коммунистической партией. Это было бы, без сомнения, лучшим средством избежать установления со временем подлинной диктатуры, вернуть нашему движению его изначальный и традиционный характер...» Он избегал дать публичный ответ на вопрос, к какому международному объединению могли бы примкнуть в этом случае французские профсоюзы, но заверял товарищей по МАТ: «Что касается меня, то я сделаю невозможное для того, чтобы восторжествовала точка зрения МАТ (КСЗ) — единственного подлинного революционного синдикалистского Интернационала» [177]
После конгресса в Бурже коммунисты, пользуясь расколом среди синдикалистов, смогли наконец перейти в решающее наступление на оппозицию в УВКТ.
В декабре 1923 г. сторонники ФКП добились решения о присоединении к Профинтерну на конгрессе Союза профсоюзов Сены; возражения Годо и анархистов были отклонены [178]. Национальный совет У ВКТ весной 1924 г. ознаменовался новым ослаблением позиций синдикалистов [179].
Во время одного из собраний в Париже 1 января 1924 г. сторонники компартии напали на синдикалистов-строителей, убили двух человек и 20 ранили. Это вызвало бурю негодования среди синдикалистов, но все еще не побудило их окончательно порвать с прокоммунистическими профсоюзами. Встреча представителей Парижа и провинции на похоронах убитых сопровождалась разногласиями. Строители Сены и синдикат мясников предложили создать новое общенациональное объединение профсоюзов, другие призывали остаться в У ВКТ или вступить в ВКТ. Часть синдикалистов желала объединить ВКТ и У ВКТ. Недовольные профсоюзы стали покидать У ВКТ и становились автономными. Так, 20 января 1924 г. объединенный профсоюз строителей Сены вышел из конфедерации и потребовал, чтобы вся федерация строителей сделали то же самое [180]. 27 января 1924 г. Всеобщий рабочий союз Верхнего Эльзаса объявил о выходе из У ВК Т и присоединении к МАТ [181]. Этот союз был учрежден в 1922 г. на заседании местного союза профсоюзов Мюлуза и включал главным образом революционно настроенных рабочих-металлистов, исключенных реформистским руководством Союза металлистов ВКТ. В него входили преобладавшие в нем анархисты и некоторые коммунисты, которые, впрочем, порвали с ФКП после IV конгресса Коминтерна (тогда же местная коммунистическая молодежная организация преобразовалась в «Синдикалистскую молодежь» [182].
Недовольство многих рядовых рабочих вызывала и безуспешная тактика коммунистов во время забастовок: подобно реформистам, они пытались подменить стачки солидарности финансовой поддержкой [183]. Таким образом потерпели неудачу забастовки в Сент-Этьснне и выступления текстильщиков в Роанне. Бенар видел в этом нежелание лидеров У ВКТ и компартии поддерживать частичные забастовки [184].
Острое противоборство между ФКП и синдикалистами происходило среди почтовиков и металлистов. Лидер федерации почтовиков Лартиг занимал пост секретаря синдикалистского меньшинства У ВК Т и превратил профессиональный печатный орган в ведущее издание оппозиции. Он резко нападал на коммунистов, обвиняя их в стремлении подчинить себе профсоюзы, активно сотрудничал в анархистской газете «Лё Либертэр». В то же самое время Лартиг заявлял о намерении бороться за единство У ВКТ. Но положение его группы в федерации было непрочным. На момент конгресса У ВКТ в Бурже ее поддерживали 27 профсоюзов из 55, СИЕ (в Страсбурге) выступал с позиций, близких к еще более радикальной Федерации строителеи [185].
Ареной борьбы тенденций стали конгрессы делегатов с фабрик, проведенные металлистами в началс 1924 г. В Париже синдикалисты потерпели поражение и покинули форум. Зато они смогли взять реванш в Лионе, где конгресс был созван по инициативе автономных профсоюзов, близких к анархо-синдикализму. Столкнувшись с неблагоприятным для себя соотношением сил, сторонники ФКП ушли с конгресса [186].
Коммунисты сосредоточили все силы на попытках разгромить своих противников в У ВК Т. Атаки, как информировал Профинтерн 4 июня 1924 г. секретарь Центральной профсоюзной комиссии ФКП Анри Гурдо, направлялись в первую очередь против федераций строителей и работников почт и телеграфа. Опорой этих действий служили профсоюзные комиссии компартии и поддерживаемое ими прокоммунистическое меньшинство. В Федерации строительных рабочих коммунистам и их сторонникам удалось сдержать стремление к автономии и соответствующую активность Федерального бюро; объединенный профсоюз строителей Сены подчинЬлся федерации, упорное сопротивление оказывали лишь каменщики и плотники. В объединении почтовиков ФКП смогла после упорной борьбы добиться большинства на конгрессе федерации, оттеснив группу Лартига (102 делегата против 80). Анархо-синдикалистское течение среди работников почты «разъединено, растеряно, но еще не мертво», — сообщал Гурдо. Коммунисты завоевали большинство в объединениях профсоюзов Алжира, департаментов Шаранта, Крёз, Кот д'Ор, позднее подчинили союзы в Воклюзе, Од, Иль и Вилен, Кот-дюНор и Вьенне, федерацию гражданского персонала военной проМЫШЛеННОСТИ. В департаменте Рона они стремились разрушить «любой зародыш сскции МАТ во Франции». В Гаврс коммунисты сломили сопротивление металлистов во главе с Кенелем и Лё-Кийерником. В целом, подытоживал секретарь Центральной комиссии, ФКП удалось разбить движение за автономию почти всюду, где оно проявилось [187].
В лагере самих синдикалистов шла борьба МСЖДУ «автономистами» — сторонниками создания самостоятельных синдикалистских профсоюзов [188] и теми, кто выступал за объединение всех французских профсоюзов на основе нейтрального синдикализма. Железнодорожники в Северной Франции угрожали выйти из ВКТ и УВКТ, если те до 15 октября не восстановят единство профдвижения. Против руководства У ВКТ выступили 25 профсоюзов Бретани, металлисты Роны и др. [189]. ЦК Революционно-синдикалистского меньшинства У ВКТ (РСГ) осудил идею «автономистов» и принял резолюцию за объединение профсоюзов на национальном (ВКТ и У ВКТ) и международном уровнях (Амстердамского Интернационала, Профинтерна и МАТ) [190]. «Мы очень хорошо знаем, что столь желанное единство достижимо в рамках старой ВКТ», — писал 30 авкуста 1924 г. в «Лё Либертэр» один из лидеров синдикалистской оппозиции Жув. Представитель Федерации строителей У ВКТ Фейссанье также высказался в поддержку этой идеи. Но анархо-синдикалисты среди строителей склонялись к «автономии» [191].
Ощутимый удар по лозунгу объединения с ВКТ нанесли события во время забастовки моряков в Гавре в августе 1924 г. Всеобщую стачку объявил автономный профсоюз после того, как предприниматели отклонили его требование о повышении зарплаты. Анархисты и их газета «Лё Либертэр» вели энергичную кампанию в поддержку выступления, приветствуя его независимый от партий характер. Но очень скоро бастующим пришлось столкнуться с тем, что профсоюзные лидеры, близкие к ВКТ, не желают присоединяться к забастовке. Анархисты призвали к поименному голосованико моряков на всех судах; в ходе демонстраций разгневанных моряков перед профсоюзной штаб-квартирой произошли столкнонения. В поддержку стачки выступили моряки Нанта и Сен-Назера. Забастовка завершилась через 23 дня частичной победой, которую «Лё Либертэр» приветствовала как успех стратегии автономии профсоюзов [192].
6 октября 1924 Г. ЦК революционно-синдикалистского [193]. Mеньшинства вынужден был объявить о создании Комитета связи революционных синдикалистов. Со своей стороны, П. Бенар заявил в тот же день в интервью «Лё Либертэр»: «Поскольку единство всех профсоюзов невозможно, создадим третью ВКТ » [194];
Тем временем коммунистам уже удалось взять под контроль большинство региональных союзов и отраслевых федераций У ВКТ 194 . К октябрю 1924 г. они завладели руководством Союза профсоюзов департамента Буш-дю-Рон (с центром в Марселе). В соседнем с Парижем департаменте Сена и Марна большая часть профсоюзов оказалась в руках сторонников компартии. В департаменте Луара (центр — Сент-Этьенн) после упорной и продолжительной борьбы в сентябре — ноябре 1924 г. победа досталась коммунистам большинством в 9 голосов. Федерация стекольщиков осудила анархо-синдикалистов [195].
Все более утрачивая позиции в У ВКТ, синдикалисты стали призывать профсоюзы и входящих в движение анархистов покинуть конфедерацию и объявить себя автономными. Лидер гонфедерации Монмуссо сообщал в Профинтерн ноября 1924 г.: «В настоящее время анархо-синдикалистские силы состоят из сотни профсоюзов по всей стране...» [196]. Оплотом синдикалистской оппозиции внутри УВКТ оставались Федерация строителей и Союз профсоюзов департамента Рона (центр — Лион). В объединении строителей коммунистическое меньшинство стремилось всеми силами помешать принятию решения о выходе из конфедерации [197].
В октябре 1924 г. из УВКТ окончательно вышел объединенный синдикат строителей, возмущенный тем, что ФКП и руководство УВКТ взяли под защиту убийцу рабочих-строителей [198]. Острая борьба в федерации закончилась поражением коммунистов. Их исключили из секций маляров, слесарей, каменщиков и столяров объединенного синдиката строителей, а цементники, художественные работники по камню и помощники решили остаться в УВКТ. 30 октября синдикат организовал большой митинг в здании Биржи труда. 31 октября собрался Национальный совет Федерации строителей, за заседанием которого с большим вниманием следило все французское профсоюзное движение. Вопреки возражениям землекопов Сены и других приверженцев сохранения единства, совет проголосовал за выход федерации из УВКТ с 1 января 1925 г. [199].
Союз профсоюзов департамента Рона также изгнал из своих рядов союзы, поддерживавшие компартию ( металлистов, трам вайщиков Лиона). 19 ноября 1924 г. департаментский союз официально проголосовал за выход из У ВКТ [200].
1—2 ноября 1924 г. на конференции революционного меньшинства в Париже было провозглашено создание «Федеративного союза автономных профсоюзов Франции» (ФСАП). На ней были представлены Федерация строителей, 4 департаментских союза У ВКТ, 2 автономных департаментских союза, 186 профсоюзов УВКТ, 16 автономных профсоюзов, 19 фракций меньшинства и «Синдикалистская молодежь» [201]. Участники приняли решение отделиться от УВКТ, создать объединение на основе синдикализма, закрепленного в «Амьенской хартии», развернуть деятельность по всей стране, установив взаимодействие между профсоюзами снизу. Они провозгласили целью синдикализма «уничтожение капитализма и наемног рабства». Был принят манифест к рабочему классу и создана Временная комиссия для осуществления решений в составе 12 человек [202]. Однако создание объединения еще носило временный характер. За немедленное образование общенациональной организации, входящей в МАТ, высказались только Бенар и Люсьен Юар, но они не были услышаны. Федерация строителей, поддерживавшая идею нового профцентра, вообще не вошла во ФСАП [203]. Делегаты конференции действовали как бы против воли, под давлением обстоятельств. Они боялись, что новая общенациональная профорганизация не сможет сохранить независимость от политических движений, но попадет под влияние анархизма. Один из делегатов, сам принадлежащий к анархистам и синдикалистам, заявил, что он против создания нового профцентра, поскольку его сочли бы анархистским и поскольку для такой организации не нашлось бы партнеров в международном масштабе (при этом он со всей очевидностью игнорировал существование МАТ). Другой признался, что опасается возникновения новой анархистской тенденции, в ответ на что присутствовавшие анархисты успокоили его заявлением, что анархизм — «это всего лишь мораль». «Никто из присутствовавших анархистских делегатов не счел необходимым протестовать против такого извращенного определения политического Движения, к которому они принадлежали...» — возмущался секретарь МАТ Шапиро [204].
ФСАП возглавил созданный на конференции временный исполком; секретарем по международным связям был избран Бенар. Он оценивал примерное число членов профсоюзов ФСАП в 50 тысяч человек. Федерация развернула более или менее успешную пропаганду прежде всего в департаментах Рона, Буш-дю-Рон, Жиронда, Финистер и в Парижском регионе [205]. При этом лидеры по-прежнему ориентировались на достижение «профсоюзного единства». В отчете II конгрессу МАТ Бенар подчеркивал перспективы объединения Амстердамского Интернационала и Профинтерна, ВКТ и УВКТ и заявлял, что «под угрозой исчезновения с поверхности» синдикалисты не могут оставаться в стороне от объединительных усилий и переговоров. Он высказывался за участие в объединенном конгрессе ВКТ. Бенар поставил перед Административным бюро МАТ вопрос, не следует ли и аНаРХО-СИНдикалистскому Интернационалу присоединиться к создаваемому единому мировому профсоюзному Интернационалу [206].
Одновременно с конференцией меньшинства прошла конференция Анархистского союза. Французские анархисты работали в различных профсоюзах, как входивших в ВКТ и УВКТ, так и в автономных. Конференция высказалась за независимость профсоюзов от политических партий. Делегаты постановили ввести обязательные членские взносы и расширить «Инициативный комитет» союза с тем, чтобы в нем были представлены все части страны [207].
После создания ФСАП его активисты призвали рабочих покинуть ряды УВКТ и примкнуть к автономным профсоюзам. Но успехи этой агитации во многих отраслях оказывались весьма скромными. Так, из федерации кожевников вышло всего 250 человек. В федерации горняков руководство распустило два небол ЬШИХ союза в Луаре, кроме того, из нее ВЫШСЛ в 1924 г. крупный профсоюз шиферных рабочих Трелазе с 500 членами, но в нем сохранялось коммунистическое меньшинство. Существенные потери из-за ухода анархосиндикалистов понесли федерации керамиков и стекольщиков УВКТ [208].
На конференции Федеративого союза в июне 1925 г. было вновь подтверждено стремление к объединению всех профсоюзов на основе «Амьенской хартии», хотя и оговаривалось, что если это намерение все же не удастся, то необходимо будет создать самостоятельный профцентр, уже нe на временной, а на постоянной основе [209] июля Бенар был избран генеральным секретарем Федеративного союза.
27 июня 1926 г. конференция независимых профсоюзов в Париже высказалась за присоединение к МАТ. Этот вопрос обсуждался и Федерацией строительных рабочих. ФСАП и Федерация строителей договорились о проведении объединительного конгресса в октябре, на который пригласили и все другие революционно-синдикалистские организации [210]. 13—14 ноября 1926 г. национальный конгресс Федерации строителей в Лионс принял решение присоединиться к проводимому 15—16 ноября в Лионе конгрессу ФСАП [211] . Конгресс Федерации строителей констатировал неудачу прежних попыток достичь объединения с федерациями строителей ВКТ и У ВКТ и постановил вступить в создаваемый революционно-синдикалистский Интернационал строительных рабочих. За это предложение голосовали 54 профсоюза, — против и З воздержались [212].
На объединительном съезде революционных синдикалистов в Лионе были представлены 89 местных профсоюзов, в особенности из района Лиона, Федерация строителей и Союз профсоюзов департаментов Сены [213] В них входило в общей сложности около 15 тысяч трудящихся [214] Главным был вопрос о создании новой профсоюзной конфедерации. Высказанные мнения существенно расходились. Так, делегат электриков Роны Гарро выступил за учреждение соверШеННО новой организации, которая бы «ни в чем не напоминала другие ВКТ» и даже имела бы совершенно другое название. Представитель металлургов Сены Гиги предлагал временно сохранить Федерацию автономных профсоюзов, заявив, что время для новой конфедерации было упущено 2 года назад, а теперь для этого недостаточно сил. Бастиен от автономных синдикатов Амьена заявил даже, что конфедерация вообще не нужна, поскольку является бюрократической структурой. Напротив, делегаты Клеман (трубочники Сен- Клода), Ретцон (металлисты Лиона), Буассон (Федерация строителей), Буду (строители Парижа), Л. Юар (обувщики Парижа) и другие отвергли пессимизм и представление о ненужности объединения и настоятельно потребовали учредить наконец новую ВКТ. В итоге 84 голосами против трех при двух воздержавшихся была принята резолюция о создании такой революционносиндикалистской организации. В ней указывалось, что как ВКТ, так и УВКТ окончательно отказались от синдикализма, систематически изгоняют из своих рядов тех, кто не согласен с «диктатурой буржуазной социал-демократии» или компартии, и органически нe способны достичь единства. В то же время автономия профсоюзов, «избранная в качестве временной меры шля активизации осуществления единства», оказалась недостаточной. Поэтому, говорилось в решении конгресса, назрела настоятельная необходимость «срочно объединить в одной организации» революционно-синдикалистские элементы, рассеянные по всей стране, создать «национальную организацию», связанную с аналогичными синдикальными движениями в других странах. Эта «иная ВКТ, основанная на революционно-синдикалистских, федералистских и антиэтатистских прин«свободная, автономная и независимая от всех других группировок», провозглашала себя «продолжением довоенной ВКТ». Она была призвана «объединить в своих рядах всех трудящихся, сознающих классовую борьбу» и стать центром притяжения для ныне автономных синдикатов. Что касается проблемы единства рабочего движения, то делегаты конгресса высказались за единство действий на профессиональной основе, то есть за возможность сотрудничества с «другими ВКТ» (но не с политическими партиями) в борьбе за непосредственные интересы трудящихся (8-часовой рабочий день, повышение зарплаты и т.д.), и за участие в «любом подлинном революционном действии». Однако они категорически отвергли возможность организационного объединения пролетариата, пока нс наступит «крах... партий и тех ВКТ, которые служат их придатком». Организация получила название Революционно-синдикалистской Всеобщей конфедерации труда (РСВКТ).
Конгресс утвердил статуты РСВКТ: против голосовали только автономные синдикаты Амьена, покинувшие форум, и металлисты Парижа. Цель конфедерации состояла в том, чтобы «объединить на специфически экономической почве всех наемных работников для защиты их материальных и моральных интересов» и «путем классовой борьбы достичь освобождения трудящихся, которое может быть осуществлено только посредством полного преобразования существующего общества». Такое преобразование, указывалось в документе, предполагает «устранение предпринимательства, ликвидацию наемного труда и исчезновение государства».
Согласно уставным документам, базовыми организациями конфедерации являлись местные союзы, отраслевые синдикаты, фабричные Советы и цеховые комитеты. Они объединялись затем в региональные союзы (всех профессий) и федерации отраслевых синдикатов. Эти федерации носили чисто технический характер, на конгрессах могли быть представлены только местные союзы. Высшим органом РСВКТ был объявлен конгресс, проводимый раз в два года. Административным органом между конгрессами становился Национальный конфедеральный комитет (собрание представителей от всех региональных союзов), а в перерывах между его заседаниями — Административная комиссия, созданная на основе региона, в котором размещалась штаб-квартира конфедерации. В качестве технического органа связи предусматривалось образуемое конгрессом Бюро в составе двух секретарей. Образовывались также контрольная и конфликтная комиссии.
По предложению Бенара конгресс одобрил Манифест революционного синдикализма, в котором повторялась мысль Амьснской хартии о «двойной роли» синдикализма: органа сопротивления в существующем обществе и органа производства и распределения в будущем, основы социального преобразования. Подчеркивалась необходимость объединить в рамках синдикатов работников не только физического, но и умственного труда, включая техников и ученых.
В манифесте указывалось, что пролетариат должен «стремиться к тому, чтобы свергнуть нынешний режим и сделать невозможным захват власти политическими партиями». Он осудил не только существующий строй, но и фашизм, который вместо действительного решения социального вопроса «стремится использовать профсоюзное движение путем приспособления его к своим особым политическим воззрениям». «Новые условия жизни народов являются делом творческих производительных сил, которые способствуют прогрессу путем соединения физического и умственного труда, техники и науки, объединенных в общий организационный план», — говорилось в документе. Согласно представлениям французских анархо-синдикалистов, синдикализму предстояло с самого начала революции «взять в свои руки руководство производством и управление социальной жизнью». Соответственно организация синдикалистского движения должна быть уже сейчас приспособлена к этой задаче производства и распределения благ и готовить ее осуществление. В манифесте подчеркивалось, что РСВКТ «должна быть исключительно классовой организацией», стоящей «вне партий» и «в оппозиции к ним». Ей предстоит «разрушить привилегии», «достичь социального равенства», «вытеснить предпринимательство» и ликвидировать систему индивидуального и коллективного наемного труда. РСВКТ отвергала идею классового сотрудничества и участие рабочих совместно с предпринимателями и государством в органах, обсуждающих хозяйственные вопросы.
Впервые в истории Франции синдикалистская организация открыто и принципиально отвергла в принятой «Лионской хартии» нейтральность профсоюзов в отношении партий и потребовала ликвидации государства. В этом состояло радикальное отличие РС ВКТ от довоенного революционного синдикализма.
Целями РСВКТ были провозглашены: изъятие у государства и капитала «всех возможностей действия» путем овладения РСВКТ средствами производства и обмена и изгнания нынешних собственников; защита пролетарских завоеваний, позволяющих «обеспечить существование нового порядка», поддерживать работу аппарата производства и обмена между городом и деревней, сократив время простоя в момент революции к минимуму; замсна подлежащей разрушению государственной власти «разумной, федералистской организацией» производства, обмена и распределения. В качестве немедленных задач в манифесте были названы сокращение рабочего времени и повышение заработной платы. Указывалось, что синдикализм стремится к «профсоюзному контролю на предприятиях, созданию производственных Советов в мастерских, на предприятиях, в бюро, на стройплощадках и т.д.». Среди других важных моментов было решение о «реконституировании «Синдикалистской молодежи» под эгидой PC BKT» [215].
Единогласно было решено вступить в МАТ. Секретарем организации был избран Л.Юар, представителем в Административном бюро МАТ — Пьер Бенар. Штаб-квартира РС ВКТ была установлена в Лионе [216].
Что касается борьбы за повседневные нужды трудящихся, то РСВКТ «подняла на щит все старые требования рабочих: зарплату, право на коалиции для иностранных рабочих, рабочий контроль, ответственность предпринимателя при несчастных случаях, единую зарплату, защиту труда и, наконец, вопрос о снижении рабочего времени», то есть о введении 6-часового рабочего дня [217].
Однако революционные синдикалисты Франции слишком долго тянули с созданием собственной организации. В результате они упустили время, позволили укрепиться социалистическим и коммунистичсским профсоюзам. Немалое число потенциальных сторонников революционного синдикализма, разочарованные организационным хаосом и нерешительностью, совсем отошли от движения.
Многие анархисты и анархо-синдикалисты, состоявшие в УВКТ или в автономных профсоюзах, встретили создание РС ВКТ без энтузиазма. Они продолжали следовать револ юционно-синдикалистской идее профсоюзного единства и считали новую организацию слишком политической. даже далеко не все участники Федеративного союза поддержали решение о создании РСВКТ. На Лионском конгрессе против выступили такие влиятельные активисты, как Бастиен из автономных профсоюзов Амьена, Альбер Гиги из Союза металлистов Парижа, Ле Пен из единого профсоюза строителей и т.д. В некоторых городах сохранились автономные профсоюзы. Так, в Лиможе, где под сильным влиянием анархистов находились союзы работников керамической, обувной, мебельной и одежной промышленности, был создан Союз автономных профсоюзов, просуществовавший до 1936 г., когда он объединился с ВКТ. Другие автономные союзы присоединились к ВКТ или УВКТ [218].
Первоочередной организационной задачей РСВКТ было добиться присоединения множества остававшихся независимых профсоюзов. В конце 1926 г. о присоединении к ней заявили 14 профсоюзов в Южной Франции общей численностью более 1 150 человек: профсоюз обойщиков и декораторов (150 членов), профсоюз сельскохозяйственных рабочих Перпиньяна (400 членов), профсоюз сельскохозяйственных рабочих Нарбонна (300), профсоюз работников одежной промышленности Роны (1 20), межпрофессиональнос объединение в Тулузе (30), профсоюз служащих торговли овощами и фруктами (1 50), профсоюз работников транспорта и складского дела в Лионе (150), профсоюз рабочих кожевенной промышленности Лиона (20), рабочие сланцевых карьеров Мизенгрена (50), дубильщики и кожевники Гренобля (30), обойщики и декораторы Гренобля (90), профсоюз столяров Гренобля (50), межпрофессиональный союз в Туре (30), профсоюз рабочих-красильщиков Сент-Этьенна (100), обойщики и декораторы Треву (25). Ожидалось создание новых профсоюзов сельскохозяйственных рабочих и их федерации на Юге. Кроме того, к РСВКТ присоединились межпрофессиональный союз промышленных рабочих Юин-Льетара, профсоюз металлистов Парижа. В конце декабря 1926 г. был создан Региональный союз революционно-синдикалистских профсоюзов Парижа. В РСВКТ действовали федерации строителей, металлистов, кожевников, древесных рабочих. Начал выходить печатный орган конфедерации — газета «Лё Комба сандикалист». Организации удалось укрепиться в Лионе. Она проводила акции против безработицы, издала обращение к рабочим за 6-часовой рабочий день и 38-часовую рабочую неделю как средство борьбы с безработицей, готовя соответствующую кампанию к 1 мая 1927 г. Коммунисты проявили крайнюю враждебность в отношении нового профобъединения. Между ними и его сторонниками неоднократно вспыхивали столкновения [219]. В здании Биржи труда Лиона было совершено нападение на анархо-синдикалистов, те ответили силой на силу. В Марселе подвергся атаке секретарь регионального союза РСВКТ [220].
Первые успехи длились недолго. Очень быстро наступил спад. Ряды РСВКТ стали таять, чему способствовал и рост безработицы. В 1927 г. организация находилась в состоянии финансового и организационного кризиса. «Взносы поступали весьма скудно, и некоторые товарищи проявляли весьма мало интереса к новой оргаНИЗаЦИИ, поскольку нс желали признать ее жизнеспособность, так оценивал положение Юар, выступая на [221] конгрессе МАТ в 1928 г. — Из-за нехватки средств на некоторое время пришлось [в августе 1927 г.] приостановить издание органа движения «Лё Комба сандикалист»; уже через два месяца после создания новая национальная организация была вынуждена упразднить пост одного из двух оплачиваемых секретарей. В сентябре 1927 г. положение стало настолько критическим, что и второй, единственный секретарь уже не мог получать свою зарплату». «Связи между местными организациями и РСВКТ становились все слабее. В декабре 1927 г. можно было думать, что РСВ КТ осталось жить всего лишь несколько недель», — говорилось в отчете конфедерации конгрессу [222].
Кризис удалось в какой-то степени преодолеть с помощью МАТ. Увеличилось число людей, попросивших выдать им членские билеты на 1928 г. ВКТ и У ВКТ явно не собирались объединяться, что отрезвило некоторых сторонников «профсоюзного единства». Удалось возобновить выпуск газеты, создать ряд небольших новых местных синдикатов (в Безье, Бордо, Нуаян-лаГравуаер и Анжерс), межпрофессиональных союзов (в Улэне, Виёрбанне, Сент-Этьснне, Бедариё, Ла-Бастиде) и провести два пропагандистских турне, в том числе по Южной Франции. В Лионе коммунисты опять попытались напасть на синдикалистов, но были отражсны [223].
К лету 1928 г. положение РСВКТ несколько стабилизировалось, хотя оставалось далеко не блестящим.
«Взносы поступают более регулярно, — сообщал Юар. — Мы получаем одобрение из всех частей Франции и даже из колоний, и независимые профсоюзы таюке поворачиваются к нам» [224]. Действовали отраслевые федерации строителей и парикмахеров. Шахтеры имели два местных синдиката общей численностью в 600 членов. Готовњлось образование еще двух федераций — металлистов и лесной промышленности. Имелось четыре региональных союза (в районе Парижа, Бордо, Альби и Лиона) и планировалось создание еще одного — в области Брстани-Анжу. Регулярно выходила газета, распространению которой способствовали «группы друзей газеты» в Лионс, Сент-Этьенне, Безье, Тулузе и Перпиньяне [225].
Всего в РСВКТ состоял 81 местный синдикат, главным образом на Югс и в таких крупных городах, как Париж, Лион, Сент-Этьенн, Безье, Псрпиньян, Тулуза, Альби, Бордо, Нант, Анжер, Руан, Гавр, Ренн, Клермон-Ферран и т.д. В Северной и Восточной Франции анархо-синдикалистский профцентр не имел приверженцев. Готовилось создание региональной федерации в Алжире. Всего на 1928 г. было выдано 7503 членских билета и 31 568 марок для уплаты взносов [226].
Тем не менее РСВКТ осталась маленьким и не очень влиятельным профсоюзом. Она была меньше, чем в момент создания в 1926 г. Особенно сильные потери конфедерация понесла среди строителей.
Существовали проблемы и во взаимоотношениях между французским анархо-синдикалистским движением и испанскими анархистскими эмигрантами, которые нашли убежище во Франции во время диктатуры Примо де Риверы. Испанцы принимали активное участие в создании организаций РС ВКТ. Так, в одном из тулузских синдикатов из 30 членов было только двое французов, остальные члены были испанцами. Испанские синдикалистские секции, созданные НКТ, должны были входить и в РСВКТ. Французские анархо-синдикалисты были недовольны наличием параллельных организаций и настаивали на том, чтобы в их стране было только одно синдикалистское профобъединение [227].
Испанские эмигрантские организации обвиняли в возникших проблемах французскую сторону. «...Среди товарищей из РСВКТ существовали некоторые сомнения насчет неудобств, которые могли возникнуть для них вследствие образования наших отделений, — говорилось в отчете испанской эмиграции III конгрессу МАТ. — Подозрения, с известной злостностью высказывавшиеся некоторыми элементами, привели к тому, что сердечные отношения между французскими товарищами и нами были нарушены». С тем чтобы «покончить с выдвинутыми баснями» и показать, что испанцы не заинтересованы в «национальном синдикализме», они приняли участис в конференции РСВКТ, которая состоялась в августе 1927 г. в Лионе. На ней они объяснили, что считают создание собственных секций необходимым для сохранения «бунтарского духа» среди испанских трудящихся во Франции и поддержания связи между ними и синдикалистской организацией Испании, а также высказали свои претензии [228]. Участники конференции РС ВКТ предложили испанским товарищам распустить свои секции и влиться непосредственно в их страновую конфедерацию, пообещав взамен прямое представительство в ее органах [229]. Однако испанцы настаивали на сохранении своих структур.
Каждый, кто хотел вступить в секции, должен был сперва стать членом организации РСВКТ. Созданные ячейки устанавливали контакты с Административным комитетом РСВКТ, чтобы по согласованию с ним образовать синдикаты. Однако, жаловались эмигранты, к ним относились как к «подозрительным элементам», комитет не реагировал на них «с должной серьезностью» и не цснил их инициативы. Они сетовали на то, что РСВКТ не предоставляет им пропагандистский материал, чем сильно затрудняет работу испанских эмигрантских групп, которые «могут полагаться лишь на собственные усилия» [230].
2-й конгресс РСВКТ состоялся в Лионе в ноябре 1928 г. К этому времени были созданы три новые отраслевые федерации, так что на момент съезда их насчитывалось пять: строителей, парикмахеров, металлистов, рабочих по древесине, кожевников. Конгресс подтвердил требование 6-часового рабочего дня, особенно перед лицом капиталистической рационализации экономики. Было принято также решение о международных взносах РСВКТ в МАТ. Создание Международного фонда солидарности МАТ вызвало трудности во Франции, поскольку там уже существовал «комитет взаимопомощи». Кроме того, было решено перенести штаб-квартиру РСВКТ из Лиона в Париж [231].
РСВКТ критиковала социальную политику Французского государства. Она осудила закон о больничных кассах (поддержанный реформистскими профсоюзами), считая эту меру социального страхования недостаточной. Конфедерация заявляла, что она в принципе — за оплачиваемые отпуска по болезни и всеобщее социальное страхование, но считала, что взносы должны платить не трудящиеся, а предприниматели и государство [232]. Во второй половине 1929 г. и в 1930 г. велась интенсивная пропаганда против введения этого закона. Но попытки синдикалистов поднять широкие массы трудящихся на акции против закона не увенчались успехом [233].
Конференция РСВКТ осенью 1929 г. осудила принудительные взносы по социальному страхованию. Она призвала трудящихся не участвовать в больничных кассах и требовать повышения зарплаты, чтобы компенсировать взносы. Делегаты приняли также решение об улучшении пропагандистской работы организации: «Комба сандикалист» должна была теперь издаваться еженедельно и быть лучше в качественном отношении, посылаемые организацией пропагандисты должны были дольше, совершая турне, задерживаться на одном месте. Было постановлено организовать забастовочный фонд в виде местных самоупрашшющихся касс солидарности, куда каждый член должн был ежемесячно уплачивать свой взнос [234].
РСВКТ предпринимала попытки привлечь анархистов к работе в анархо-синдикалистских профсоюзах. В 1929 г. Бенар обратился к французским анархистам с открытым письмом, призвав их покинуть ВКТ и вступить в РСВКТ. В конце 1929 — начале 1930 г. в различных анархистских газетах страны началась дискуссия об отношении анархистов к существовавшим профсоюзным организациям. В статье, опубликованной в еженедельнике «Ла Вуа либертэр», который издавал Себастьян Фор, Юар подчеркнул, что если анархисты говорят нет классовому сотрудничеству с капитализмом, сохранению государства и диктатуре, то они не могут «принадлежать ни к Амстердаму (ВКТ), ни к Москве (У ВКТ)». В то же врсмя любой настоящий анархист может входить в МАТ, «не отказываясь от своего идеала и не вредя своему анархистскому действию» Ему «не остается ничего иного, кроме как привести свою профсоюзную принадлежность в соответствие со своими анархистскими убеждениями. Это может произойти лишь в том случае, если все анархисты Франции присоединятся к РСВКТ» [235]. Однако, как отмечалось в отчете МАТ за 1929 г., «большого успеха у стоящих в стороне анархистов и либертарных синдикалистов в этой полемике наши товарищи, несмотря на блестящую аргументацию, не добились» [236].
В ЦеЛОМ в конце 20-х — начале 30-х годов РСВКТ добилась лишь «умеренного прогресса». Она продолжала выпускать ежемесячную газету «Комба сандикалист» и ежемесячник Федерации строителей. Велась интенсивная устная пропаганда революционного синдикализма и агитация за 6-часовой рабочий день. Крупных ВЫСтуплений рабочих в 1929 г. не было. В борьбе шахтеров РСВКТ большого участия не принимала. Анархо-синдикалисты возглавляли упорное выступление рабочих — изготовителей трубок в СенКлоде (Юра) за повышение зарплаты [237].
РСВКТ вела по мере сил и антимилитаристскую работу, выступая против подготовки новой войны. Она пропагандировала негосударственные меры по eе предотвращению. Программа этих мер была опубликована в газете «Ле Суар» и совпадала с решениями конгрессов МАТ. Согласно ей, в мирное время рабочий класс должен был отказываться от производства военных материалов. Профсоюзные организации должны были так контролировать производство, чтобы не допускать расширения военной промышленности и препятствовать подготовке к войне. В случае начала дипломатической подготовки войны планировалось объявление вссобщсй стачки вплоть до захвата средств производства и транспорта рабочими организациями [238].
В 1930 г., согласно годовому отчету МАТ, во французской секции насчитывалось около трех тысяч членов. Влияние мирового экономического кризиса стало сказываться только к концу года, и наступление предпринимателей на жизненный уровень трудящихся еще нс достигло таких масштабов, как в других странах. РСВКТ продолжала издавать «Комба сандикалист» ежемесячно, а Федерация строителей — «Ле Травайер дю батиман» и «Ле Пролетэр». Анархо-синдикалисты проводили собрания в различных частях страны) 9 В сентябре 1930 г. состоялась очередная национальная конференция (заседание Национального конфедерального комитета), обсудившая «нынешнюю ситуацию, тяжесть которой для будущего нашего движения, — признавала газета РСВКТ «Комба сандикалист», — никто не может отрицать». Секретарь конфедерации Жоэль с сожалением констатировал, что синдикаты недостаточно информировали Административный комитет и Бюро конфедерации о своей деятельности, плохо и нерегулярно отвечали на циркуляры. Организации в Лионе, Оксерре и Клермон-ферране вели борьбу, не информируя свои региональные союзы и федерации и т.д. Он потребовал, чтобы резолюция о стачках, принятая на предыдущем заседании Национального комитета, исполнялась в полной мере. Он призвал также регионы интенсифицировать агитационную работу, сообщил об издательских планах. В связи с репрессиями против зарубежных анархистов и синдикалистов во Франции и угрозой их высылки была принята резолюция «Против нарушения права на убежища и права на профсоюзную деятельность» [240].
На конференции 1930 г. были обсуждены вопросы организации и агитации. В отношении новых инициатив по объединению ВКТ и УВКТ участники конфсрснции отметили, что они являются частью предвыборной стратегии социалистов и что подлинное единство рабочих может быть только на основе независимого и автономного синдикализма, вне всяких политических партий и с собственной программой реорганизации общества и борьбы за повседневные интересы трудящихся. Поскольку новая инициатива не соответствовала этим требованиям, РС ВКТ отклонила ce [241].
Португальские анархо-синдикалисты: оборона по всем азимутам
После создания МАТ португальской ВКТ предстояло одобрить свое присоединение к новому Интернационалу. Резолюции Берлинского конгресса опубликовал ее орган — газета «А Баталья». На конференции конфедерации в апреле 1923 г. было внесено два проекта решения. Союз рабочих арсенала выступил за то, чтобы не закрывать двери для взаимопонимания с Профинтерном. Напротив, Федерация работников деревообрабатывающей промышленности предложила высказаться за вступление в МАТ и призвала местные союзы ВКТ поддержать это решение. Этот второй проект был одобрен представителями всех федераций, за исключением арсенальщиков и обувщиков [242]. Предварительные встречи между сторонниками МАТ и Профинтерна не дали результатов [243].
Осенью 1923 г. референдум синдикатов одобрил присоединение ВК Т к МАТ. За это проголосовали 104 синдиката, шесть выступили за присоединение к Профинтерну, пять воздержались [244].
Затем вопрос о международной ориентации был обсужден на конгрессах отдельных отраслевых федераций; и на всех этих конгрессах, за исключением Федерации моряков, было одобрено присоединение к МАТ. Тем не менее, как признавал позднее делегат ВКТ в отчете II конгрессу МАТ в 1925 г., «среди руководящих товарищей с этого времени существует идейный раскол; он наблюдается и среди массы членов, поскольку они привыкли искать единства между всеми товарищами в организации. Из-за этой идейной двойственности в нашей организации частично распространился скептицизм; количество профсоюзов сократилось. Но вскоре возникли новые профсоюзы, и спад был наверстан — доказательство того, что рабочий масс видит и понимает ценность и необходимость экономической организации и экономической борьбы. Пропаганда в пользу целей синдикализма была за последние два года сильнее, чем в предшествующие ГОДЫ» [245].
После подтверждения присоединения к МАТ сторонники компартии стали создавать собственную фракцию в профдвижении. Уже в мае 1923 г. группа из 21 делегата конгресса в Ковилье выпустила манифест «Берлин или Москва?». Позднее коммунистический эмиссар из Франции Жюль Юмбер-Дро провел в Лиссабоне встречу активистов, подписавших манифест; на ней был образован «Временный комитет синдикалистского меньшинства», который должен был установить связи с Профинтерном, организовать ячейки его сторонников и созвать их конференцию. 22 октября 1923 г. в Лиссабоне была учреждена «революционно-синдикалистская ячейка», и уже к концу года в ней состояли 200 рабочих. Возникли аналогичные ячейки в Порту и Гонсалише. Во главе движения стоял Исполком сторонников Профинтерна во главе с А. Машаду. Раз в две недели выходил печатный орган — «А Интернасионал». Руководство Профинтерна дало ячейкам инструкции вступать в ВКТ и распространять в ней свое влияние. Кроме того, под влиянием Профинтерна находились профсоюзы рабочих военного и военноморского арсенала (1,8 тысяч и 1250 членов), а также автономная Федерация моряков. В ноябре 1923 г. Исполком и компартия предложили В КТ и социалистам создать единый фронт помощи германской революции. Совет ВКТ на заседании 20 ноября 1923 г. отверг этот проект, заявив, что и так ведет «А Баталья» кампанию в поддержку германского пролетариата. Конфедеральный комитет развернул резкую критику «революционно-синдикалистских ячеек», обвиняя сторонников Профинтерна в раскольничестве [246].
Кроме того, в начале 1923 г. португальская ВКТ предложила испанской НКТ создать объединенную Иберийскую конфедерацик). В португальском городе Эвора состоялся конгресс, на котором были представлены делегаты от ВК Т (в т.ч. Мануэль Жоаким ди Соуза, Жозе ди Силва и Сантуш Аррана) и НКТ (Мануэль Перес, Х. Феррер Альварадо и Себастьян Клара). Да Соуза, поддержанный М. Пересом, выступил с предложением об объединении [247]. НКТ должна была дать ответ на это предложение на своем съезде, который был запланирован на июнь 1923 г. [248]. Съезд не состоялся из-за военного переворота в Испании. Португальские делегаты М. Силва ду Кампуш и М. Ж. ди Соуза были арестованы в Испании, когда приехали туда на переговоры с НКТ об объединении в соответствии с решениями съезда ВКТ в Ковилье [249].
Сопротивлению против влияния коммунистов в ВКТ стремились оказать помощь и группы анархистов, объединившиеся в 1923 г. в Португальский анархистский союз. В его создании приняли участие 12 групп из восьми местностей. Союз провозгласил свое намерение работать в профсоюзном движснии и противодействовать коммунистам и сторонникам «нейтрального синдикализма» [250].
Анархо-синдикалисты возглавляли крупные стачки и организовывали солидарность с их участниками. В 1922 г. и вплоть до февраля 1923 г. лиссабонские рабочие ухаживали за двумя детьми бастовавших шахтеров Алжустрсла. В июне 1 923 г. семьи Лиссабона и Порту приняли 35 детей бастовавших ТжСТИЛЬщИКОВ Ковильи. В сентябре 1923 г. во время забастовки шахтеров Сан-Псдру-да-Кова их дети были взяты на уход семьями трудящихся Порту. Власти направили гвардейцев, произвели аресты участников стачки, закрыли их профсоюз и «коммунистическую кухню». После болес чем 12 месяцев борьбы рабочие Порту и Виана-ду-Кастелу объявили всеобщую стачку, были брошены бомбы в полицию. Под нажимом населения власти вынуждены были 31 октября освободить арестованных и разрешить «коммунистическую кухню». Через З дня требования шахтеров были принятье [251]. Зимой 1924 г. рабочие стекольной промышленности в Марину- Гранди забастовали, требуя повышения зарплаты. Предприниматели объявили локаут [252].
Борьба трудящихся осложнялась экономическим кризисом и практикой ввоза рабочей силы из-за рубежа. Так, во время забастовки моряков и портовых рабочих были доставлены штрейкбрехеры из Гамбурга [253]. В целом, несмотря на упорную борьбу, большинство стачек после 1920 г. оказались проиграны трудящимися [254].
В условиях кризиса ВКТ издала воззвание к трудящимся страны, призвав их оказывать давление на правительство с тем, чтобы заставить его принять меры по снижению безработицы и пресечь действия реакционных кругов. Синдикалисты предлагали собрать статистику по безработице, оказать нажим на предпринимателей и заставить их вновь открыть закрываемые ими предприятия, а такэкс уплачивать зарплату золотом, добиться от правительства стабилизации курса португальской валюты и государственной помощи безработным. ВКТ рекомендовала рабочим организациям развернуть борьбу против снижения заработков. Среди еe требований фигурировало и создание фабричных и технических Советов. Впрочем, добиться осуществления большинства этих мер не удалось [255]. ВКТ активно занималась проблемами международной солидарности. В 1923—1925 годах она вела кампанию против оккупации Рура и милитаризма (в газете «А Баталья»), помогала недоедающим детям Германии, голодающим России и Украины, поддерживала итальянских и испанских анархистов, протестовала против осуждения Сакко и Ванцетти и помогала другим жертвам репрессий в различных странах [256]. Анархистская газета «А Комуна» выпустила брошюру о деле Сакко и Ванцетти, издавала специальный бюллетень и образцы писем протеста в адрес президента и генерального консула США. По инициативе Анархистской федерации Центрального региона был образован «Португальский комитет за спасениe Сакко и Ванцетти». В Порту «Синдикалистская молодежь» и местная Синдикальная палата труда провели крупную демонстрацию протеста против американского правительства [257].
Экономический кризис, инфляция, безработица и неудачи забастовок вызвали некоторое снижение численности членов ВКТ. Точные данные о количестве членов отсутствуют. Разные авторы приводят различные, сильно расходящиеся друг с другом сведения. По официальной статистике самой ВКТ, в 1919—922 годах в конфедерации состояли до 150 тысяч членов, в 1924 г. — 120 тысяч, в 1925 г. — 80 тысяч и в 1927 г. — 50 тысяч [258]. В 1925 г., судя по отчету португальского делегата II конгрессу МАТ, в ВКТ входили 18 местных объединений профсоюзов — «бирж» (особенно мощные — Союз рабочих синдикатов Лиссабона и союз в Порту), 10 общенациональных отраслевых федераций (в т.ч. федерации печатников, моряков, рабочих пробковой индустрии, текстильщиков, мебельщиков, горняков, сельскохозяйственных рабочих, башмачников и кожевников, металлистов, рабочих консервной промышленности), 3 межотраслевых профсоюза и 8 отдельных профсоюзов. Эти организации были представлены на национальной конференции (в Совете конфедерации) 48 делегатами, представляющими 80 тысяч членов Но из них лишь 35 тысяч уплачивали членские взносы, поскольку 60лее крупные профсоюзы находились в трудном финансовом положении [259].
Таким образом, численность конфедерации резко падала. Исследователи СкЛОННЫ объяснять это тем, что «ВКТ, в которой в целом преобладали квалифицированные рабочие и ремесленники, не сумела сохранить органическую связь с нижними категориями рабочего класса» [260]. С 1920—1921 годов члены ВКТ все больше концентрировались в промышленных центрах Лиссабона—Сетубала— Баррейру—Порту—Брага и Ковилья, с наиболее мощным бастионом в Лиссабоне. Их действия заключались обычно в проведении внезапных волн протеста, которые вскоре снова переживали отлив и не вели к постоянному укреплению организации и солидарности между рабочими (хотя было много успешных стачек, а самая крупная рабочая демонстрация в португальской истории с более чем 100 тысяч участников прошла в феврале 1924 г.). Увеличивался разрыв между слоем хорошо организованных рабочих и массой неквалифицированных и сельскохозяйственных рабочих. Одновременно нарастали репрессии и вмешательство армии, и происходила организация предпринимателей. При этом следует учитывать, что в этот период в стране насчитывалось всего несколько сотен тысяч промышленных рабочих и ремесленников и около 100 тысяч безземельных сельскохозяйственных рабочих.
Сами активисты ВКТ признавали, что «численность промышленного пролетариата не очень велика, и пролетариат весьма далек от социального движения и духа классовой борьбы. К постоянной борьбе в защиту своих прав и за завоевание новых позиций трудовой народ часто ведут вольнолюбивая традиция народа и южный темперамент. Такое положение делает необходимой постоянную пропаганду, которая бы надолго зажигала массы. В первые дни борьбы массы самоотверженно участвуют в жизни организации, но затем через несколько месяцев покидают ее ряды, потом каждый раз, когда снова заходит речь о новой борьбе, преследующей определенную цель и вызванной необходимостью, снова пополняют эти ряды» [261].
Такое положение вещей заставляло ВКТ постоянно устраивать турне пропагандистов. В 1922 г. ВКТ направила свыше 120 пропагандистов в провинции страны, что обошлось более чем в 11 тысяч эскудо. В 1924 г. были посланы 134 агитатора, обошедшиеся организации в 16 тысяч эскудо. Помимо этого, отраслевые федерации организовывали свою пропаганду и за свой собственный счет и тратят на это тысячи. Не считая издания газеты «А Баталья» 10-тысячным тиражом и ряда отраслевых газет, пропаганда велась почти полностью устно, в отличие от периода 1909— 19l6 годов, когда широко издавались брошюры португальских и зарубежных авторов (таких как Пуже, Фабри, Малатеста, Кропоткин, Э. Реклю, Эмилиу Кошта, Бену Вашку, Жозе Прат, Рикардо Мелья и др.) [262].
Важнейшей задачей ВКТ в этот период стало укрепление внутренней структуры и налаживание стабильной организационной жизни. В 1923—1924 годах состоялись семь конгрессов отраслевых Федераций и две национальные конференции ВКТ: конференция профсоюзных объединений (картелей) и конференция отраслевых федераций. Их состав и РСШСНИЯ позволяют получить представление о рабочем движении Португалии в начале и середине 1920-х годов. Так, на конгрессе Федерации рабочих-металлистов были представлены четыре тысячи членов из 10 местных профсоюзов — при том, что во всей металлической промышленности Португалии были заняты 40 тысяч рабочих. Важнейшие решения касались женского и детского труда в отрасли, создания отраслевых союзов вмссто чисто профессиональных и создания Советов (комитетов) предприятий (фабрик). В конгрессе Федерации строительных рабочих участвовали делегаты от 12 тысяч членов из 26 профсоюзов (в целом в стране насчитывалось около 150 тысяч строительных рабочих). Обсуждались вопросы солидарности, подготовка РеВОЛЮЦИОНных акций и ряд других тем. На 3-м конгрессс Федерации моряков были представлены 42 профсоюза с 15 тысячами членов (всего в Португалии насчитывалось 40 тысяч моряков). Форум занимался производственными вопросами и обсуждал международную ситуацию. Делегаты 4-го конгресса рабочих пробковой промышлснности представляли 8 тысяч членов при общем количествс 14 тысяч рабочих этой отрасли. Были утверждены тезисы о развитии отрасли и меры по защитс рабочих, обсуждена международная ситуация. Конгресс федерации рабочих кожевенной ПРОМЫШЛСНности собрал представителей 13 профсоюзов с 8 тысячами рабочих из общего числа 30 тысяч рабочих. Он занимался наряду с вопросами профессии, гигиены труда и развития отрасли также подготовкой революционных акций. На конгрессе рабочих консервной промышленности была создана новая отраслевая федсрация, объединившая 12 профсоюзов с пятью тысячами рабочих (в цeлом в отрасли заняты около 13 тысяч рабочих). Делегаты утвердили статуты федерации, предложения по рабочему времени, солидарности в борьбе, гигиене и т.д. Некоторым федерациям (сельскохозяйственных рабочих, столяров-мебельщиков, книжной и газетной отрасли, торговых служащих) из-за финансовых трудностей не удалось созвать конгресс.
Конгрессы, провсденныс в 1923 и 1924 годах, показали, что число представленных в них рабочих составляет лишь 1 870 занятых в этих отраслях, в то время как число организованных рабочих Португалии нe превышало 970. В январе 1924 г. по инициативе ВК Т состоялась национальная конференция секретарей объединений профсоюзов: на ней обсуждались статуты объединений. В конце апреля состоялась национальная конференция руководств федераций, на которой были рассмотрены меры по совершенствованию работы проМЫШЛеННОСТИ и улучшению производственных возможностей. Все эти работы имели подготовительный характер, они должны были помочь рабочим усвоить, что они когда-нибудь должны будут взять промышленность и производство в свои руки. Помимо этого, для важных обсуждений и совещаний собирались объединение профсоюзов Лиссабона и другие органы профсоюзов в Лиссабоне [26З].
ВКТ планировала также провести конференцию по сельскому хозяйству. Намечалось выдвинуть лозунги немедленной социализации необрабатываемой земли с ее передачей профсоюзам сельскохозяйственных работников сроком минимум на 10 лет, ограничения виноделия в пользу развития производства продовольственных культур, развития рыболовства и т.д.
В январе 1924 г. Комитет ВКТ принял решение о реорганизации конфедерации с целью расширить ее социальную опору. В этом проекте было предложено преобразовать профсоюзы в «Палаты труда» и создать окружные профсоюзные ком иссии [264]. Речь шла, по существу, о дополнении синдикальной организации территориальной. Союз синдикатов Лиссабона, входивший в ВКТ, предложил образовать квартальные синдикальные жунты, открытыс не только для лиц наемного труда, но и для жителей кварталов. Сторонники Профинтерна и коммунистов заяњляли, что они не возражают против образования фабричных и межпрофессиональных территориальных органов, но категорически против их создания в директивном порядке, не дожидаясь санкции будущего конгресса ВКТ. Острые споры по этому вопросу вспыхнули на конференции профсоюзов Лиссабона, созванной в апрелс 1924 г. для обсуждения проекта реорганизации. Позицию анархо-синдикалистов поддержали 24 синдиката (моряков, шоферов Португалии, портовиков, учителей, персонала Национальной типографии, подчиненных работников связи, подчиненных государственных служащих, литографов, типографов, мебельщиков, металлистов, бондарей, сапожников, строителей, механиков деревообрабатывающей промышленности, служащих винных складов, рабочих муниципалитетов, кучеров, торговых служащих, плотников кораблей дальнего плавания, железнодорожников Португальской компании, временных работников лиссабонской таможни и работников транспорта лиссабонского порта). На стороне приверженцев Профинтерна выступили представители 18 профсоюзов (военного и военно-морского арсеналов, государственных служащих, лодочников лиссабонского порта, морских и наземных разгрузчиков, разгрузчиков лиссабонского порта, пекарей, погрузчиков, морских и сухопутных водителей, парикмахеров, рабочих ящичных фабрик, портных, пиджачных закройщиков, чистильщиков обуви, кровельщиков, механиков деревообрабатывающей и бочарной промышленности, морских механиков, переплетчиков, оценщиков зерна и работников речного транспорта). По утверждению коммунистов, в анархо-синдикалистских союзах состояли 7430 членов, а в тех, которые поддержали сторонников Профинтерна, — 16 180. Последние покинули конференцию с возгласами «да здравствует русская революция!» и «да здравствует Профинтерн!». Затем они провели собственное собрание, постановили образовать профсоюзную оппозицию внутри ВКТ и создали совместную комиссию по подготовке манифеста. Оппозиционные союзы выдвинули требования изменить структуру ВК Т на основе предложений, представленных на конгрессе в Ковилье (включая замену поста генерального секретаря Секретариатом из трех членов), собрать новый конгресс для разрешения всех вопросов, которые не удалось согласовать в Ковилье, и заменить систему голосования, введя представительство организаций пропорционально числу их членов [265].
Во второй половине 1924 г. приверженцы Профинтерна и компартии значительно активизировали работу в португальских профсоюзах. В письмах в Москву они утверждали, что привлекли на свою сторону влиятельные союзы, в которых состояли 24 тысячи человек, включая объединения рабочих арсеналов (3300 членов), матросов и моряков (18 тысяч членов). Эти организации вносили, как они уверяли, 8 из 12 тысяч эскудо членских взносов в ВКТ [266]. Расширялось влияние «революционно-синдикалистских ячеек» в Лиссабоне, Порту, Коимбре и Гонсалу, хотя создать новые группы в Эворс и Бежа нс удалось267 . 1 февраля 1925 г. был организован еще один центр коммунистического влияния — «Комитет рабоче-крестьянского действия» [268] Но федералистская система принятия решений в ВКТ, которая предоставляла равные права отдельными союзам, невзирая на число их членов, не позволила коммунистам и их сторонникам захватить ВКТ. В отчете о положении в Португалии, представленном ими Профинтерну 31 марта 1925 г., признавалось, что соотношение сил в конфедерации принципиально не изменилось: все основные профсоюзы подтвердили свое доверие руководству ВКТ и приверженность членству в МАТ, а некоторые союзы, прежде остававшиеся независимыми, примкнули теперь к профобъединению. Другой отчет о деятельности Исполкома сторонников Профинтерна (апрель 1925 г.) делал такие же выводы: португальский организованный пролетариат «пропитан анархистской идеологией», из всех областей работы именно в ВКТ удалось добиться наименьшего влияния, деятельность сторонников Профинтерна в Конфедеральном совете (арсенальщиков, моряков и торговых служащих) «сведена к нулю» [269]. Летом 1925 г. профсоюзы рабочих арсеналов постановили выйти из ВКТ, а союз торговых служащих прекратил псрсчислять свои взносы в конфедерацию. Исполком ВКТ обвинил их в саботажс работы и обструкции борьбы с фашизмом [270]. В ответ на рост коммунистического влияния в Федерации моряков, анархистски настроенный профсоюз моряков дальнего плавания вышел из этого объединения и создал новую федерацию, примкнувшую к ВКТ [271].
После неудачных попыток взять под контроль ВКТ, образованный коммунистами Комитет действия развернул кампанию за «профсоюзное единство» на основе принципа пропорционального представительства. В борьбе с анархо-синдикалистами он призывал к тому, чтобы ВКТ сняла с себя «либертарную этикетку» и вернулась к идее независимости от всех партий и философских систем (включая анархизм) при сохранении за различными течениями права отстаивать свою точку зрсния [272]. Иными словами, в противовес анархистам, коммунисты выступии на сей раз под лозунгами традиционного довоенного синдикализма.
Между тем политическая ситуация в Португалии непрерывно обострялась. Это побуждало ВКТ вести борьбу нс только в защиту непосредственных экономических интересов трудящихся, но и за гражданские права. В 1924 г. она организовала выступления против угрозы военной диктатуры, против закона о введении удостоверения личности, против инцидента с убийством двух рабочих фашистами и т.д. [273].
На ll конгрессе МАТ португальские анархо-синдикалисты утверждали: «...Мы вели борьбу с упорством, ни в коей мере нс отказываясь при этом от фундаментальных принципов синдикализма. Угроза диктатуры реакционных сил и сейчас еще нe устранена. Либеральная буржуазия день ото дня теряет почву под ногами, поэтому следует сказать, что рабочий класс является единственной революционной силой, способной бороться против реакционных сил. Нелегко предвидеть, как завершится эта борьба, но, как бы то ни было, революционнос рабочес движсние самим своим сущсствованием предназначено вести непримиримую борьбу против эксплуататорского капитализма» [274]. Но при этом португальские анархо-синдикалисты стремились сохранить независимость от левых партий. Характерен в этой связи эпизод с одной из попыток создания коалиционного органа. В феврале 1924 г. при посредничестве одного из анархистских активистов была предпринята попытка образовать «Комитет социальных революционеров» с участием сторонников Португальской компартии и Профинтерна, Португальского анархистского союза и ВК Т (последние вошли исключительно с информационной целью). Однако проект не удался, поскольку Анархистский союз на страницах газеты «А Комуна» отмежевался от созданного органа, а коммунисты, узнав, что анархисты присутствуют в нем только ради получения информации распустили комитет [275].
В l925 г. репрессии против ВКТ усилились. Правительство воспользовалось подавлением военного путча в апреле, чтобы нанести удар по рабочему движснию. Оно ввело осадное положение, распорядилось арестовать 18 рабочих активистов и сослать их в Африку. Последовало покушение на начальника полиции Лиссабона. Полиция ворвалась в бюро ВКТ, схватила 150 человек. Арестованные подверглись пыткам, двое были убиты «при попытке к бегству». Большинство из них, как и 18 человек ранее, были сосланы на острова Зеленого мыса, к 22 августа четверо из них уже скончалисы В ответ ВКТ провела всеобщую стачку, охватившую Лиссабон, Сетубал, Коимбру, Портиман и другие города [276].
Используя ситуацию, руководимыс коммунистическим «синдикалистским меньшинством» профсоюзы рабочих арсенала и Федерация моряков объявили о разрыве с ВКТ. Однако это решение нс было поддержано большинством профсоюзов федерации, которыс на национальной конференции в Сантарене реорганизовали ее в составе ВКТ [277].
В намеченном на сентябрь 1925 г. съезде ВК Т должны были впервые участвовать только профсоюзы ВКТ, тогда как до тех пор рабочие съезды охватывали всех рабочих, в том числе не состоящих в профсоюзах. Однако ВК Т по-прежнему объединяла почти все рабочие профсоюзы страны. Профсоюзы рабочих из колоний должны были получить непрямое представительство на съезде. Съезд ВКТ в Сантарене призван был обсудить вопросы о рабочем времени, об организационном устройстве местных профсоюзных федераций («бирж»), об условиях женского и детского труда, о гигиене труда, об эмиграции португальских рабочих за рубеж, об условиях труда и зарплаты в колониях, о просвещении и образовании рабочих [278].
На конгрессе ВК Т были представлены 144 делегата от 1 13 профсоюзов, 15 от 11 отраслевых федераций и 5 от союзов профсоюзов [279]. Участники постановили не допускать делегатов, «занимающих посты в какой-либо политической партии»[280] Последнее было связано с активизацией португальских коммунистов, которые сумели добиться выхода из ВКТ руководимых ими Федерации моряков и докеров и некоторых профсоюзов сельскохозяйственных рабочих в Алентежу [281]
Делегаты одобрили отчеты с мест, обсудили политические репрессии в стране и призвали к началу международной кампании протеста. Были подвергнуты критике маневры компартии в профсоюзном движении. Ряд решений касался организационного укрепления ВКТ (одобрена структура организации, внесены изменения в статуты, решено регулярно выпускать газету «А Баталья» на Севере страны). В качестве мср по борьбе с экономическим кризисом и безработицей ВКТ потребовала введения 8-часового рабочего дня и программы общественных работ. Делегаты высказались за улучшение гигиены труда. В том, что касается положения с женским и детским трудом, они выступили не за законодательные социальные гарантии. а за то, чтобы добиваться улучшений с помощью прямого действия. Был одобрен план воспитания пассово сознательных рабочих профсоюзами. Обсудив вопрос о миграции рабочей силы, участники съезда поддержали идею сбора статистических сведений во всемирном масштабе, призвав все секции МАТ направлять в Интернационал соответствующие сведения. Делегаты потребовали улучшения условий труда и регулирования рабочего времени в колониях. Было решено провести митинг против деспотизма в отношснии чернокожего населения африканских колоний. ВКТ призвала секции стран, имеющих колониальные владения, создать комиссии по изучению вопросов труда в колониях [282]. Ухудшение социально-экономической и политической обстановки в стране в середине 20-х годов и активизация коммунистов вызвали новые серьезные разногласия в либертарном движении. Редактор «А Баталья» Сантуш Арранья выступал за сотрудничество с независимыми синдикалистами, социалистами, коммунистами и демократами. Ди Соуза отстаивал последовательно анархистскую линию, и коммунисты пытались всеми способами изолировать его [283].
Воспользовавшись ростом инфляции, ставшей хронической проблемой португальской экономики, предприниматели сокращали зарплату трудящимся. В ответ в 1925 г. вспыхивали стачки во многих отраслях промышленности. Мощная забастовка охватила осенью пробковую индустрию. Федерация рабочих отрасли подняла на забастовку десятки тысяч людей. Их выступление продолжалось 33 дня и закончилось компромиссом: зарплата все же была снижена, но не столь значительно, как этого добивались хозяева. Болсе трех месяцев продолжалась стачка работников мясной промышленности в Альдегалега. ВКТ приняла решение также провести крупную демонстрацию за освобождение своих членов, сосланных на острова Зеленого мыса и Португальскую Гвинею [284].
Несмотря на отколы сторонников коммунистов, анархо-синдикалистская организация сумела укрепить свои ряды. Федерация работников сельского хозяйства провела в 1925 г. 6-й конгресс, утвсрдившиЙ «Декларацию принципов». В ней провозглашалась цель полной и абсолютной социализации всей земельной собственности и инвентаря, установления строя вольных коммун и распределения земли исключительно с точки зрения ее рациональной обработки [285].
Федерация металлистов ВКТ включала в начале 1926 г. 15 профсоюзов с шестью тысячами членов, уплачивавших взносы (из 50 тысяч работников отрасли). Однако в организованных ею выступлениях широко участвовали и рабочие, нс состоявшие в организации. Кроме того, существовали независимые профсоюзы металлистов (7 тысяч членов), но решения последнего съезда ВКТ позволяли включить их в организацию. Действовали два пропагандистских комитета — для Севера в Порту и Юга страны в Фару, технический совет, совет по совершенствованию труда, состоящий из специалистов, фабричные Советы и цеховые комитеты. Португальскис металлисты еще в 1910 г. добились 8-часового рабочего дня и к 1926 г. развернули борьбу за 6-часовой рабочий день, хотя в отчете федерации признавалось, что она недостаточно сильна, чтобы одержать победу в этом вопросе. Положение португальских мсталлистов было тяжелым, безработица достигала 4070. На некоторых фабриках профсоюзы вели стачки против снижения зарплаты [286].
В Федерации строителей в 1926 г. насчитывалось З тысячи членов, уплачивавших взносы (всего в отрасли работало до 70 тысяч человек). Еще в 1920 г. в профсоюзах этой федерации состояли 30 тысяч рабочих, но затем их число резко сократилось вследствие экономического кризиса, массовых увольнений классово настроенных трудящихся и значительной эмиграции. Тем не менсе и к 1926 г., как информировала федерация, в ходе акций влияние синдикалистской организации распространяется почти на всех строителей, хотя лишь немногие реально участвовали в движснии. Из 70 автономных местных организаций лишь 30 регулярно выполняли свои организационные обязательства и оказывали взаимную помощь. Существовала касса для оказания помощи отбывающим военную службу и для выплаты пособий при локауте; издавалась газета [287].
Укреплялась организация «Синдикалистской молодежи Португалии». В 1925 г. федерация насчитывала 2500 членов в 22 местных группах. Молодые синдикалисты Португалии открыто заявляли о своей либертарной ориентации и тесно сотрудничали с синдикалистскими профсоюзами. Молодежное движение помогало подни, мать образовательный и культурный уровень рабочих, создавало центры продолжения учебы, а также принимало участие в борьбе старших товарищей. «...Часто молодежь стоит на первых местах, когда нужно проявить мужество и волю к борьбе, — отмечал португиьский делегат на II конгрессе МАТ М. Силва ду Кампуш. — Синдикалистская молодежь Португалии настроена не пацифистски, но полагает, что насилис призвано устранить пороки нынешнего капиталистичсского мирового порядка. классовая борьба зачастую протекает остро». На 2-м конгрессе организации, запланированном на август 1925 г., среди прочих, должны были обсуждаться вопросы Международных связей и созыва международного конгресса синдикалистской молодежи с целью создания синдикалистского Интернационала молодежи [288].
Съезд состоялся только в мае 1926 г. В принятой им Декларации принципов указывалось, что организация действует на анархистской основе и признает революционный синдикализм как метод борьбы. В качестве направлений работы были названы антимилитаристская пропаганда, антиавторитарная пропаганда, антиклерикальная пропаганда и революционное действие. Организация вела борьбу со всеми политическими партиями и в борьбе с капиталистичсским обществом допускала сотрудничество с синдикалистскими, анархистскими и революционными организациями в зависимости от конкретных условий. Съезд избрал Секретариат по международным связям [289].
Наконец, в январе 1926 г. на конгрессе был создан Португальский союз анархистов первое общенациональное объединение анархистов страны [290] В португальских колониях анархистские идеи и анархосиндикалистская практика распространялись сосланными португальскими либертриями и трудящимися, которые ехали туда работать из метрополии. Еще в начале ХХ века сообщалось о деятельности ссыльных анархистов в Макао, Мозамбике и на Тиморе. В Макао существовала группа «Рассвет свободы», образованная солдатами и моряками. Организация сотрудничала со «Свободной школой», но была раскрыта и разгромлена, как минимум два ее члена были приговорены к заключению в военной тюрьме. В столице Анголы Луанде в 1906 г. действовала «Группа бунтарской молодежи». В столице Мозамбика Лоренсо-Маркеше прошли крупные стачки в 1917, 1920 и 1925— 1926 годах. Последнее выступление переросло в 8-дневную всеобщую стачку, жестоко подавленную колониальными властями, 300 рабочих было арестовано. Портовики, железнодорожники и другие рабочие Лоренсо-Маркеша были объединены в «дом трудящихся» и издавали еженедельник «У Эмансипадор». Железнодорожники поддерживали тесные связи с коллегами в метрополии, входши в федерацию железнодорожников ВКТ и получали помощь от МАТ [291].
Весной 1926 г. политическая обстановка в Португалии резко обострилась. Непосредственным поводом к кризису стал спор о государственной монополии на производство табачных изделий. За ним скрывалось острое противоборство между сторонниками и противниками расширения роли государства в экономике страны. Профсоюзы, ориентировавшиеся на Профинтерн, поддерживали идею государственной монополии, анархо-синдикалисты выступали против. В то же время последние призывали трудящихся со страниц «А Баталья» не вмешиваться во внутреннюю борьбу в лагере буржуазии [292] В Португалии воцарились финансовый кризис и политический хаос.
В конце мая 1926 г. в стране произошел военный переворот; власть захватил генерал Гомиш да Кошта. ВКТ провозгласила революционную всеобщую стачку против любой военной диктатуры и призвала народ к оружию. Рабочие, опасаясь того, что в стране восторжествует режим наподобие диктатуры Примо де Риверы в соссдней Испании, вооружились [293].
Воззвание, опубликованное 1 июня в «А Баталья», предлагало народу выступить под лозунгами «Долой диктатуру! Да здравствует свобода!» против переворота и попыток установить «железный режим», направленный против «завоеваний трудящихся». «Все те, кто возмущены идеей власти, управляющей огнем и мечом, должны избрать в этот решающий момент лишь один путь: они должны подняться и защищать любой ценой, с оружием в руках, те немногие свободы, которыс были завоеваны ценой крови мучеников и героических жертв. Трудовой народ, к оружию!» — говорилось в обращснии [294].
Призыв ВКТ встретил отклик по всей стране. Трудящиеся многих городов заявили о своей готовности начать борьбу, в Эворе была объявлена всеобщая стачка. Но лидеры ВКТ сочли, что ее провозглашение в Лиссабоне «несвоевременно». 31 мая на заседании Синдикальной палаты труда Лиссабона была принята резолюция, которая рекомендовала пролетариату Португалии «сопротивляться установлению диктатуры», сформировать с этой целью «единый фронт всех рабочих организаций массовой борьбы» и предложить «создание совместного комитета действия», призванного организовать такое сопротивление [295]. Директор «А Баталья» Сантуш Арранья принял участие от имени ВКТ в совещании военных и политических лидеров, обсуждавших создание единого блока сопротивления перевороту. Однако большинство секретариата ВКТ не доверяло политикам и не поддержало Арранью. Встреча провалилась [296].
Представитель путчистов, стремясь предотвратить народное сопротивление, встретился I июня с деятелями ВКТ и заверил их, что новос руководство не намерено устанавливать военную диктатуру. Правительственные самолеты сбрасывали на города листовки, в которых опровергались предположения, будто власти собираются запретить профсоюзы и преследовать трудящихся, охарактеризованных как «неотъемлемые и наиболее полезные элементы страны». Военные обещали организациям трудящихся сотрудничество в деле повышения благосостояния и преодоления материальных трудностей народа. Однако ВКТ оставалась настороже, заявив о своей готовности объявить стачку «в случае необходимости» [297] 6 июня 1926 г. в новом манифесте она вновь выступила против военной диктатуры и призвала рабочих к бдительности [298]. Таким образом, ВКТ в итоге заняла выжидательную позицию.
9 июля 1926 г. режим Гомиша да Кошты был свергнут. К власти пришел генерал Кармона. К осени новый режим стабилизировался и перешел к репрессиям против анархо-синдикалистов. Многие активисты были арестованы. Тем не менее ВКТ смогла провести 18 октября 1926 г. в Лиссабоне учредительный съезд Федерации работников пищевой промышленности. На нем обсуждались обычные процедурныс вопросы (были приняты Декларация принципов и резолюции о гигиене на кухнях и в пекарнях, о профессиональных школах и культурных задачах) [299].
Рабочее движснис не сразу осознало, что в истории Португалии наступил новый этап. ВК Т полагала, что в стране просто произошел очередной переворот. Готовность к сопротивлению проявили анархо-синдикалисты, анархисты и молодые синдикалисты Португалии, созвавшие конференцию для обсуждения этого вопроса [300]. Репрессии и тяжелое положение, в котором оказалось движение, усилили притягательность лозунгов «профсоюзного единства», с которыми выступали коммунисты. Анархо-синдикалисты соглашались на обсуждснис вопроса о единстве. Соответствующие дебаты были проведены на конференции Синдикальной палаты труда Лиссабона (столичного объединения профсоюзов ВКТ), на которую с совещательным голосом были приглашены и союзы, не входившие в конфсдсрацию. Встреча не принесла успеха ни одной из противоборствующих сторон. Предложение анархо-синдикалистов о том, что прокоммунистические союзы должны вернуться в конфедерацию без всяких предварительных условий и соблюдать ее принципы и тактику, было отклонено, точно так же как и проект декларации о профсоюзном единстве, внесенный профсоюзами — сторонниками Профинтерна и предусматривавший образование обновленного профцентра, не входящего ни в один из Интернационалов. Большинство делегатов (кроме трех) проголосовали за проект Союза строителей, который содержал призыв к ВКТ организовать чрезвычайный конгресс единства [301]. Но после конференции анархо-синдикалисты перешли в наступление. Напротив, синдикалистские сторонники сотрудничества с левыми партиями («арраньисты») образовали в конце 1926 г. вместе с рядом социалистов и коммунистов «Комитет единства» в Лиссабоне [302]. Союзы, не вхоДИВШИе в ВКТ, все громче призывали к образованию нового профцентра и рассматривали этот комитет как его зародыш. Они заявляли, что в ВКТ осталось всего 12 тысяч членов, в то время как профессиональные организации моряков и арсенальщиков объединяли до 18 тысяч рабочих [303].
Постепенно нормальное существование профсоюзного движения сделалось невозможным. ВКТ очень скоро почувствовала это.
В феврале 1927 г. группа военных подняла восстание против правительства Кармоны. В Порту либертарии и молодые синдикалисты приняли активное участие в этом выступлении, но в итоге оно было подавлено. Несмотря на то что орган ВКТ «А Баталья» осудил действия военных, правительство закрыло газету, были арестованы члены редакции и работники типографии. В ответ ВКТ объявила 7 февраля 1927 г. революционную всеобщую стачку и призвала рабочих к оружию. В это время военный мятеж распространился и на Лиссабон, рабочие воспользовались этим и освободили арестованных. Но после подавления восстаний в стране воцарилась реакция [304]. В ходе подавления стачки 100 человек были убиты, ВКТ и ее газета «А Баталья» были запрещены, точно так же как профсоюзы моряков и докеров, Федерация строительных рабочих и др. Полиция штурмовала редакцию «А Баталья» и обстреливала дом, на первом этаже которого размещалась газета. Она конфисковала печатные машины, арестовала директора Мариу Кастельяну. Около 600 человек, участвовавших в конфликте, были сосланы в колонии [305] Некоторые из них позднее смогли вернуться в метрополию.
Организация продолжала работать, поддерживала связь с местными организациями и принимала меры предосторожности. Конфедеральный комитет ВКТ заявил протест против закрытия газеты. Запланированный съезд конфедерации был отменен [306] Затем было объявлено о запрете ВКТ. 1 апреля 1927 г. удалось возобновить вы пуск «А Баталья» в Лиссабоне, но 7 мая редакция была снова захвачена полицией. На Севере, в Порту, репрессии были сильнее. Газета «А Коммуна» была закрыта [307]. Правительственный террор нарастал. 63 синдикалиста были сосланы в колонию Восточный Тимор [308].
Поскольку профсоюзы, входившие в ВКТ, были юридически самостоятельны, запрет конфедерации формально не распространялся на ее федерации и отдельные профсоюзы. Однако в последующие месяцы правительство постаралось найти новые основания для запрета многих профсоюзов. Первомайская демонстрация 1927 г. была запрещена [309]. ВКТ воздержалась от призыва организовать какие-либо выступления. Одновременно она отвергла любые призывы к «единому фронту», заявив, что не желает «контактов с политиками» [310]. Предприниматели воспользовались ослаблением рабочих организаций для наступления на 8-часовой рабочий день.
Конфедеральные совет и комитет пытались продолжать действовать подпольно. Члены этих органов собирались, как домадывал III конгрессу МАТ ди Соуза, «когда и где только было возможно» [311]. В связи с продолжающимися репрессиями и новым закрытием «А Баталья», ВК Т вынуждена была начать издавать «Болстин операриу» [312]. Издавался и еще один подпольный бюллетень. Но финансовое положение конфедерации становилось все более тяжелым, поскольку нормальная система перечисления членских взносов оказалась нарушенноиU [313]
Диктатура воспользовалась покушением на директора государственной типографии для того, чтобы нанести новый удар по рабочему движению 2 ноября 1927 г. Помещения профсоюзов, которые, как подозревала полиция, были центрами ВКТ, были захвачены, произведено множество арестов [314]. ВКТ была официально распущена — во второй раз. Власти конфисковали все ее имущество. Полиция захватила бюро ВКТ в Лиссабоне. Руководство ВКТ обратилось к рабочим с воззванием, призвав их нс склонять голову перед насилием. Власти приступили к массовой ссылке политзаключенных в африканские колонииМ5
На III конгрессе МАТ в 1928 г. португальская организация сообщала, что число ее арестованных членов только в столице достигало ста. Среди них были: Алейшу ду Оливейра, Алберту Диаш, Фернанду ди Ммейда Маркиш, Карлуш Жозе ди Соуза, Мануэл Жоакин ди Соуза, Алфреду ди Карвалью, Жозе Агостинью даш Невиш, Жозе Лоуренсу, Жерминал ди Соуза и др. Многие были обвинены в подстрекательстве к заговору против военной диктатуры. Против некоторых из арестованных было возбуждено дело по обвинению в членстве в ВКТ. Большое число активистов было сослано в Анголу, Мозамбик, Гвинею, на острова Зеленого мыса, СанТоме и Тимор. Среди сосланных находились: Жозе Алберту, Мануэл ЭНИРИКИШ Рижу, Арналду Жануариу, Мариу Кастельяну, Алвару Рамуш, Франсиш Кинги [315], Жуан Мария Мажор, М. Вьсгаш Карраскальян, Жозе Гординыо, Антониу Инасиу Мартинш, Алберту Силва и многие другие. Антониу Инасиу Мартинш, Алберту Силва и Кристован Пиньейру были сосланы в Луанду, где содержались в варварских условиях. Кристован Пиньсйру в результате плохого обращения был замучен до смерти.
Некоторые из арестованных были подвергнуты полицией пыткам. Из них выжимали признания или согласие доносить. Их жестоко избивали, заковывали им руки в кандалы, брали в заложники родственников. Так, когда полиция не смогла арестовать ди Соуза, она схватила его 18-летнего сына Жерминаля, издевалась над ним, выбивая из него сведения о местонахождении отца и других анархо-синдикалистов. В Порту заключенным в одной тюрьме на протяжении шести дней давали только гнилую рыбу и не давали воды [336].
В 1928 г. были произведены новые аресты оппозиционных заговорщиков и анархо-синдикалистских активистов. В ссылку были отправлены печатник Жозе Агостинью даш Нсвиш, парикмахер Франсишку Жозе Казеалью, строительные рабочие Куирини Фернандиш, Филипу Жозе да Кошта и Жозе Лоуренси, трамвайщик Л. Фигeйреду, сапожник Франсишку Гуэрра, железнодорожник Ф. Калапиш и др. [337] ВКТ обратилась в Международную организацию труда в Женеву с жалобой на нарушение правительством Португалии прав трудящихся [338].
Несмотря на жестокое подавление, ВКТ функционировала регулярно. Она поддерживала связи со своими членами и с входившими в нес организациями по всей стране и периодически выпускала нелегальные манифесты.
Помещения запрещенных властями в феврале 1927 г. профсоюзов моряков были освобождены полицией. Однако профсоюзы строительных рабочих Лиссабона, Федерация строительных рабочих, профсоюзный картель Фару и некоторые профсоюзы сел ьскохозяйственных рабочих оставались под запретом. Профсоюзы строитсльных рабочих Л иссабона продолжали действовать, несмотря на роспуск и полный разгром их помещения полицией. Конфедеральный комитет направил своего члена Антониу Родригиша душ Сантуша в провинции Алентежу и Алгарви для того, чтобы активизировать деятельность синдикатов. Профсоюз сельскохозяйственных рабочих в Ментежу работал нелегально, но сумел приобрести участок земли для сооружения нового профсоюзного дома.
Репрессии обострили разногласия внутри ВКТ. Возник конфликт между ВКТ и федерацией книгопечатников. Федерация отозвала своих делегатов из Конфедерального совета. Лишь к 1928 г. конфликт был улажен 319. Усилшюсь и проникновение сторонников компартии. Так, секретарь Комитета конфедерации Алмейда присосдинился к коммунистам, и в итоге ВКТ не смогла быть представлена на Третьем конгрессе МАТ [320].
Правительственный запрет помешал провести мая 1928 г. собрания и демонстрации. ВКТ ограничилась тем, что в нелегальном манифссте, распространявшемся по всей стране, призвала рабочих покинуть 1 мая рабочие места. Этот призыв почти повсюду встретил поддержку. Воззвание удалось издать, несмотря на противодействие коммунистов.
В борьбе с диктатурой ВК Т шла на известное сотрудничество с другими оппозиционными силами, но заявляла о верности своим принципам и идеалам I Интернационала и либертарного коммунизма. В докладе III конгрессу МАТ ВКТ указывала: «Если нам когда-то приходилось сражаться на баррикадах революции против диктатуры рядом с политиканами — вчерашними и, быть может, завтрашними предателями, то лишь потому, что мы хотели привести в движение все, чтобы разгромить эту отвратительную диктатуру. Если нам это удастся, то мы не прекратим оставаться на прежних позициях; наше оружие повернется против этих политиканов и всех других предателей рабочего класса, вплоть до победы наших собственных целей» [321].
В 1928 г. ВКТ возобновила легальное издание «А Баталья», которая выходила сженедельно. Но финансовые проблемы и жесткость цензуры принудили газету в 1929 г. вновь уйти в подполье 322 . В эпоху диктатуры газета «А Батиья» много раз выходила подпольно; ее редакции арестовывались [323].
В 1928 г. был легализован профсоюз рыбаков Лиссабона. В конце 1928 г. ВКТ удалось осуществить внутреннюю реорганизацию. Были восстановлены национальные федерации книгопсчатников, строительных рабочих, сельскохозяйственных тружеников и горняков. В 1929 г. Федерации строительных рабочих Португалии и колоний, которая насчитывала 10 профсоюзов с тремя тысячами членов [324] в ходе судебного процесса удалось добиться возвращения своего помещения [325]. Однако вскоре оно снова было захвачено полицией. Оживление синдикалистского движения наблюдалось прежде всего среди моряков и торговых служащих на Севере страны, среди рабочих текстильной отрасли и пробковой промышленности, которые, учитывая распространение предприятий их отрасли, создали в 1929 г. собственную отраслевую федерацию [326]. В этот период сложилась довольно своеобразная ситуация, когда одни отраслевые организации ВКТ действовали легально, а другие были запрещены. Так, Федерация рабочих текстильной проМЫШ№ННОСТИ была распущена, тогда как Федерация торговых служащих со штаб-квартирой в Порту и Федерация рабочих пробковой промышленности с центром в Лиссабоне функционировали легально, хотя их профсоюзные и политические права были весьма сильно ущемлены [327]. Федерации торговых служащих, имевшей организации в 17 из 31 населенного пункта Севера страны, в 1928 г. удалось добиться некоторого улучшения положения этой категории трудящихся [328]. Чтобы нейтрализовать влияние анархо-синдикалистов в этой отрасли, сторонники Профинтерна вступили в союз с консервативно настроенными реформистами, но затем опять остались в меньшинстве. Им удалось захватить ассоциацию торговых служацих в Лиссабоне, но вскоре коммунисты вновь проиграли на сей раз им пришлось уступить руководство социалистам [329].
В течение 1929 г. деятельность ВКТ постепенно оживлялась. Несмотря на сохранявшийся официальный запрет организации в целом, отдельные ее профсоюзы оставались легальными. В 1929 г. ВКТ удалось начать в Порту, где диктатура военного правительства ощущалась не столь сильно, издание еженедельной газеты «Вангуардиа операриа». Кроме того, анархо-синдикалисты стали выпускать теоретический ежемесячный журнал «Аурора». Особую активность проявляли возникшая в Лиссабоне Федерация рабочих пробковой промышленности, организации моряков, торговых служащих Севера страны, текстильщиков [330]. Однако Федерация текстильщиков была по-прежнему запрещена.
Продолжали деятельность и анархо-синдикалисты, сосланные в колонии. В столице Мозамбика Лоренсу-Маркише по их инициативе были созданы революционные рабочие организации, развернувшие борьбу за улучшение положения трудящихся [331].
Комитет ВКТ делал все возможное по возрождению профсоюзов. В 1930—1931 годах ВКТ объединяла 32 рабочих союза численностью 15—20 тысяч человек. В Лиссабоне действовали Синдикальная палата труда Лиссабона, Федерация промышленности гражданского строительства, Федерация рабочих промышленности гражданского строительства Португалии и колоний и Национальная федерация рабочих пищевой отрасли Португалии и колоний, Единый синдикат рабочих гражданского строительства, Классовая ассоциация печатников, Португальская федерация трудящихся книжной, журнальной и смежных отраслей, Единый синдикат индустрии, Ассоциации рабочих пробковой промышленности, синдикалистские обувщики, Синдикат торговых и промышленных служащих, Классовая ассоциация рабочих-переплстчиков и смежных профессий, Синдикат профессиональных шоферов Юга, Классовая ассоциация рыбаков, Единый синдикат разнорабочих, Синдикат персонала португальского торгового флота; в Порту Единый классовый синдикат текстильщиков; в Ковилья — Классовая ассоциация рабочих текстильной промышленности; в Сетубале — Классовая ассоциация трудящихся консервных фабрик, Ассоциация труджцихся — моряков; в Эвора — отделение ВКТ, Классовая ассоциация гражданского строительства и смежных профессий, Национальная федерация сельских трудящихся, Ассоциация сельских трудящихся Эворы. Кроме того, в различных местностях действовали союзы строителей (в Гуарда, Матузиньюше, Мессинише, Понти-ду-Лима, Регуэнжуш-ди-Монсараш), Классовая ассоциация рабочих-кожевников в Вила-Висоза, организации трудящихся пробковой промышленности (в СИЛВИШе, Баррейру, Одемире, Грандоле), сельскохозяйственных рабртников (в Эскурале, Терружеме в Элваше), Классовая ассоциация морских и наземных грузчиков Вала-ду-Каррегаду, Ассоциация морских и наземных грузчиков Карамужу [332]. Коммунисты приводили иные данные о профсоюзном движении в стране. По их утверждениям, в январе 1930 г. в профсоюзах страны состояли в обшей сложности 35 тысяч человек, в т.ч. 10 тысяч — в ВК Т, до 3 тысяч — в реформистских союзах и l6 тысяч — в автономных. Крупнейшими в анархосиндикалистском профобъединении были две сохранившиеся федерации — моряков (3 тысяч членов) и работников пробковой индустрии (3,5 тысяч), а также союз строителей (500 членов); остальные союзы имели от 100 до 250 членов каждый. Действовала лишь одна биржа труда — в Лиссабоне, но предпринимались меры по возрождению объединения союзов в Порту [333]. Позднее Синдикальная палата труда в Порту была восстановлена. В этом северном городе анархо-синдикалисты, как признавали в 1931 г. коммунисты, «сохранили свои силы почти в неприкосновенности» [334].
В 1930 г. критическая экономическая ситуация еще более ослабила рабочее движение. В Порту власти объявили о запрете и роспуск семи профсоюзов. Цензура ужесточалась. Были закрыты издания анархо-синдикалистов «Вангуардиа операриа» и «Аурора». Удалось было возобновить выпуск газеты «А Баталья», но через несколько месяцев выпуск был прекращен из-за нехватки средств. Продолжала действовать Федерация строителей, которая проводила акции против безработицы, впрочем, без существенного успеха ВКТ пыталась организовывать регулярные первомайские выступлсния. 1 мая 1930 г. она призвала к проведению профсоюзных собраний и созвала публичные митинги в Белене (пригороде Лиссабона) и Порту Коммунисты приняли в них самое активное участие и смогли захватить лиссабонское мероприятие в свои руки [336]. Португальским анархо-синдикалистам приходилось, таким образом, вести изматывающую борьбу на всех фронтах — против диктатуры, против коммунистов и против реформистов.
Испанская НКТ: от вступления в МАТ до падения монархии
В начале 1923 г. испанская НКТ, представители которой не смогли принять участие в Учредительном конгрессе МАТ, решала вопрос о своем присоединении к Интернационалу. В газете «Солидаридад обрера» была опубликована статья, приветствовавшая создание Интернационала и присоединение к нему испанской организации [337]. Весной НКТ провела пленарную конферениию представителей регионов для обсуждения отношения к МАТ. Делегаты Астурии назвали изменения в статутах Профинтерна «уловкой Москвы» и предложили разослать резолюции Учредительного конгресса местным организациям конфедерации с тем, чтобы они в течение месяца приняли окончательное решение. Балеарские представители поддержали это предложение. Валенсийцы выступили за проведение референдума среди всех членов НКТ. В итоге участники пленума постановили опубликовать берлинские резолюции в печати в виде отдельной брошюры и после обсуждения их местными союзами принять решение на конгрессе, который должен был состояться в Мадриде в июне 1923 г. Делегаты заявили такжс о непризнании созданных коммунистами внутри НКТ «Комитетов революционного синдикализма», поскольку те нарушали синдикалистские принципы. Они призвали вести «интенсивную пропагандистскую работу в экономическом, революционном и идейном контексте» для того, чтобы противодействовать деятельности сторонников большевизма [338].
В свою очередь, коммунисты пытались мобилизовать к конгрессу своих сторонников. Руководство Коминтерна и Профинтерна рекомендовали всем членам Компартии Испании вступить в РСК. Контролировавшийся сторонниками Москвы Единый синдикат горнорабочих Астурии намеревался выдвинуть на конгрессе Н КТ предложение о присоединении к Профинтерну и договорился с рядом союзов в Странс Басков и Альмерии о совместном выступлении. Однако РСК, по их собственным признаниям, сталкивались с большими трудностями и просили Профинтерн выделить им необходимые средства для работы [339].
Противостояние с предпринимателями и властями тем временем продолжалось. 10 марта 1923 г. нанятые фабрикантами «пистолерос» убили генерального секретаря НКТ Сальвадора Сеги. В ответ в Барселонс вспыхнула всеобщая стачка протеста. Анархисты и анархо-синдикалисты решили ответить ударами на удар. Анархистские группы совершили нападение на охотничий союз Барселоны — место сбора предпринимателей и их наемников. Члены группы «Солидарные» убили одного из ведущих «пистолерос» Лангуию, бывшего губернатора Бильбао Х. Регераля (17 марта 1923 г.) и организатора «пистолерос» в Сарагосе кардинала Сольдевилу (4 июня 1923 г. ) [340]. Характерно, что сторонники коммунистов распростран или слухи, будто Сеги незадолго до смерти предлагал изучать российский опыт и призывал к установлению связей с Москвой. Национальный комитет Н КТ направил в опровержение этих утверждений открытое письмо Профинтерну [341].
Испанские анархо-синдикалисты активизировали работу среди сельского населения. В 1919—1920 годах в НКТ состояло около 150 тысяч работников сельского хозяйства [342]. В основном это были организации батраков и частично крестьян Андалусии, Валенсии, Арагона; Риохе и части Каталонии. Они тесно взаимодействовали с городскими синдикатами. Разумеется, сельские жители в большинстве своем не были сознательными анархистами. Однако, как отмечал видный синдикалист Эусебио Карбо, «в некоторых провинциях, к примеру в крупнейшей и наиболее важной части Андалусии, огромное большинство работников сельского хозяйства являются анархистами по разуму и чувствам». Анархо-синдикалисты и поддерживавшие их работники сельского хозяйства выступали против раздела земли на мелкие крестьянские хозяйства — парцеллы. Они опасались, что «парцеллирование... сохранит эгоистическую обособленность и исключительность личных или групповых интересов; оно не осуществит равенство и станет лишь источником вызывающих сожаление конфликтов и столкновений» [343]. В то же время большинство крестьян в Каталонии и некоторых других регионах оставалось «убежденными антисоциалистами» и сторонниками сохранения мелкой собственности [344].
20—23 апреля 1923 г. конгресс принадлежавших к НКТ сельскохозяйственных рабочих Каталонии, в котором приняли участие делегаты от 16 профорганизаций, постановил признать своей целью либертарный коммунизм. Делегаты постановили создать объединенные организации мелких крестьян и поденных рабочих и укреплять единство между трудящимися города и деревни, поскольку у них общие интересы. Обсудив вопрос о создании кооперативов, участники конгресса сочли эту кооперацию паллиативом, не устраняюшим бедствий существующего общества, и предоставили крестьянам возможность индивидуально принимать решение о вступлении в кооперативы, сочтя, что это «не дело профсоюза» [345].
Крупные масштабы приняла организованная анархо-синдикалистами стачка транспортников в Барселоне. Конфликт начался с протестов против увольнения двух портовых рабочих и быстро распространился. В знак солидарности с портовиками забастовали мусорщики, прекратился подвоз сырья и деталей на фабрики, предприятия стали останавливаться, и забастовка перерастала во всеобщую. При этом рабочие сохраняли высокую степень организованности и порядка: они намеренно избегали столкновений, демонстраций и покушений. Провокации хозяев и властей не удались. Власти признали, что не в состоянии очистить улицы города от мусора, и это было сделано под контролем профсоюзов. На медицинских машинах, проводивших дезинфекцию, были укреплены плакаты: «С разрешения единого синдиката». Рабочие отказывались разгружать товары и муку, если их доставляли не члены профсоюза. Порт Барселоны был парализован [346].
Комментируя положение в стране, Карбо замечал, что трудящиеся уже не требуют просто повышения зарплаты и сокращения рабочего времени, так как поняли, что частичные улучшения ничего не дают, и ведут борьбу против угнетения как такового. Стачка в Барселоне «удивляет, изумляет, оглушает. Она несет в себе официальное и торжественное обещание того, что мы находимся накануне великого переформирования общественных сил, что день такого преобразования очень близок... Повсюду люди вдыхают дух возмущения... Плоды непрерывной пятидесятоетней пропаганды, жестокого и твердолобого упрямства капитализма и кровавых правительственных преследований сегодня созревают» [347].
Выступление рабочих Барселоны было подавлено, но Н КТ быстро восстановила силы. «Хотя НКТ... и не смогла провести СОЦИальную революцию, для которой масса ее сторонников оказалась незрелой и неподготовленной, признавали впоследствии испанские анархо-синдикалисты, — тем не менее она была организацией с большой динамической силой... Государство и предприниматели познакомились с НКТ как со своим самым решительным и целеустремленным противником, который, применяя прямое действие, установил восьмичасовой рабочий день во всех отраслях промышленности и обеспечил трудящимся во многих областях, вплоть до сельских округов, многие права, — к примеру, право на продолжен ие выплаты зарплаты при несчастных случаях, контроль за приемом на работу и увольнением работников, участие в организации трудового процесса вообще и т.д.» [348]. В том, что касается тактики, испанские анархо-синдикалисты отвергали обычную для профсоюзов европейских стран практику выплаты бастующим шти уволенным пособий из профсоюзной кассы. В крайних случаях оказывалась помощь в форме сбора продуктов питания. Напротив, широко практиковались стачки солидарности [349].
К лету 1923 г. в НКТ сложились три противоборствующие тенденции. «Одна, исходя из неверно понимаемой революционной позиции, желала институционализировать тактику нападений в качестве формы борьбы и требовала, чтобы НКТ любой ценой поддержала эту линию. В оппозиции к этой группе стоял Анхель Пестанья, который на собраниях и встречах нападал на эти методы борьбы и характеризовал их как чуждые НКТ и анархизму. Наконец, большевики, состоявшие в конфедерации (Нин, Маурин, АРЛаНДИс), упорно и усердно пытались расколоть НКТ, противопоставляя ей Революционно-синдикалистские комитеты» [350]. Действия коммунистов вызывали гнев анархистов. Хоакин Маурин в письме в Москву утверждал даже, что одна из анархистских групп якобы даже намеревалась его «ликвидировать» [351]
Анархисты видели, что ни Пестанья, ни Пейро, ни большинство их сторонников «не обладают необходимыми качествами, чтобы противостоять трудным проблемам в Испании, — заявлял позднее анархист Гарсиа Оливер. — Тогда в воздухе висела возможность военной диктатуры... Мы даже указывали на то, что в течение трех месяцев может произойти государственный переворот абсолютистского характера; и, к сожалению, действительно была установлена диктатура, что подтвердило наши опасения» [352].
Ситуация в стане обострялась, на горизонте вставал призрак военного путча. Чтобы противостоять ему, движению были нужны деньги и оружие. Представитель «Солидарных» Гарсиа Оливер обсудил с членами Национального комитета НКТ планы проведения революционной всеобщей стачки в случае военного переворота. А. Пестанья жаловался на слабость НКТ: «Чтобы революция протекала победоносно, необходимо минимум 9070 организации, а мы не достигли еще и 5070... Сегодня единственный шанс противостоять государственному перевороту состоит в сотрудничестве всех сил, враждебных диктатуре. Но где эти силы? ВСТ не проявляет никакого интереса сопротивляться военному путчу». Тем не менее он пообещал, что НКТ будет «верна своей революционной традиции» [З53]. «Солидарные» заказали 1000 винтовок и захватили большую сумму денег при экспроприации банка в Хихоне I сентября 1923 г. [354].
Однако уже 13 сентября 1923 г. в стране была установлена военная диктатура генерала Примо де Риверы. В Мадриде анархисты и синдикалисты готовы были совместно выступить против переворота. Но социалисты отвергли сделанное к ним обращение с призывом к общему выступлению. В Барселоне анархисты и синдикалисты образовали Комитет действий, однако здесь акция сопротивления была сорвана из-за пассивной позиции 30 тысячного профсоюза металлистов НКТ, который отказался сотрудничать с «мелкими группами» анархистов и потребовал привлечения «умных людей», могущих разъяснить рабочим происходящие события [355]. В итоге дезорганизованные рабочие ответили на переворот слабыми, символическими демонстрациями. Национальный комитет НКТ призвал 14 сентября ко всеобщей стачке. Но она так и не состоялась [З56].
Диктатура ввела в действие декрет, изданный еще прежним правительством в марте 1923 г. и обязывавший все профсоюзы представить властям для регистрации свои уставы, документы и списки членов. Отказавшиеся сделать это подлежали закрытию. Местная федерация НКТ Барселоны отвергла распоряжение диктатуры и объявила об уходе в подполье, призвав трудящихся не следовать играм буржуазии и «врагов пролетариата». Однако барселонские синдикаты металлистов и транспортников подчинились требованиям властей, что вызвало ожесточенные разногласия в анархо-синдикалистских рядах. Противники регистрации добились созыва Каталонского регионального пленума НКТ в Матаро 8 декабря, на котором было принято решение создать новый региональный комитет, продолжить издание «Солидаридад обрера» и обсудить барселонские споры на внеочередной пленарной конференции. Большинство делегатов сионялось к легализации. 30 декабря пленум в Гранольерсе постановил провести перевыборы комитетов всех синдикатов города [357].
В разгар острого противоборства в конфедерации, 25 декабря 1923 г. были арестованы члены Национального комитета в Севилье во главе с Валиной. Новый комитет под председательством Хосе Грасиана был образован позднее в Сарагосе. В редакции «Солидаридад обрера» шла борьба между сторонниками легализации (Пестаньей и другими) и ее противниками (Буэнакасой, опиравшимся на синдикат деревообделочников Барселоны и отстаивавшим приверженность решениям конгресса конфедерации и либертарному коммунизму). В январе 1924 г. синдикат металлургов изменил свою позицию и высказался в пользу подполья. Его новый секретарь Херминаль Эсглеас, а также Буэнакаса и ряд других активистов движения были арестованы...
Положение оставалось неопределенным до весны 1924 г. Одни синдикаты оставались открытыми, другие предпочли уйти в подполье. В Барселоне анархисты создали Революционный комитет [358]. НКТ удавалось издавать «Солидаридад обрера» тиражом в 55 тысяч экзсмпляров, вспоминал испанский делегат Фраго, выступая на III конгрессе МАТ [359] . Однако репрессии нарастали. 24 марта 1924 г. в ходе широкомасштабной облавы в Барселоне полиции удалось конфисковать часть оружия и арестовать нескольких членов РевоЛЮЦИОННОГО комитета. После покушения 28 мая 1924 г., в ходе которою был убит барселонский палач, испанские власти официально закрыли синдикаты НКТ и газету «Солидаридад обрера» и арестовали свыше 600 ведущих активистов движения. 2 июня в Сарагосе были схвачены члены Национального комитета конфедерации [360].
С конца 1923 г. стали возникать испанские анархистские группы в эмиграции, ПРEЖДС всего во Франции. В началс 1924 г. ряд таких организаций, собравшись на конференцию в Лионе, постановил создать комитет связей, начать издавать журнал «Либсрион» и приступить к развертыванию активного «действия против утвердившейся диктатуры». Впоследствии оформилась Федерация испаноязычных анархистских групп. В Париже она создала издательство «Международная библиотека», где выпускался также журнал «Ревиста интернасьональ анаркиста». Секретариат федерации размешался во французской столице, а затем в Марселе [361]. Во Франции выходили газета «Либерасьон» (после запрета — «Иберион», редактор Либерто Кальехас) и еженедельник «Тьемпос Нуэвос» (редактор Валериано Оробон Фернандес, после запрета — «Ла Вос либертариа»). Большую помощь эмигрантам оказывали французские анархисты. Другими центрами эмиграции стали Лион, где работала комиссия анархистской защиты, и Марсель [362]. Позднее высланные из Франции в Бельгию испанские анархисты начали издание в Брюсселе газеты «Эль Ребельде», выходившей раз в две недели. К весне 1928 г во Франции существовало 60 местных групп и четыре провинциальных союза испанских анархистов... [363].
После репрессий в конце мая 1924 г синдикаты НКТ закрылись. Анархисты выступали против легальных действий в условиях диктатуры. Некоторые из них сосредоточились на издании журналов, имевших скорее теоретический характер («Ла Рсвиста бланка», «Хенерасьон консьенте» в Алькое, «Ла Ревиста нуэва» в Барселоне, «Новела идеаль») [364]. Отчасти они оставались важными центрами приТЯжНИЯ активистов. Внутри страны продолжал действовать комитет анархистских связеи [365].
Напротив, РСК и коммунисты стремились добиться открытия синдикатов и вели активную агитацию среди рабочих в этом направлении. Они заняли руководящие посты в союзе работников распределения Барселоны, вновь открыли под своим руководством синдикат работников транспорта. Делегация РСК приняла участие в работе 3-го конгресса Профинтерна и после возвращения в Испанию выпустила обращение к членам НКТ с призывом присоединяться к Московскому Интернационалу. 25 сентября 1924 г. три представителя коммунистической фракции провели встречу с лидерами НКТ Пестаньей и Пейро и настаивали на реШеНИИ об открытии синдикатов. Синдикалисты смогли убедить РСК отложить его на месяц [366]. Но новые события сорвали эти намерения.
Анархистское подполье в Барселоне в сотрудничестве с недовольными военными и каталонскими националистами и при поддержке эмигрантского центра в Париже разработало план партизанской борьбы в Пиренеях при одновременном восстании в Барселоне [367]. «Испанские радикально-буржуазные элементы, духовными лидерами которых были Унамуно и Бласко Ибаньес, и каталонские сепаратисты во главе с полковником Масиа также готовили заговор, находясь во Франции. У них имелись материальные средства, но недоставало мужества и решительных борцов. Поэтому они обратились к НКТ. Та заявила о своей готовности привести в движение свои силы и использовать свое влияние при условии, что получит оружие. Ей это пообещали, и бьша достигнута договоренность о формальном плане. Однако оружие не поступило, восстания не произошло тем более» [368].
Сотрудничество с националистами и буржуазными кругами вызвало недовольство и даже возмущение среди многих испанских анархистов и анархо-синдикалистов. На II конгрессе МАТ в марте 1925 г. делегат НКТ Карбо рассказал, что переговоры с каталонскими кругами касались совместной организации восстания: «каталонские националисты должны были предоставить оружие, НКТ — выставить отряды. Но поскольку каталонские националисты полностью взяли в свои руки техническое руководство предприятием и хотели навязать рабочим военную дисциплину, переговоры были затруднены». Анархо-синдикалистам пришлось формально согласиться, чтобы получить оружие. «Тем временем испанские анархисты, находившиеся во Франции, сделали полуофициальное заявление, в котором угрожали смертью как лидерам каталонских националистов, так и товарищам, стоявшим во главе НКТ. Националисты узнали об этом и прервали переговоры с нами», — сообщил Карбо [369].
Анархистское выступление в Барселоне было намечено на сентябрь 1924 г., но позднее отложено. 2 ноября положение было обсуждено на конгрессе, созванном эмигрантами в Лионе. Восстание готовилось в сотрудничестве с группами внутри страны и Национальным комитетом НКТ, который в этот момент возглавлял Кар60. Но несогласованность действий сорвала намеченные планы [37О]. Восстание вспыхнуло в ноябре в Барселоне и на франко-испанской границе, однако эта отчаянная акция закончилась поражением. Пять анархистов были казнены [371]. Множество активистов НКТ было арестовано, в том числе ведущие деятели НКТ Пестанья (позднее освобожден и возглавил подпольный Национальный комитет НКТ), Пейро, Абелья [372]. Во второй половине 1925 г. сообщалось о 24 смертных приговорах за 2 года (из них 8 — политических) и о том, что многие анархо-синдикалисты по-прежнему заключены в тюрьмы [373]. Однако подпольное сопротивление продолжалось. В апреле 1925 г. в Барселоне состоялась нелегальная Национальная конференция анархистов. Она поручила группам эмигрантов во Франции координировать связь между Испанским подпольем и заграницеЙ [374]. Конгресс анархистских групп в Лионе в июне, на котором была официал ьно оформлена Федерация испаноязычных анархистских групп во Франции, сопровождался острой полемикой между сторонниками и противниками сотрудничества с другими антидиктаторскими и антимонархическими силами; первым все еще удавалось одержать победу [375].
Примерно в этот период сложилось то своеобразное представление об анархизме и рабочем движении, которое было характерно для испанской НКТ и значительно отличалось как от ютассического революционного синдикализма с его тягой к «идейной нейтральности» и «самодостаточности», так и от концепции единства идейной и рабочей организации, которую ВЫдВИГиИ последователи аргентинской ФОРА. В известном смысле, руководители НКТ пытались сочетать вещи, соединимые с трудом, — организацию, открытую для «всех трудящихся», и влияние анархизма. «...Мы также хотим, чтобы наша НКТ в своей деятельности и своих целях вдохновлялась анархистскими принципами, — писал Карбо в отчете II конгрессу МАТ. — Но мы не хотим утверждать, что НКТ является анархистской. Анархистская организация... должна основываться на идейной общности, а не на организации, защищающей экономичсскис интересы, какой являются профсоюзы». Признавая, что «если духовные ориентиры рабочего движения не направляются социально-преобразующим идеалом», то такое движение станет лишь «вредным противовесом, опасной консервативной силой», Карбо призывал в то же самое время не смешивать анархизм и синдикализм, поскольку их функции различны. Руководство НКТ стремилось к тому, чтобы «постоянно повышать влияние наших взглядов и целей на все рабочее движение», но отвергало «гегемонию анархистских групп над пролетарской экономической организацией», как чисто анархистский «идеализм», так и чисто синдикалистский «материализм». Однако в испанском движснии было немало сторонников и этих полярн ых точек зрения, и с этим приходилось считатьс [376].
Приверженцы умеренной линии (Пейро, Пестанья и другие) сделали своей трибуной газету «Солидаридад пролетариа», орган Каталонского регионального комитета Н КТ в Сабаделле. Умеренные отстаивали идею независимости синдикального движения от идейных влияний. В манифесте Каталонского регионального комитета НКТ, опубликованном в январе 1925 г., указывалось, что конфедерация является «органом экономической классовой борьбы, в котором не навязывается принятие определенных идейных систем и уважаются все идеи». При этом Пестанья СИОНЯЛСЯ к концепции идеологической «нейтральности» профсоюзов, Пейро же предпочитал вести речь о «моральном, духовном и интеллектуальном влиянии» анархистов. Кроме того, умеренные возражали против «систематического злоупотребления подпольем», которое, по их мнению, препятствовало реорганизации синдикатов — намерению, впрочем, весьма иллюзорному в условиях диктатуры.
Пропаганда Пестаньи и Пейро вызвала возмущение среди радикалов, обличавших «командующих ВОЖДИШж и камарильи» [З77]. В конце концов, Каталонский региональный комитет прекратил выпуск «Солидаридад пролетариа», и Пестанья перенес свою публицистичсскую деятельность в издания, выходившис на северо-западе страны.
В июле 1925 г. в Валенсии был проведен общенациональный пленум НКТ. На нем были представлены делегаты от Галисии, Астурии, Каталонии, Балеарских островов, Валенсии и Андалусии. Большинство участников были отобраны анархистскими группами, но некоторые из валенсийских синдикатов были представлены коммунистами, которые защищали точку зрения компартии. Национальный комитет «в создавшихся обстоятельствах» отстаивал идею «коалиции сил с целью свергнуть Директорию» (военную диктатуру), и пленум постановил передать этот вопрос на рассмотрение региональных организаций конфедерации. Делегаты одобрили без дискуссии работу Национального комитета и его финансовый отчет [378].
Пленум признал, что Конфедерация находится в состоянии «организационного распыления», и ее сторонники мало поддерживают связь друг с другом. Тем не менее делегаты сочли необходимым восстановить структуру организации в виде отраслевых синдикатов и осудили попытки создать вместо них союзы по профессиям. Поскольку НКТ рассматривалась не только как профсоюзная, но и как революционная организация, было решено приступ ить к организации на низовом уровне «синдикалистских ячеек революционного действия». Установлена также новая система взносов [379].
Однако главным вопросом, который обсуждался на пленуме, стала проблема сотрудничества с другими политическими силами в борьбе с военной диктатурой. Предложенный для обсуждения манифест оговаривал, что «либеральное прошлое... мертво» и пролетариат должен действовать как «независимый класс», но заявлял о необходимости «объединить наши действия с действиями буржуазно-демократических левых сил с высокой этикой» для свержения Директории. По этому пункту повестки дня разгорелись острые споры между сторонниками и противниками пакта с «политическими элементами» [38О]. Коммунисты предложили создать «классовый фронт» в борьбе с диктатурой, но возмущенные анархисты заявили, что ни с социалистами, ни с коммунистами никакие альянсы невозможны: с первыми — «учитывая их предательскую политику», а со вторыми — поскольку их печать «ведет борьбу с анархиста В конечном счете было принято решение о том, что сотрудничество с другими силами возможно лишь при условии, что оно не ставит под вопрос идеалы Н КТ и что речь идет исиючительно о свержении военного режима революционными средствами. Что касается сотрудничества и координации действий с анархистскими группами, то принятая резолюция гласила: «Деятельность НКТ должна быть нацелена на объединение всех элементов рабочего класса революционного порядка, без различия нюансов».
Другие решения пленума также были направлены на расширение взаимодействия Конфедерации с различными социальными силами и течениями. Делегаты подтвердили важность аграрной проблемы и освобождения деревни, выдвинув требование экспроприации крупных земельных владений. Националистические движения в различных областях Испании были оценены как «факторы революции» и сопротивления государственной централизации и диктатуре, а потому делегаты одобрили лозунг самоопределения для каждого из регионов Иберийского полуострова. Осудив колониальную войну в Марокко, пленум высказал свою солидарность «с туземцами, ведущими борьбу за независимость».
Разойдясь с анархистской ортодоксией, пленум НКТ 1925 г., по существу, отказался от представления о том, что ближайшая реВОЛЮЦИЯ в Испании будет носить социально-анархистский характер. Исходя из предположения, что за свержением диктатуры последует установление буржуазной республики, делегаты одобрили программу «немедленных и связанных с обстоятельствами требований». Она включала: уничтожение монархии, экспроприацию крупных землевладельцев, уход Испании из Марокко, предоставление автономии испанским регионам, абсолютную свободу собраний, объединений и печати, освобождение политических и социальных заключенных, а также ликвидацию специальных полицейских и военизированных сил — «соматенов» и «гражданской гвардии». Две предлагавшиеся меры (создание военных трибуналов для разбирательства дел виновных в Марокканской войне и проведение суда над членами военной диктатуры) были рассчитаны «на момент революционного действия». Пункт о псресмотре системы заклада в ломбардах был оценен как «не адекватный нынешнему революционному моменту». В связи с невозможностью образовать Национальный комитет в Барселоне, делегаты пленума постановили сформировать его из представитслей региональных организаций, а в случае провала этого плана — разместить комитет в Хихоне [382].
В 1925 г. Революционный комитет, в который входила НКТ, превратился, по существу, в нечто в роде коалиционного органа с участием также каталонских националистов, коммунистов и автономных профсоюзов, примыкавших к Профинтерну [383]. Коммунисты стремились усилить работу среди членов конфедерации. Они пропагандировали идею «профсоюзного единства» и «единого фронта» и планировали созвать в сентябре 1925 г. в Бильбао или Сан-Себастьяне Национальный конгресс профсоюзов — сторонников единства, на который пригласили и приверженцев течения Пестаньи и Пейро [З84]. После привлечения на свою сторону массы членов НКТ, как писали испанские коммунисты в отчете Профинтерну 15 октября 1925 г., «можно будет представить себе разрыв единого фронта, и необходимо, чтобы инициатива разрыва исходила от руководителей НКТ» [385]. В свою очередь, некоторые сторонники независимости НКТ от политических партий образовали в Севильс «Синдикалистскую партию» [386].
Анархисты, продолжая работу в синдикатах, одновременно стрем ились оживить деятельность подпольных либертарных групп. Так, в конце 1925 г. по инициативе группы «Солнце и жизнь» был созван Каталонский региональный пленум анархистов, на котором образовались региональный и временный национальный комитеты связей. Члены Федерации анархистских групп в Испании провозгласили свое намерение действовать как внутри синдикального движения, так и вне его, «с полной независимостью» распространяя свои идеи [387].
В 1925 г. в Барселоне вновь имели место протесты против диктатуры, взрывы бомб [388]. Попытки организовать сопротивление не прекращались.
Анархисты Иберийского полуострова принимали меры по объединению своих усилий и определению соотношения между анархистскими группами и синдикалистскими профсоюзами. Стремление к созданию отдельной анархистской организации наряду с Н КТ объяснялось рядом причин. Прежде всего в Испании во времен бакунистской секции I Интернационала существовала традиция тайной анархистской организации («Альянса») внутри более массового либертарного движения синдикалистского типа. Такая организация должна была служить своего рода «щитом... причем как в области революционной обороны от государственных репрессий, так и в теоретическом отношении», следя за тем, чтобы «активность рабочих не ВЫЛ ИМСЬ в чисто профессиональное профдвижение, которое боролось бы только за простое улучшение жизни рабочих» [389]. С другой стороны, среди анархистов росли опасения, что в НКТ может возобладать «чистый» синдикализм, готовый отказаться от анархистских принципов ради сотрудничества с другими политическими силами, особенно в условиях борьбы с диктатурой. По вопросу о взаимоотношении между «специфическим» анархистским движением и анархо-синдикалистскими профсоюзами существовали значительные разногласия, которые обострились еще больше во второй половине 1920-х годов.
Это было связано с тем, что в руководстве НКТ усилилось «реформистское» крыло. Его представители, стремясь к достижению договоренности с антидиктаторскими политическими силами, ратовали за известную «деанархизацию» и «профессионализацию» синдикалистского движения. Манифест, подписанный Пейро и 2 другим активистом анархо-синдикалистского движения и опубликованный в 1926 г. в газете «Ла Вида синдикаль», призвал к реорганизации и легализации НКТ и подготовке создания отраслевых организаций [З90]. Пейро полагал, что в ответ на концентрацию и централизацию капитализма (создание трестов и т.д.) синдикализм сам должен перестроить свою организацию в соответствии с тем же принципом, на основе отраслевых федераций. Национальный комитет таких федераций и Национальный экономический совет стали бы затем, после революции, органами управления хозяйством и планирования на основе статистики. В тактическом плане такая переориентация предусматривала больший упор на профессиональную борьбу и признание законов о труде капиталистического государства. Пейро считал, что такая экономическая организация является самодостаточнои [391]
Развивая эти взгляды, Х. Пейро опирался на распространенные и среди испанских либертарисв продуктивистские представления. «...Мы более всего заинтересованы в том, чтобы как сельское хозяйство, так и промышленность достигли максимальной степени развития и чтобы созданные буржуазией средства транспорта и производства были как можно более совершенными, так чтобы при переходе этих необходимых экономических факторов в наши руки их на 60лее короткий или долгий срок было достаточно для революции. А это совпадение между интересами экономики и революции...» — объяснял, например, видный анархо-синдикалист Карбо [392].
Испанские анархисты не были едины в том, как следует реагировать на такое изменение курса. Некоторая часть из них склонялась к модели анархистского рабочего движения по типу аргентинской ФОРА (эту модель в Испании 20-х годов активно пропагандировал Диего Абад де Сантильян) [39З]. Как подчеркивает Хуан Гомес Касас, известный исследователь анархистского движения на Иберийском полуострове, фористские идеи и статьи, публиковавшиеся в аргентинском органе «Ла Протеста» (особенно Лопеса Аранго и Абада де Сантильяна), оказывали в 1926—1927 годах весьма сильное влияние на испанское анархо-синдикалистское подполье, вероятно, даже большее, чем влияние со стороны эмигрантских групп во Франции [394]. Рупором этих радикальных анархистов стала издававшаяся в 1925—1926 годах газета «Эль Продуктор». Ее основал в октябре l925 г. в Бланесс М. Буэнакаса; в январе 1926 г. газета выходила в Барселоне. Она выступала не за то, чтобы открыть широко двери НКТ для анархистских активистов, а за то, чтобы все рабочие, состоявшие в конфедерации, разделяли конечную цель торжества либертарного коммунизма, а повседневные действия движения отражали эту цель как в тактике, так и в структурном отношснии. Издание ратовало за движение, основанное на принципах анархизма, а не просто следующее экономическому материализму синдикализма. Это не мешало ему поддерживать стачки и борьбу за улучшение материального положения трудящихся. Среди авторов «Эль Продуктор» были такие влиятельные анархисты, как Мигель Хименес (секретарь Национального комитета анархистских связей и один из создателей Федерации анархистов Иберии в 1927 г.), Васкес Пьедра (член Национального секретариата Федерации анархистских групп вплоть до учреждения Федерации анархистов Иберии в 1927 г.), Жозеп Р. Магринья, Хосе Альберола, М. Буэнакаса.
Аргентинская «Ла Протеста» с одобрением перепечатала в марте 1926 г. заявление группы 74 анархистов, заключенных в тюрьме Барселоны, которые выражали свое твердое намерение «распространять анархистский идеал в синдикальном движении» и обогащать его содержание с тем, чтобы трудящиеся «в своих синдикатах сопротивления и в прямом действии» боролись за эмансипацию. А Альберола опубликовал в мае 1925 г. на страницах той же газеты статью с призывом к реорганизации синдикатов на открыто либертарной основе после падения диктатуры. Такие рабочие союзы должны были не только продолжать экономическую борьбу, но и вести работу по «социальному образованию масс на основе либертарной этики и либертарного разума» [395].
Другие либертарии подчеркивали разницу между анархизмом и синдикализмом. В этом духе высказался, например видный активист НКТ из Астурии Элеутерио Кинтанилья, посвятивший этой теме серию статей в хихонской газете «Нороэсте» в январе 1926 г. Испанский комитет анархистских связей выводил из этого мысль о необходимости отдельной организации анархистов, о чем говорилось в его манифесте в середине 1924 г. В конце того же года в новом манифесте комитета было подчеркнуто: «Жизненно важно, чтобы синдикализм развивался и действовал в связи с нами, тем же самым путем и с той же независимостью, которую мы, как организация, имеем в отношении его. Необходимо не смешивать возвышенный человеческий идеал с идеей, которая связана лишь с [определенным] НКТ рассматривалась как классовая экономическая организация, действующая в рамках капиталистической системы, а анархистская оргаНИЗаЦИЯ — как «политическая», имеющая более широкое поле действия, чем одна лишь экономика. Эта идея была поддержана и на подпольном Национальном анархистском конгрессе в Барселоне в 1925 г. Кроме того, в конце 1925 г. Комитет анархистских связей, созданный испанскими либертарными эмигрантами во Франции, подверг критике «Эль Продуктор» за агитацию в пользу анархистского рабочего движения. Он заявил, что сейчас «неподходящий момент для бесплодных теоретических дискуссий»: «Не время для расколов, подчеркивания разногласий и создания сепаратной организации... Пойдем туда, где пролетариат, то есть в НКТ. Мы не желаем откалываться от нее». Однако комитет предупреждал, что поддержка НКТ не означает согласия с реформизмом; анархисты намерены обличать «любые попытки злоупотреблять доверием масс» и не позволять конфедерации отклоняться от цели либертарного коммунизма. Ведущим соображением при этом было стремление сохранить единство либертарных рядов [396]
Сторонники этой точки зрения полагали, что идейным анархистам необходимо стать «животворным ферментом» в НКТ и повлиять таким образом на ее курс с помощью так называемой «связи» между органами анархистского и синдикалистского движения. Члены группы «Солидарные» ориентировались в большей степени не на образование структур, а на активизацию работы «в низах» движения. Считая Испанию средоточием социальных противоречий, они пришли к выводу, что страна вполне созрела для социальной революции и ее можно продвинуть вперед с помощью революционного активизма («революционной гимнастики») [397].
В 1926 г. Пестанья был освобожден из заключения, но вновь арестован, когда намеревался выехать во Францию на учредительный съезд РС ВКТ [398]. Испанский анархо-синдикализм сохранил значительные силы, но деятельность НКТ в существенной степени была парализована борьбой между «реформистами» и твердыми анархистами — сторонниками «Эль Продуктор». В начале 1926 г. конфедерация сохраняла все свои региональные федерации, только в Ла-Манче имела лишь одну окружную федерацию. Национальный комитет НКТ во главе с Авелино Гонсалесом Мальядой находился в Астурии, в Хихоне, где издавался журнал «Солидаридад обрера». Астурийская федерация включала около пяти тысяч членов и имела секции во многих городах. В них входили металлурги (Овьедо, Хихон, Ла-Фельгуэра), транспортники (Овьедо, Хихон), строители (Овьедо, Хихон, Ла-Фельгуэра, Леон), электрики, газовики, рабочие пошивочной промышленности (Хихон) и др. В области преобладали сторонники Пестаньи, Пейро и Кинтанильи, но в Овьедо, Сианьо, Туроне, Блимеа, Ухо и Мьересе было сильно влияние коммунистов; их присутствие ощущалось также в Куэнкаде-Альер, Ла-Фельгуэре, Саме и даже в Хихоне. В Галисии конфедерация объединяла 4,5 тысячи рабочих и действовала прежде всего в провинции Ла-Корунья; ес секции имелись в провинциальной столице, в Сантьяго, где располагался региональный комитет и издавалась газета «Солидаридад обрера», в Эль-Ферроле, Виго, Марине и Ой. Здесь также преобладали «реформисты», стремившиеся реорганизовать Н КТ, подготовить национальную конференцию и легализацию синдикатов; росло и воздействие коммунистов. В Стране Басков, напротив, наибольшим влиянием пользовались непримиримые анархисты, возглавлявшие региональный комитет в Бильбао. В большинстве местностей, кроме Сантандера, члены конфедерации были организованы не в синдикаты, а в подпольные «группы рабочих анархистов», платившие конфедеральные взносы.
В движении имелись также синдикалистское меньшинство и некоторое число коммунистов в Сестао и Бильбао. В Каталонии шла острая борьба между группой Пестаньи и Пейро, издававшей газету «Ла Вида синдикаль», и приверженцами «Эль Продуктор». Окружные организации НКТ действовали в Манреса, Сабаделе, Матаро, Гранольерсе. Сан-Фелиу-де-Гишольсе, Жероне, Лериде, Таррагоне и др., причем в трех последних влияние анархистов сокращалось. В Барселоне большинство синдикатов оставалось закрыто; в ассоЦИаЦИИ текстильщиков преобладали синдикалисты. Синдикалисты и коммунисты контролировали также несколько автономных обществ транспортников. В Валенсии, где региональная федерация официально объединяла до семи тысяч членов, большая часть профсоюзов, по существу, не платила конфедеральные взносы и не поддерживала регулярной связи с комитетом. Исключенис составляли лишь секции в Рибарроха (50 членов) и Бурриана, металлурги в Кастельоне-де-ла Плана, шляпники, пекари и работники бумажной промышленности Валенсии. Окружная организация в Чива, насчитывавшая около тысячи членов, возглавлялась коммунистами. На Балеарских островах в НКТ состояли 400 человек — главным образом металлурги и другие рабочие в Пальме и трудящиеся города Маон. В Арагоне, Ла-Риохе, Андалусии и Мадриде деятельность конфедерации, как утверждали коммунистичсскис источники, была бессвязной и неэффективной, причем в Андалусии укреплялось влияние компартии. Ее члены смогли возглавить местную федерацию НКТ в Севильс [399].
Озабоченность анархистов вызывала растущая активность коммунистов в НКТ. Выступая под лозунгом «профсоюзного сдинства», активистам компартии удалось привлечь к идее подготовки конференции единства в Сан-Себастьяне 47 автономных профсоюзов, 11 союзов ВСТ и 19 синдикатов НКТ. Среди организаций конфедерации, выступивших в 1926 г. в поддержку объединения профсоюзов, оказались Единый профсоюз горняков (Мьсрас, Астурия), союзы металлургов, строителей, транспортников и работников служб (Овьедо, Астурия), федерация рабочих обществ Хихона (Астурия), общества механиков и кочегаров (Марин, Галисия), официантов, каменщиков, возчиков, строителей, один из профсоюзов в Сантьяго (Галисия), союз транспортников Страны Басков, союз металлургов Пальмы (Балеары), профсоюзы каменщиков (Аликанте, Валенсия), строителей (Эльче, Валенсия), единый профсоюз трудящихся Буньеля ( Валенсия), окружная федерация в Чива (Валенсия), а также профсоюзы и федерации из Барселоны, Лериды, Жероны и Таррагоны 400. Правда, конференцию единства так и не удалось созвать, но это не помешало дальнейшей работе компартии в профсоюзах. В провинции Паленсия (Кастилия) были образованы «Комитеты революционных синдикалистов» в 10—12 городах, в Барселонс они действовали в полиграфической ПРОМЫШленности, металлургии, строительстве и на транспорте. В области Валенсии влияние коммунистов росло в Алькое и Винаресе [401].
Национальный пленум НКТ в 1926 г не привел к существенному изменению в соотношении сил между анархистским и синдикалистским крылом в конфедерации, хотя привел к некоторому отступлению Пестаньи. От имени МАТ в работе пленума принимал участие итальянский анархо-синдикалист Борги, и испанские комМУНИСТЫ докладывали в Профинтерн, что анархо-синдикалистский Интернационал, «как кажется, не поддерживает Пестанью». Обсудив вопрос о продлении единого фронта в борьбе с диктатурой Примо де Риверы, пленум подтвердил намерение помогать акциям по свержению режима, но постановил до августа 1926 г. принять меры, чтобы восстановить самостоятельность действий НКТ. На заседаниях присутствовал и представитель армейского подполья, и конфедерация постановила направить делегата, чтобы сообщить Революционному комитету о своих решениях [402]. Борьба между течениями в движении продолжалась.
В апреле 1926 г. полиция схватила многих рабочих активистов по всей стране; «Ла Вида синдикаль» и «Эль Продуктор» прекратили выходить, Буэнакаса вынужден был провести в заключении два месяца. Новые попытки свержения диктатуры вызвали очередную волну преследований. 24 июня 1926 г. провалился заговор, в котором приняли участие оппозиционные военные, политики и некоторые члены НКТ («Ночь Св. Хуана»). За этим последовали аресты; в Хихоне были задержаны Кинтанилья, Ф. Герреро, Б. Фанхуль и др. В августе Д. Масачас безуспешно пытался убить Примо де Риверу ножом. Еще одно дело («заговор моста Вальекас»), по которому были арестованы видные анархо-синдикалистские активисты, как утверждают, явилось в значительной мере полицейской провокациеи [403].
Весной и летом 1926 г. анархисты-эмигранты разрабатывали план подготовки покуШеНИЯ на испанского короля Альфонса XIII. Однако в июне 1926 г. французская полиция произвела обыски у 200 испанских эмигрантов. Б. Дуррути, Ф. Аскасо и Грегорио Ховер, у которых были обнаружены запасы оружия, были арестованы. Испания потребовала их выдачи. То же самое сделало аргентинское правительство в связи с организацией ими ряда экспроприаций банков на территории Аргентины. В октябре 1926 г. в Париже Ф. Аскасо был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, Дуррути — к трем и Ховер — к двум месяцам тюрьмы.
Анархисты развернули активную кампанию против выдачи трех испанских анархистов и за их освобождение. Была развернута агитация в анархистской прессе Франции. Международный анархистский комитет защиты, созданный в Париже для организации защиты Сакко и Ванцетти, создал специальный комитет «Убежище для Дуррути, Аскасо и Ховера». Под его эгидой с октября 1926 г. проводились массовые митинги. Адвокат Л. Лекуан обеспечивал юридическую сторону дела и контакты с депутатами. Митинги состоялись также в Аргентине. 8 июля 1927 г. трое анархистов были освобождены [404].
Я вный провал стратегии совместных действий с антидиктаторскими политическими силами и очевидное усиление реформистских тенденций среди части НКТ усилили артументы радикальных анархистов. В мае 1926 г. в Марселе был проведен конгресс Федерации испаноязычных групп во Франции, в котором приняли участие делегаты от испанских анархистов, португальской ВКТ, Анархистского союза Португалии, а также делегат МАТ и УСИA. Борги и представитель Национального комитета НКТ. Обсуждались проблемы реорганизации анархистских сил в Испании и Франции, отказ от тактики «революционного альянса» (союза с политическими партиями в борьбе с диктатурами), усиление работы Комитета поддержки политзаключенных. Представитель Португалии М. Ж ди Соуза, поддержанный представителем Испании М. Пересом, предложил создание «объединенного иберийского анархистского движения». Было решено создать комитет по связям этого движения со штаб-квартирой в Лиссабоне и подготовить проведение Иберийского конгресса. Однако переворот в Португалии нарушил эти планы.
В ноябре 1926 г. диктатура издала закон о национальной корпоративной организации, который предусматривал создание соответствующих организаций в сфере труда и смешанных комиссий под контролем властей. Он еще раз продемонстрировал, что легализация НК Т невозможна, без отказа ее от своих основополагающих принципов и целей. Пестанья в статье, опубликованной 9 июля 1927 г. в газете «Аксьон сосиаль обрера», призвал ради реорганизации профсоюзов сделать «уступки, которые на нас налагают обстоятельства» и действовать по ситуации, сложившейся в каждом отдельном районе. Но на сей раз даже Пейро счел, что его товарищ зашел слишком далеко. Со страниц той же газеты он еще 28 мая 1927 г. заявил: «Или реформизм — или отсутствие организации, по крайней мере, в Барселоне... Я предпочту без реформизма и без организации». Острый спор между обоими произошел на профсоюзном собрании в Барселоне, где Пестанья настаивал, что созданные государством паритетные органы нс противоречат принципам НКТ [405].
В 1927 г. НКТ приступила к реорганизации в эмиграции. Группа эмигрантов опубликовала в «Тьемпос нуэвос» статью с призывом к находящимся в эмиграции членам НКТ объединиться и оживить организацию, выпустить новые членские билеты, начать собирать и использовать членские взносы. Одновременно они призвали испанских анархо-синдикалистов во Франции вступать а РС ВКТ [406]. Осенью группы НКТ во Франции выпустили призыв ко всем членам НКТ с целью ее возрождения [407].
Стремясь преодолеть разногласия между активистами, собрание членов Н КТ постановило объединить силы и создать «испанские отделения профсоюзного движения во Фран(испанские секции). Были налажены связи с Административным комитетом РСВКТ, который предоставил испанцам «моральное членство» в своей организации [408].
Одновременно анархистская эмиграция готовилась к организации новых выступлений в странах, где царила диктатура, — в Испании и Италии. С этой целью в 1927 г. был организован Комитет револ юцион ных действий.
Вопрос о соотношении анархистских групп и синдикалистской организации обсуждался 20 марта 1927 г. на нелегальном пленуме анархистских групп Каталонии. Участники постановили, что и анархистские группы, и анархо-синдикалистские профсоюзы должны вести анархистскую работу, но между ними должно существовать разделение функций: «Синдикаты могут заниматься в особенности: приемом трудящихся, их борьбой против хозяев и любой власти и анархистской пропагандой среди них, пополняя их знания и действия. Для групп: прием студенческих, женских и т.п. элементов, вся работа по прозелитизму, антимилитаристская работа, подрывная работа» [410].
25—26 июля 1927 г. в Валенсии состоялась подпольная учредительная конференция Федерации анархистов Иберии (ФАИ) с участием делегатов от Секретариата по связям Национальной федерации анархистских групп Испании, Португальского союза анархистов, региональных федераций групп Леванта (Валенсии) Андалусии, Каталонии (включая делегацию барселонской группы «Солнце и жизнь», получившую полномочия от регионального пленума), провинциальных федераций Кастельона, Аликанте, местных федераций фанады, Эльды, Севильи, Мадрида, Валенсии (группы «Молодые бунтари», «Культура и действие», «Свет и жизнь», «Факел», «Беспокойные», «Стрелец», «Кузнецы идеи», «Шаг к истине», а также отдельные активисты), региональных конфедераций НКТ Каталонии и Леванта. Присутствовали также представители Федерации анархистских групп района Сены (Париж, Франция) и Международного анархистского секретариата из Парижа. Местная федерация групп Малаги передала полномочия группе «Кузнецы будущего» из Марселя. Не смогли принять участие в работе конФеренции, но заявили о своей поддержке ее Национальная федерация ИСПаНОЯЗЬIЧНЫХ анархистских групп во Франции, местные федерации анархистских групп Сарагосы и Сан-Хуан-де-Лус, ВКТ Португалии и газета «А Баталья», Секретариат МАТ, Анархистский коммунистический союз Франции и газета «Лё Либертэр», Антимилитаристский Интернационал и Международное антимилитаристское бюро, региональные федерации анархистских групп французских департаментов Восточные Пиренеи, Од и Арьеж, анархистская группа «Нарождающиеся цветы» (Тулуза), Комитет анархистских групп в поддержку заключенных Бискайи, издания «Культура пролетариа» (Нью-Иорк), «Аксьон сосиаль обрсра» (Сан-Фелиу-де-Гишолс), «Ла Ревиста бланка» (Барселона) и отдельные активисты из Каталонии, Севильи, Ла-Линеа, Тулузы и с Балеарских островов. Делегаты постановили образовать Иберийскую анархистскую федерацию в составе испанской федерации, португальского союза и Федерации испаноязычных групп во Франции. Деятельность групп должна была координироваться региональными комитетами связи и Полуостровным комитетом. Функции последнего временно были переданы Португальскому анархистскому союзу, а полномочия испанского комитета — группам Севильи [411].
Решения конференции по рабочему вопросу стали своеобразным компромиссом между сторонниками «анархистского рабочего движения» в духе ФОРА и приверженцами существования особой организации анархистов [412].
Создатели ФАИ отвергли революционно-синдикалистскую идею единства рабочего пасса на основе экономических интересов, помимо всякой идсологии, и высказались за разделение функций между анархистскими и синдикалистскими организациями. Они заявили, что «единство класса невозможно, что синдикализм, добиваясь его, потерпел неудачу и поэтому необходимо стремиться к анархистскому единству». Анархисты провозгласили: «... Рабочая организация существует не только для того, чтобы добиваться массовых улучшений»; необходимо бороться за полное освобождение, и «поскольку оно возможно при безвластии, то должно быть осуществлено посредством анархизма». Отсюда следовал лозунг: «Вернуть рабочую организацию к анархизму, как это было до роспуска Испанской региональной федерации, и [параллельно] должна сформироваться анархистская организация, состоящая из групп. Затем следует сгруппировать обе организации, поскольку анархистскос движение не может заниматься всеми иными проблемами, оставляя в стороне экономические».
Делегаты выступили за то, чтобы анархистские группы, их федерации и Полуостровной комитет предложили синдикатам и Национальному комитету НК Т провести местные, окружные, региональные и национальные пленумы или собрания обеих органиЗаЦИЙ и — во избежание параллелизма — включить синдикальную организацию в общее анархистское движение и его структуры. Должны были быть образованы федерации анархистских групп и синдикатов на всех уровнях с соответствующими органами Общими советами. ФАИ постановила образовать Комитет действия и Комитет поддержки заключенных с участием Н КТ и групп. В принципе испанские анархисты выступили за проведение международной конференции по объединению МАТ и международных организаций анархистов в «единый анархистский Интернационал» [413].
Такая система получила название «связки» («трабасон»). Цель ес состояла в том, чтобы связать вместе организации и придать этой связи форму. При этом слияния анархистской и синдикальной организации не предполагалось; они не должны были ВМСШИВиЬся в дела друг друга. «Связка... предполагает лишь сближение... , вза имопонимание с этой организацией НКТ. Мы ни в коем случае не считаем, что это наиболее адекватнос или практичное средство осушествления того, что мы называли анархистским рабочим движением», говорилось в решениях конференции. Хотя «связка» и не была анархистским рабочим движением, она задумывалась с намерением обеспечить теснейшее взаимодействие между синдикалистской и анархистской организацией [414].
Учредительная конференция ФАИ решила не возражать против создания потребительских и производственных кооперативов и аграрных коммун, но сохранять автономию анархистов в ОТНОШСнии таких экспериментов.
Важнейшим вопросом для испанских анархистов оставалось сопротивление против диктатур в Испании и Португалии. Было РеШСно развернуть постоянную агитацию среди населения с тем, чтобы способствовать возникновению народного движения в «либертарном духе». Делегаты подтвердили решение Марсельского конгресса испанских анархистов 1926 г., который постановил «не поддерживать никакого пакта, сотрудничества или взаимопонимания с политическими элементами» и взаимодействовать исключительно с НКТ. В то же время анархисты намеревались принять участие в любом перевороте, «стремясь вырвать его из-под руководства политиков и вызвать народное действие для разрушения всех властей и свободной организации жизни» [415].
Хотя ФАИ провозгласила «связку» между анархизмом и синдикалистским движением, она не собиралась принуждать к ней НКТ. Однако она надеялась, что это решение встретит поддержку в рядах конфедерации, и играла важнейшую роль в начавшемся в 1927 г. процессе реорганизации НКТ. В манифесте, выпущенном комитетом ФАИ в январе 1928 г., говорилось: «Анархизм — это не движение философской критики и не должен быть таковым. Наше движение должно быть связано с народом во всех его организациях и ориентировать их, чтобы превратить в латентный бастион и действительный передовой пост посреди капиталистического общества и чтобы позаботиться об укреплении их газет, не на синдикалистский, а на такой лад и так широко, чтобы способствовать созданию анархистской силы, которая сможет стать гирей на чаше весов во всех политических и социальных событиях, на благо человечества, а не исключительно одной политической партии, как бы она себя ни называла.
В ноябре 1927 г. на региональном пленуме Каталонской федерации НКТ в Сабаделле был создан Региональный комитет революционного действия из представителей ФАИ и Каталонской организации НКТ [417]. Сообщалось, что в Испании также действуют группы НКТ, готовясь к грядущей революции. Они вели борьбу с диктатурой, социал-реформистами и коммунистами и готовились к возобновлению выпуска газеты «Солидаридад 06pepa» [418].
В то же самое время, сопротимяясь диктаторскому режиму, испанские анархо-синдикалисты не стремились к утверждению демократии. «Если внимательно изучить демократию и диктатуру по их сути, то придешь к заключению, что цель обеих одна и та же: поддержание капиталистического господства, — писал Оробон Фернандес. — Обе системы обусловливают друг друга: различие существует только в названии и в методах. Нынешняя демократия — это более утонченная, хитрая тактика буржуазии, которая с помощью введения в заблуждение, духовного обмана и мнимых уступок пытается помешать развитию оассового сознания трудящихся масс... Когда же демократический миф отыгран или оказывается под урозой, тогда приходит диктатура, чтобы установить порядок...» [419].
Весной 1928 г. бюллетень МАТ сообщал о новом подъеме синдикалистского движения в Испании. 300 членов организации еще находились в тюрьмах. Однако НКТ удалось провести 15—16 января 1928 г. конференцию в Мадриде. На ней обсуждались отношения с Федерацией анархистов Иберии (ФАИ), реорганизация НКТ и помощь политзаключенным.
На первой же сессии делегат ФАИ призвал реорганизуемую конфедерацию принять принципы анархистского рабочего движения. Призыв был отклонен, поскольку другие делегаты сочли, что идеологические вопросы лучше обсуждать в более «подходящий момент». Такое обсуждение было отложено до следующего конгресса НК Т. Однако делегаты сочли целесообразным сотрудничество и взаимодействие с ФАИ, поскольку у них общая основа — либертарный коммунизм. Во всех местах должны быть образованы совместные комитеты революционного действия НКТ—ФАИ. Тем самым Мадридская конференция поддержала «связку», согласившись с созданием Национального комитета революционного действия в Барселоне и Национального комитета по вопросу заключенных в Мадриде. Оба комитета должны были состоять из членов ФАИ и НКТ.
В целях реорганизации Н КТ было решено ввести единые членские взносы. Участники постановили распространить деятельность Комитета помощи заключенным на всю страну. Было решено, что газета «Солидаридад обрера» будет издаваться в Виго, а новый Национальный комитет НКТ — размещаться в Барселоне. Секретарем НК пленум избрал Хуана Пейро. Находясь в Барселоне, он должен был поддерживать тесные контакты с Комитетом революционного действия. Была достигнута договоренность о том, что, если новый комитет не сможет работать, он будет переведен в Севилью — штаб-квартиру ФАИ [420].
В Национальный комитет революционного действия вошли Армандо Арталь, Педро Канет, Сантьяго Алонсо и Антонио Бланко. В целом он находился под контролем анархистов [421].
Разъясняя принятые решения, НК НКТ подчеркивал в марте 1928 г., что сотрудничество между НКТ и ФАИ «не означает смешивания задач обеих организаций»: «Профсоюзный вопрос находится в исключительной компетенции НКТ, — писал НК комитету испанской секции ФАИ. Однако если положение окажется таким, что будет допускать поддержку ФАИ, и будет иметься далее проблема, которую вследствие ее непосредственно революционного характера можно будет назвать политической, то будет естественным и логичным, что отсюда последует тесное сотрудничество обеих организаций на равноправной основе» [422].
В свою очередь, ФАИ не стала настаивать на расширении «связки» на другие области деятельности, о чем сообщила в открытом письме, направленном испанской секцией ФАИ местной Федерации анархистских групп Валенсии. Валенсийские анархисты находились в конфликте с региональной организацией НКТ после того, как в феврале 1928 г. они попытались на встрече с представителями НКТ добиться применения принципа «связки» при выборах членов Регионального комитета НКТ. Валенсийская федерация анархистских групп обвинила региональную организацию НКТ в том, что она оказалась в руках «республиканских синдикалистов», врагов ФАИ, а НКТ Валенсии жаловалась, что анархистская федерация пытается навязать ей свои идеи. Каталонские анархисты Мигель Хименес и Жозеп Льоп разъяснили, что валенсийцы неверно истолковали решения мадридского пленума о сфере применения «связки». ФАИ заявляла в письме, что «связка» не должна выходить за рамки революционного дсйствия и солидарности с затюченными и распространяться на действующие региональные комитеты НКТ. Что касается Португальского анархистского союза, вошедшего в ФАИ, то он не одобрил принцип «связки» [423].
Итоги пленума Н КТ и перспективы взаимоотношений между анархистскими группами и анархо-синдикалистским движением обсуждались в марте 1928 г. конгрессом Федерации анархистских ИСПаНОЯЗЫЧНЫХ групп во Франции в Лионе. Некоторые анархисты (Бруно Каррерас и др.) выступали в поддержку создания организаций Н КТ во Франции и вступления туда эмигрантов. Другис (включая «Солидарных») полагали, что перед эмигрантами не стоят сугубо профсоюзные вопросы. После бурных дискуссий конгресс рекомендовал группам поддержать деятельность активистов НКТ [424].
Вопрос о «связке» и взаимоотношениях между Национальным комитетом Н КТ, ФАИ и Комитетом революционного действия обсуждался на национальном пленуме НКТ в Барселоне 29 июня 1928 г. Разгорелся острый спор о соотношении анархизма и революционного синдикализма. Представители ФАИ высказались за равноправное сотрудничество всех трех комитетов, некоторые выступили против, настаивая, как галисийские делегаты, на полной самостоятельности Национального комитета НКТ.
Национальный комитет соглашался с тем, что его члены должны «пользоваться абсолютным доверием, с анархистской точки зрения», но при этом комитету надлежало обрести полную независимосты Между различными комитетами должна была существовать «тесная связь в революционных и идейных вопросах», но во внутрипрофсоюзных вопросах сохранялась «полная независимость Национального комитета». Комитет революционного действия согласился с этой позицисй. Делегат ФАИ настаивал на сохранении принципа «связки», не уточняя, должен ли он распространяться на все вопросы или только на область организации РСВОЛЮЦИИ. В концe концов, пленум постановил, что Национальный комитет НКТ должен быть независимым только в вопросах, представляющих интерес лишь для профсоюзов.
В итоге участники единогласно приняли резолюцию, в которой заявлялось о независимости ФАИ и НК Т друг от друга при совместном образовании ими Комитета революционных действий и поддержке его работы. В резолюции отмечалось, что после возвращения к нормальному состоянию Комитет рсвотоционных действий будет не нужен и обе организации смогут самостоятельно работать каждая в своей сфере. Был одобрен отчет Комитета помощи политзаключенным [425].
Как явствует из письма Национального комитета НКТ к ФАИ (июль 1928 г.), конфедерация желала, чтобы анархисты участвовали в се реорганизации, а анархизм был определяющей силой в развитии анархо-синдикалистского движения. «Мы не хотим выбросить анархизм из конфедерации, — говорилось в письме, — напротив, мы хотим, чтобы именно анархисты всегда направляли и вели рабочее движение, представленное в Испании НКТ... Это побуждает Национальный комитет стремиться видеть всех анархистов Испании в НКТ, так чтобы та никогда не уклонялась от своих принципов» [426].
Барсслонская конференция, во изменение решения конгресса 1919 года и в соотвстствии с решением ll конгресса МАТ, высказалась за создание отраслевых федераций, которые могли бы объединяться с отраслевыми федерациями других стран. Вплоть до окончатсльного решения, которое должен был принять конгресс М АТ, намечалось образовать отраслевыс комитеты. Новым секретарeм НК вместо Пейро был избран Анхель Пестанья [427].
Призывы к единству анархистов были с энтузиазмом восприняты испанскими активистами — как сторонниками анархистского рабочего движения, так и приверженцами революционного синдикализма. Издатели близкой к ФАИ газеты «Всрбо нуэво» в Бельгии назвали выдвинутую французским либсртарием С. Фором программу «синтеза» анархистов различных направлений «наиболее значительным документом за последние годы». Один из ведулцих сторонников анархистского рабочего движсния Ж. Магринья приветствовал и появление газеты «Дсспертад» в Виго, которую он считал «зародышем единства между либсртарными активистами НКТ, ФАИ и анархистами всех тенденций». Другим проявлением стремления к единству стало создание группы «Солидарность», в которую первоначально входили сторонники различных точек зрения внутри НКТ. Ее целью было издание газеты «Солидаридад». Когда издание не удалось осуществить, часть членов покинула группу, и она стала выразительницей синдикалистской тенденции, близкой кА. Пестанье. В рамках стремления к единству три либертарных испанских эмигрантских издания во Франции и Бельгии («Присмас», «Эль Сембрадор» и «Ребельде») договорились об объединении своих финансовых средств, что должно было позволить Федерации испанских анархистских групп во Франции издавать «Ла Вос либертариа» [428].
Активисты ФАИ пытались добиться поддержки идеи создания международной организации анархистов, которая могла бы, в свою очередь, войти в МАТ. Такие предложения были внесены ими на международный конгресс по созданию Интернационала анархистской молодежи в Хёйзене и на III конгресс МАТ в мае 1928 г., но не встретили поддержки. Не добившись успеха, редакция выходившей в Брюсселе газеты «Эль Ребельде», которая вела эту кампанию, признала поражение. Бывший сотрудник «Эль Продуктор» Мигель Хименес утверждал теперь, что предложения «Эль Ребельде» оказались преждевременными, поскольку исходили из налаживания международных связей между анархистами и синдикалистами до того, как «связка» установится и заработает на национальном уровне. Кроме того, добавлял он, следовало вначале образовать анархистский Интернационал, который мог бы соединить анархистов различных школ вне рабочего движения. Такой Интернационал мог бы уже связаться с МАТ через посредство паритетных Советов и комиссий по вопросам, имеющим обоюдный интерес. Соответственно ФАИ следовало сосредоточиться на укреплении связей с НКТ.
Реорганизация Н КТ, начавшаяся при участии ФАИ, столкнулась с серьезными трудностями. В июле 1928 г. по обвинению в заговоре были арестованы сотни активистов (только в Барселоне — 50 человек). Среди них оказались Пейро, Буэнакаса, Эррерос, Пестанья, Массони и издатели «Деспертад». НКТ заявила, что она не имеет никакого отношения к заговору. Вскоре большинство членов НКТ было освобождено [429].
В конце 1928 г. в Севилье вспыхнула всеобщая стачка против снижения зарплаты и сверхурочного труда. Борьбу начали рабочие, входившие в НКТ, потребовав сохранить 8-часовой рабочий день и повысить им зарплату. Власти предъявили рабочим ультиматум, угрожая им объявлением локаута и посылкой штрейкбрехеров, если в течение 48 часов трудящиеся не вернутся на работу. НКТ призвала к продолжению борьбы. В ее заявлении подчеркивалось, что любое насильственное действие против рабочих встретит соответствующий отпор [430]. Выступление рабочих было поддержано и активистами ФАИ. Ответом на забастовку стали жестокие репрессии. Сотни активистов оказались за решеткой: более 200 в Андалусии, 80 — в Каталонии, 55 — в Валенсии, 67 — в Мадриде, 29 — в Бильбао и множество других по всей стране. Подавление забастовки нанесло тяжелый удар по реорганизации НКТ. К тому же многие группы ФАИ критиковали действия Полуостровного комитета, и тому пришлось защищаться в циркуляре, выпущенном в ноябре 1928 г. [431].
1929 год был наполнен выступлениями против диктатуры Примо де Риверы. Отдельные профсоюзы НКТ в Каталонии и Андалусии открыто проводили забастовки и добивались удовлетворения своих экономических требований. На протяжении всего года выходили два органа — «Деспертад» в Виго и «Аксьон сосиаль обрера» в Сан-Фелиу-де-Гишольсе. В начале 1929 г. была проведена нелегальная конференция НКТ, обсуждавшая вопросы реорганизации движения, помощи заюлюченным и преследуемым и борьбы с диктатурой. Однако результаты этой конференции и всей деятельности НКТ были скромными вследствие новых преследований, арестов, запретов и т.д. В отчете МАТ за 1929 г. высказывалось предположение, что «понадобится еще много времени, прежде чем Национальная конфедерация труда вновь сможет подняться до своих прежних размеров и своего прежнего влияния». Члены НКТ, эмигрировавшиe во Францию, сплотились в рамках РС ВКТ. Они помогали развитию французской организации и одновременно работали над реорганизацией своеи [432].
I мая 1929 г., несмотря на запрет, в Испании были проведены забастовки, особенно в Барселоне. Сотни человек были арестованы, включая Ф.Уралеса [433].
Анархистская эмиграция на протяжении 1929 года разрабатывала план покушения на испанского короля, Муссолини и т.д. В январе 1929 г. анархисты участвовали в неудачном заговоре против диктатуры, возглавлявшемся буржуазным политиком Санчесом Герра и каталонским националистом Масиа. 6 февраля 1929 г. эмигрантские группы в Париже обсудили задачи анархистов перед лицом ситуации в Испании и постановили готовиться к тому, чтобы в случае необходимости перейти границу, и запасаться оружием (среди тех, с кем обсуждались технические вопросы, был и знаменитый анархист-повстанец Нестор Махно). Участники постановили также перенести издание «Ла Вос либертариа» в Бельгию из-за преследований со стороны французскоЙ полиции [434].
Несмотря на активизацию рабочего движения, Национальный комитет сетовал на то, что в результате преследований и разгромов Конфедерации она «существует лишь благодаря пламенной и ревностной самоотдаче маленького крута верных борцов» и «от некогда могучей НКТ сохранились лишь отдельные организации, которые ведут жалкое существование в неблагоприятных обстоятельствах и ситуации... Долго продолжающееся нелегальное положение лишило нас сил и обрекло на бездеятельность» [435]. Организация держалась на энтузиазме. На III конгрессе МАТ делегат НКТ пояснил, что «в Испании и знать не хотят о членских билетах и обязательных взносах» [436].
Внутри ячеек НКТ в конце 20-х годов сформировались три основных направления: анархисты, революционные синдикалисты и сторонники легализации, даже ценою отказа от прямого дсйствия и эволюции к реформизму [437]. Первые, по словам делегата НКТ на III конгрессе МАТ Фраго, были «наподобие ФОРА в Аргентине», вторые — «анархо-синдикалистами» [438].
Национальный комитет добивался, по его собственным словам, «братского СбЛИЖСНИЯ различных тенденций» с целью создания основы «для оживления и мощного обновления НКТ». Возрождение организации должно было последовать за воссоединением [439].
С этой целью Псстанья попытался в 1928 г. создать группу «Солидарность», в которую привлек как сторонников, так и противников легализма. Но сгладить разногласия не удавалось, и в мае 1929 г. НацИОНШ1ЬНЫЙ комитет во главе с Пейро подал в отставку [440].
В 1929 г., если верить отчету испанских коммунистов, присланному в Профинтерн, в НКТ состояли около 20,5 тысяч членов (8,5 тысяч в Каталонии, по 3 тысяч в Галисии и Андалусии, 2 тысяч — в Валенсии, тысяч — в Астурии, по тысяч в Арагоне и Стране Басков и 500 — в Кастилии). Выходили органы каталонской федерации «Аксьон сосиаль обрера» (тиражом 4 тысяч) и галисийской федерации «Деспертад» (тиражом 3,5 тысяч). В это же время, по утверждению коммунистов, в автономных профсоюзах насчитывалось 28,3 тысячи членов, а в ВСТ — около 200 тысяч [441].
По мере активизации Н КТ между реформистами и радикалами разгоралось ожесточенное противоборство. В статье, опубликованной 15 июня 1929 г. в газете «Аксьон сосиаль обрера», Пестанья обвинил ФАИ во вмешательстве во внутрипрофсоюзную жизнь, что было отвергнуто Полуостровным комитетом, заявившим, что он соблюдает решения, принятые на Мадридском пленуме в январе 1928 г. Сам Пестанья пытался добиться согласия Н КТ с трудовым законодательством Примо де Риверы, что означало бы отказ от принципов прямого действия. Предложения Пестаньи были отвергнуты после острых дебатов в либертарной прессе между ним и Пейро. Но уже в декабре 1929 г. в газете «Деспертар», которая издавалось в Виго, был опубликован отчет Национального комитета НКТ, подписанный А. Пестаньсй и Хуаном Лопесом. Он был озаглавлен «Свидетельство о смерти НКТ». Публикация вызвала взрыв негодования у рядовых активистов“).
Положение дел в НКТ побудило испанских коммунистов выдвинуть план захвата конфедерации. С этой целью предлагалось возглавить процесс ее реорганизации. Еще 1 февраля 1927 г. ЦК Испанской компартии докладывал в Исполбюро Профинтерна: «Наша деятельность в НКТ должна быть направлена в сторону восстановления профсоюзов, примкнувших к этому профцентру. Там, где существуют возможности сделать это, наши товарищи должны приступить к этому... После роспуска конфедерации наши товарищи полагают, что падение престижа анархистов десласт возможным для нашей партии реорганизацию Национальной Конфедерации Труда» [443]; В 1928 г. коммунисты пытались привлечь активистов НКТ в испанскую делегацию, отправлявшуюся на конгресс Профинтерна [444].
В 1929 г. Профинтерн дал Испанской компартии инструкции: «Восстановить НКТ со всеми все еще входящими в нее профсоюзами, с автономными союзами и исключенными из ВСТ...» [445]. Выполняя эти указания, коммунисты одновременно приступили к организации «оппозиционного меньшинства» в НК Т, что вызвало раздражение Москвы. Исполнительное бюро Профинтерна потребовало от компартии исправить ошибку, указав: если профцентр «должен быть реорганизован нами и руководство им перейдет к нам», никакого организованного меньшинства не потребуется. В ответ коммунисты объясняли, что они нс могут гарантировать установление контроля над руководством конфедерации, поскольку анархо-синдикализм сохраняет большой авторитет среди трудящихся: «несмотря на свои тактические ошибки и на промахи в борьбе», он «вписал в историю своей борьбы с буржуазией страницы величайшего самопожертвования». «Отсюда следует, — подытоживали коммунисты, — что в тот день, когда Конфедерация труда будет реорганизована, в ней всплывут сейчас же анархо-синдикалистские настросния» [446].
После падения диктатуры Примо де Риверы 28 января 1930 г. анархо-синдикалистское движение начало стремительно возрождаться. В Барселоне был 15 февраля 1930 г. начат выпуск еженедельного органа НК Т — газеты «Аксьон», с начала марта 1930 г. планировалось начать издание ежемесячного журнала. Анархосиндикалисты требовали легализации своей печати [447]. 19 апреля анархисты начали выпускать еженедельник «Тьерра и либерти». Делегации Н КТ посетили губернатора Каталонии и премьер-министра Испании генерала Беренгера и потребовали от них «свободы создавать объединения». Власти вынуждены были пообещать анархо-синдикалистам свободу деятельности, разрешить публичные собрания и пересмотреть дела политзаключенных. Быстрее всего восстанавливалась организация в Барселоне: весной 1930 г. в ней было уже более 10 тысяч членов. Возрождались организации НКТ в Сан-Мартине, Уэльве, Валенсии и других городах. В Сагунте (неподалеку от Валенсии) НКТ организовала забастовку сталелитейщиков, которая вызвала стачки солидарности [448].
В феврале 1930 г. собрался пленум Н КТ, обсудивший вопросы реорганизации и восстановления профсоюзов. Хотя проблемы политических требований не обсуждались, Национальный комитет на свой собственный страх и риск выпустил манифест к испанскому пролетариату, в котором содержались обещания поддержать общественное мнение «во всех усилиях, направленных на созыв Учредительного собрания» и требования восстановления конституционных свобод и гражданских прав, включая свободу деятельности профсоюзов. В документе содержались также требования восстановления 8-часового рабочего дня и иных завоеваний, освобождения политзаключенных и пересмотра всех судебных процессов [449].
Заявление комитета вызвало бурные споры. Многие видели в этом признание парламентаризма. Новый секретарь Пестанья пытался уйти от критики, заявляя, что его неправильно поняли. Выступая на заседании Бюро МАТ в Берлине (1—2 июня 1930 г.), он представил ситуацию следующим образом: в документе говорилось, что «необходимы законодательные гарантии для восстановления рабочих организаций. По причине, вероятно, не слишком удачной формулировки НКТ упрекали в том, что в манифесте якобы говорртось, будто НКТ хочет участвовать в выборах в Национальное собрание. В публичном заявлении Н КТ опровергла это ложное истолкование манифеста и встала на почву анархо-синдикализма» [450].
Негодование многих активистов усилилось еще больше после того, как в марте 1930 г. двое видных членов НКТ (Пейро и П. Фуа) подписали вместе с представителями различных партий «Манифест каталонской интеллигенции», в котором выдвигалось требование федеративной республики. Пейро вынужден был объявить о своей отставке с постов в НКТ и снял подпись под манифестом [451].
Стремительное возрождение НКТ описывает современный испанский исследователь Абель Пас: «НКТ быстро вновь набирала силы в области Валенсии, обретала почву в Арагонс и, хотя и с трудом, пробивала себе дорогу в Мадриде. В Севилье она продвигалась вперед лишь медленно, поскольку два бывших члена Н КТ... хотели превратить местную НКТ в придаток... компартии. В Каталонищ напротив, прежде всего в Барселоне, НКТ достигла своего зенита. Профсоюз строителей, насчитывавший 42 тысячи членов, избрал члена группы ”Солидарных” Рикардо Санса своим председателем, а возрожденный также профсоюз металлистов наложил вето на то, чтобы Пестанья занимал пост генерального секретаря НКТ» [452]. В апреле 1930 г. за присоединение к НКТ проголосовали две тысячи делегатов рабочих-текстильщиков. 17 мая состоялся региональный пленум НКТ Каталонии, подчеркнувший необходимость восстановления газеты «Солидаридад обрера», новый пленум 6 июля постановил выпускать ее с августа 1930 г. Газета стала издаваться ежедневно.
Стремясь к тому, чтобы анархо-синдикализм был реорганизован на отраслевой основе, Национальный комитет НКТ разработал статуты отраслевых профсоюзов и рекомендовал местным синдикатам принять их. В соответствии с этим документом, НКТ должна была состоять из отраслевых союзов, которые, в свою очередь, состояли из профессиональных секций на местах [453].
27 июня 1930 г. был определен новый состав Национального комитета НКТ. Пестанья в него больше не входил. Генеральным секретарем стал Прогресо Альфараче. В состав комитета был избран член ФАИ Мануэль Сирвент [454].
В сентябре в Барселоне возник крупный конфликт в строительной промышленности. Администрация фирмы «Фоменто де обрас и конструксьонес» отказалась признать местное отделение профсоюза НКТ и уволила за принадлежность к нему шесть рабочих. В ответ вспыхнула стачка солидарности 37 тысяч строительных рабочих Барселоны. Спустя несколько дней фирма была вынуждена признать профсоюз и восстановить уволенных рабочих на работе [455]. Уже через несколько недель сообщалось об обострении классовой борьбы по всей стране [456]. Так, 1 октября анархо-синдикалисты Севильи провели всеобщую стачку солидарности с портовиками Малаги [457]. В ноябре 1930 г. анархо-синдикалисты организовали стачку в Мадриде, получившую широкую поддержку трудящихся. В Валенсии крестьяне начали движение за 6тичасовой рабочий день [458]. В то же самое время НКТ вела упорную борьбу за освобождение политзаключенных [459].
Возрождалась организационная структура Н КТ. Во многих провинциях были проведены конференции. Местные синдикаты соединялись в региональные; на региональных конференциях были избраны делегаты на конгресс Н КТ, но сго организовать не удалось. Он дважды назначался и оба раза запрещался властями [460].
По данным МАТ, в 1930 г. НКТ объединяла 250 тысяч трудящихся. Национальный комитет организации находился в Барселоне, по всей стране издавалась синдикалистская печать, тираж «Солидаридад обрера» составлял 25—40 тысяч экземпляров. Несмотря на отсутствие официального разрешения, синдикаты НКТ действовали вполне открыто. По всей стране, особенно в Каталонии и Андалусии, трудящиеся бастовали, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. В таких городах, как Барселона, Валенсия и Севилья, несколько раз объявлялись всеобщие стачки с экономическими или политическими требованиями [461]. В Барселоне много усилий стоила НКТ забастовка водителей трамваев, объявленная после отказа властей признать профсоюз транспортников.
Восстановление Н КТ началось в условиях снижения активности ФАИ, которая после преследований 1928 г. подавала мало признаков жизни; действовали только региональные анархистские федерации в Каталонии и Валенсии. Бездеятельность ФАИ вызывала критику в анархистской среде. Федерация анархистских групп Валенсии жаловалась даже в мае 1930 г., что ФАИ превратилась в фикцию. В апреле 1930 г. Полуостровной комитет ФАИ вынужден был признать, что работа федерации в целом была в значительной мере нарушена арестом одного из членов его секретариата, конфискацией документов и адресов ведущих активистов. По просьбс андалусийских анархистов Полуостровной комитет был в конце июня — начале июля 1930 г. переведен из Андалусии в Каталонию, даже без консультации с другими регионами. Согласно следующему циркуляру, опубликованному в августе, деятельность организации заметно оживилась. Издавались анархистские газеты — «Тьерра и либертад» и «Эль Продуктор» (Барселона), «Реденсион» (Алькой). ФАИ участвовала в реорганизации НКТ. Проявлением влияния ФАИ можно считать включение в Национальный комитет НКТ члена Полуостровного комитета ФАИ Мануэля Сирвента в июне 1930 г. В мае 1930 г. вышел совместный манифест НКТ и ФАИ в поддержку социальных и политических заключенных [462].
В свою очередь, компартия попыталась воспользоваться выходом НКТ из подполья и взять ее под свой контроль. Весной 1930 г. проведенная в Памплоне конференция партии приняла решение приступить к воссозданию конфедерации «на базс юлассовой борьбы», привлекая в нее ранее входившие профсоюзы и организации, исключенные из ВСТ [463]. Был организован «Национальный комитет реконструкции НКТ», который работал «под абсолютным руководством Исполкома партии» [464]. За основу реорганизации предполагалось взять модель У ВКТ Франции. Комитет координировал работу профсоюзов в Бильбао, Астурии и Понтеведра (Галисия). Однако вплоть до конца 1930 г. ему не удалось наладить постоянную связь с профсоюзами в Каталонии и Валенсии. Тем не менее сторонники комитета приступили к созданию групп меньшинства в анархо-синдикалистских и социалистических профсоюзах. 5 января 1931 г. был проведен расширенный пленум «Национального комитета реконструкции», на котором присутствовали также представители организаций пекарей, транспортников, крестьян, строителей, рабочих пробковой промышленности, металлургов и керамиков. В Андалусии оформилась региональная конфедерация синдикатов, поддерживавших «Комитет реконструкции» [465].
Положение профсоюзов снова ухудшилось после неудачных попыток организовать новые военные заговоры против режима. Группа военных, поддерживавших связи с ФАИ (капитаны Алехандро Санчо, Фермин Галан и др.), готовила вооруженное выступление. В Каталонии был создан Революционный комитет с участием военных и представителей ФАИ и НКТ. Однако II октября А. Санчо и ряд видных анархо-синдикалистов (в том числе Псстанья, Клара, Сирвент и др.) были арестованы. Ситуация становилась все более напряженной. В ноябре 1930 г. в результате производстВСНной аварии в Мадриде погибли четверо рабочих. Строители Мадрида объявили забастовку, и, разгоняя их демонстрацию, полиция застрелила еще двух рабочих. В Мадриде и Барселоне была объявлена стачка солидарности. В столице Каталонии она продолжалась с 16 по 22 ноября [466]. 24-часовая всеобщая стачка протеста состоялась по призыву профсоюза строителей НК Т и в Севилье [467].
Представители республиканских и социалистических заговорщиков («пакт Сан-Себастьян») встретились в Барселоне с Х. Пейро, издателем «Солидаридад обрера», и предложили анархо-синдикалистам объявить всеобщую забастовку в поддержку их выступления, которое планировалось на декабрь. Пейро передал вопрос в Национальный комитет, и тот созвал 15 ноября национальный пленум. Его участники (кроме делегации Леванта) выступили в поддержку «соглашения с целью инициировать революционное движение». По оценке А. Паса, «это решение было однозначно шагом назад. До тех пор позицией НКТ было: «Устраивать заговоры без компромиссов или пактов с политическими кругами»
12 декабря 1930 г. Галан поднял изолированное восстание гарнизона в Хаке. Несмотря на обращение НКТ, оно не было поддержано военными ни в Мадриде, ни в Барселоне и было быстро подавлено. Попытка атаковать военный аэропорт в Прат дель Льобрегат не удалась. Выступление республиканских заговорщиков 15 декабря не состоялось. Провозглашенная НКТ всеобщая стачка проходила в Барселоне мирно, в Мадриде вообще не ощущалась, в Астурии в ряде мест произошли столкновения с полицией. 30 декабря 1930 г. профсоюзные бюро в Барселоне были закрыты, ведущие синдикалисты, включая членов Национального комитета, были арестованы [469]. После провала восстания в Хаке НКТ снова подверглась преследованиям. Организацию объявили вне закона, газета «Солидаридад обрера» была закрыта [470].
Однако дни авторитарной монархии уже близились к концу. 14 апреля 1931 г. члены НКТ активно участвовали в массовых демонстрациях, приведших к провозглашению республики. В Каталонии они помогли утвердиться у власти левым националистам. После этого НКТ получила возможность действовать легально.
Итальянские анархо-синдикалисты пытаются наладить сопротивление против режима Муссолини
Приход фашистов к власти и открытые репрессии резко изменили к худшему положение итальянского синдикализма. Впрочем, синдикалисты воспринимали возникшую ситуацию как результат предыдушего ослабления рабочего движения. «Победу фашизма, писал ведущий активист УСИ Армандо Борги в отчете II конгрессу МАТ, — можно понять, только если знать, что фашизм сумел прийти к власти лишь потому, что организованные силы пролетариата были уже до этого разгромлены с помощью сотрудничества [фашизма] с капитализмом вообще и связанным с этим террор.
Итальянские анархо-синдикалисты столкнулись с тем, что они назвали одновременной «тройной реакцией буржуазного масса»: со стороны правительства, фашизма и предпринимателей. Власти арестовывали анархистов, сопротивлявшихся фашистскому насилио, отряды фашистов уничтожали бюро профсоюзов и Палаты труда, убивали активистов; предприниматели и землевладельцы снижали зарплату, увеличивая рабочий день и производя массовые увольнения. «Профсоюзы и Палаты труда совершенно не в состоянии функционировать, — сообщал УСИ в докладе Учредительному конгрессу МАТ. — За исключением трех или четырех местностей, все Палаты труда захвачены фашистами или правительственными властями либо возвращены владельцам помещений, и те находят им иное применение, вопреки воле профсоюзных организаций, для которых они предназначены. Помещения рабочих и крестьянских профсоюзов разделили ту же участь. Помещения разгромлены со всем, что в них находилось. За немногими исключениями, собрания в промышленных и сельскохозяйственных центрах запрещены. Совершенно [невозможно] собирать трудящихся, организовывать конференции, проводить митинги, носящие профсоюзный характер». УСИ сообщал о расправе с активистами и их семьями (например, в Парме с членом организации Пинколини). Многие анархо-синдикалисты вынуждены были эмигрировать: более тысячи тысячи человек из Сестри- Поненте, тысячи человек из промышленных центров Лигурии, Специя-де-Сампьедрарена, Вадо- Больцанетто и т.д., 6—7 тысяч сельскохозяйственных работников, тысячи рабочих из Пармы, Модены, Болоньи, множество человек из Тосканы и т.д. 472 18—20 декабря 1922 г. чернорубашечники устроили резню антифашистских активистов в Турине. Местная группа УСИ была разрушена. Пробо Мари, активист УСИ, был брошен [472]. По со связанными за спиной руками, но сумел освободиться [473].
Невзирая на фашистский террор, Итальянский синдикальный союз (УСИ) продолжал действовать. В обращении к революционным синдикалистам всех стран по случаю мая 1923 г. УСИ заявил, что не сдается, и призвал всех трудящихся бороться против реакции [474]. Несмотря на диктатуру и репрессии, мая 1923 г. в различных частях страны прошли забастовки и демонстрации. Наиболее крупные выступления произошли в Милане, где 8070 рабочих прекратили работу [475]. УСИ использовал для пропаганды своих идей и МАТ самые различные возможности. Так, получив, подобно другим общественным и политическим организациям, официальное приглашение на международную конференцию по экономическому восстановлению Советской России, проходившую в Италии, УСИ ответил организаторам посланием, в котором требовал приглашения делегации МАТ В заявлении критиковались репрессии, которые помешали представителям УСИ выступить с изложением своей позиции [476].
Летм 1923 г. Исполком УСИ опубликовал еще одно обращение «К итальянским тварищам! К организованным рабочим всех стран!», информируя международную общественность о продолжающихся и запланированных новых процессах над итальянскими РеВОЛЮЦИОНерами и призвав к протестам [477].В последующем в бюллетене МАТ неоднократно сообщалось о новых фактах репрессий против итальянских синдикалистов [478].
Итальянские анархо-синдикалисты призывали трудящихся бороться «одновременно с фашизмом и буржуазией». В обращении «К рабочим Италии! К товарищам, бежавшим от реакции! К товарищам во всех странах!», посвященном трехлетней годовщине движения за захват фабрик, УСИ еще раз подтвердил свои революционные позиции, напомнив, что организация выступала «в авангарде движения», отвергала интриги политиков и компромисс с правительством. «Пролетариат нашел свой путь, — писали синдикалисты, — и революция в стране, где первые семена социализма были посеяны Бакуниным, начала свои завоевания на фабриках, затем на транспорте, полях и шахтах». Они возложили ответственность за поражение на реформистов, социалистов и коммунистов. Урок итальянских событий, по мнению УСИ, сводился к следующему: «не завоевание, а уничтожение государства» [479].
Начиная с номера от 18 ноября 1923 г., национальная газета УСИ «Уэрра ди ютассе» была запрещена властями480 . Итальянский синдикальный союз пытался продолжать агитацию, призвал бойкотировать парламентские выборы [480]. Но конференция УСИ, состоявшаяся в апреле 1924 г. в Милане, констатировала «почти полное разрушение местных организаций». Делегаты обсудили вопросы эмиграции итальянцев в другие страны (за границу эмигрировали 500 тысяч человек), реорганизации союза и проблему «объединения пролетариата» (то есть объединения с другими профсоюзами). Члены организации в Италии должны были попытаться восстановить профсоюзные ячейки на рабочих местах, собираясь, в случае необходимости, на частных квартирах. Было принято решение, согласно которому итальянские синдикалисты, эмигрировавшие в другие страны, должны вступать в местные РСВОЛЮЦИОНН ые синдикаты, но могут при этом сохранять и собственные комитеты УСИ. Делегаты еще раз подчеркнули, что профсоюзы должны быть независимы от политических партий, и в этом — предпосылка любого объединения пролетариата. Конференция подтвердта, что в УСИ никакие партийные фракции не допускаются. В течение года союзу удалось реорганизовать свои группы в Лигурии, Эмилии, Тоскане, Ломбардии и Пулии [482]. В Милане действовал центр УСИ. Организация стремилась наладить работу Красного Креста в поддержку заключенных и членов их семей, особенно детси [483].
Убийство фашистами депутата-социалиста Маттеоти в 1924 г. вызвало острый политический кризис. Но рабочее движение не смогло им воспользоваться, поскольку, как признавал Борги, «пролетариат был уже лишен любой силы сопротивляться» [484]. Однако синдикалисты смогли организовать ряд местных стачек протеста. Так, в Бари, несмотря на возражения коммунистов и социалистов, состоялась трехдневная всеобщая забастовка. Ее поддержали шахтеры Эльбы. Связь с миланской группой УСИ установили металлисты Ломбардии; обсуждались планы разверТЫВаНИЯ агитации среди сельскохозяйственных рабочих. Однако новая волна правительственного террора нарушила все эти начинания [485].
«Кризис Маттеоти» не привел к падению фашистского режима. Наоборот, он послужил поводом для ужесточения репрессий. Был принят новый, драконовский закон о печати. Одновременно власти провозгласили так называемую амнистию для политзаключенных. УСИ выступил с разоблачением этого трюка [486].
УСИ нс доверял буржуазной демократии: он «не вступил ни в какую коалицию с так называемой оппозицией, потому что не верил в эту оппозицию» [487]. Исполком УСИ обсудил вопрос об участии в общем комитете оппозиции. Было принято решение не участвовать в блоке демократических антифашистов, поскольку УСИ придерживался собственных методов и целей борьбы и намеревался сохранить свободу действий. Он призвал своих членов не маршировать в объединенных манифестациях, а вести классовую борьбу [488]. В то же самое время практическое взаимодействие при сохранении организационной и тактической самостоятельности допускалось. Так, Альберто Мески был направлен созданным в Париже различными силами Антифашистским комитетом для сотрудничества в издании газеты «Кампане а стормо» [489].
В конце 1924 г. УСИ обратился с призывом к помощи политзаключенным, развернул кампанию за амнистию. В октябре Синдикальный союз приступил к изданию нового печатного органа «Рассенья синдакале», который выходил до июня 1925 г. [490]. По стране вновь прокатилась волна стачек и локаутов. Наиболее заметныс забастовочные выступления происходили там, где еще сохранялось влияние УСИ, — среди шахтеров Вальдарно и Эльбы, мраморщиков Каррары и др. Бастовали металлисты Ломбардии. В Пагани и Унтерночера члены УСИ продолжали стачку в течение 10 дней, пока не добились повышения зарплаты [491].
Однако преследования со стороны мастей нарастали. УСИ был вынужден отменить проведение национальной конференции в Миланс в конце 1924 г. 7 января 1925 г. префект провинции Милан объявил о запрете Итальянского синдикального союза на всей территории страны [492]. Организация выпустила воззвание, в котором сообщала: «УСИ распущен фашистским правительством, его помещения закрыты, Исполнительный комитет арестован» [493]. Бюро организации, которое с 1920 г. уже дважды подвергалось разгрому, было закрыто. Вскоре была запрещена и конфискована «Рассенья синдакале», развернулись новые аресты. Синдикальный союз вновь возобновил выпуск газеты «Гуэрра ди классе» 494 В апреле 1925 г. УСИ сумел провести конференции входивших в Союз металлургов Лигурии и синдикалистов Пулии [495]. Итальянские синдикалисты выпустили манифест к 1 мая 1925 г., который, как сообщалось, встретил большой отклик среди трудящихся. В этот день многие рабочие не вышли на работу; в Милане не работали от 80 до 9270 рабочих. Миланский профсоюз парикмахеров, входивший в УСИ инициировал движение за 2570-ное повышение зарплаты [496]. Летом УСИ сообщал МАТ, что организация еще жива и активно действует в Сестри-Поненте, ГЬнуе, Пулии [497].
В этот период вновь стал активно обсуждаться вопрос об объединении с крупнейшм итальянским профобъединением — Всеобщей конфедерацией труда. Против такого шага, за сохранение отдельной революционно-синдикалистской организации выступили, среди прочего, Армандо Борги, Риккардо Саккони, Вирджилио Мадзони, Гульопи, Вирджилию Броги, Микеле Велья, Леонида Мастродикаса, Марио Мари. За объединение высказывались либертарии, продолжавшие работать внутри ВКТ; их поддерживали такие видные фигуры итальянского анархизма, как Луиджи Фаббри [498].
На нелегальную конференцию УСИ 28—29 июня 1925 г. в Генуе — Сестри-Поненте прибыли делегаты из Ломбардии (10), Пьемонта (2), Лигурии (5), Венето (4), Фриули-Венеции-Джулии (2), Эмилии (3), Тосканы (5), Умбрии (1), Кампании (1), Пулии (4). Были представлены также Национальный синдикат металлургов (Антонио Негро , Никола Модуньо), Итальянский синдикат трудящихся сельского хозяйства (Джузеппе Папини) и Национальный синдикат ШИТСРОВ. Многие группы и делегаты не смогли прислать представителей, включая Эмигрантский комитет в Париже. Сотни членов организации находились под арестом, включая лидеров шахтеров Вальдарно Аттилио Сасси. Не сумел приехать на конференцию представитель МАТ Д. Абад де Сантильян.
Конференция направила приветствия политзаключенным, пролетариям Китая и МАТ. А. Джованнетги сделал доклад о развитии УСИ. Отчеты делегатов с мест показали, что синдикалистское движенис находится в кризисе из-за беспрестанных преследований. Были выдвинуты задачи активизировать профсоюзную работу и наладить издание печатных органов и материалов за рубежом. По предложению Гаэтано Джервасио (Милан) и Л. Паренти (Виареджо) были образованы две комиссии — по финансам и сбору средств и по реорганизации движения. Снова был поставлен вопрос о возможности объединения со Всеобщей конфедерацией труда, которая находилась под контролем социалистов. Некоторые делегаты даже не хотели его обсуждать; другие не возражали против такого объединения в принципе, но считали момент неподходящим. За объединение высказалась письменно только организация из Чериньолы. В предложенной Джованнетти, Антонио Негро и Н. Модуньо и принятой на конференции резолюции говорилось, что единство профсоюзов возможно только тогда, когда сложатся экономические и политические условия для осуществления цели освобождения пролетариата. УСИ не может присоединиться к ВКТ, указывалось в резолюции, поскольку организационная форма и статуты этого крупнейшего профобъединения не дают возможности для свободной деятельности профсоюзов. Делегаты уполномочили Секретариат УСИ продолжать работу с целью добиться освобождения политзаключенных [499]. 2 августа 1925 г. за этой конференцией последовала конференция синдикалистского профсоюза металлистов, входящего в УСИ. Участники приняли решенис активизировать борьбу за повышение зарплаты [500].
Однако правительственный террор не ослабевал, несмотря на объявленную властями частичную амнистию. Следовали новые аресты и процессы, к примеру крупнейший процесс над сельскохозяйственными рабочими в ПУЛИИ. Был внбвь конфискован номер возобновившего было свой выпуск «Рассенья синдакале» [501]. В то же самое время руководство ВКТ все теснее сотрудничало с фашистским режимом. В апреле 1926 г. в Италии был официально принят закон о создании фашистских синдикатов. В октябре того же года были запрещены забастовки.
УСИ вынужден был перенести центр своей деятельности за рубежи Италии. В сентябре 1923 г. по инициативе Борги и ряда других итальянских анархо-синдикалистов в Париже был образован рабочий Секретариат и Эмигрантский комитет УСИ. Другие ССКЦИИ были организованы в Марселе, Лионе и Ницце. Комитет взял на себя коордИнацию деятельности членов союза в эмиграции, связь с Италией и публикацию изданий. Вначале удавалось выпускать листовки и специальные газеты (например, к Мая). С конца 1927 г. Эмигрантский комитет УСИ начал издавать газету — бюллетень «Гуэрра ди пассе». Она выходила раз в 2 месяца тиражом в 1 200 экземпляров. В течение определенного периода (1927—1929 гг., 1930—1933 гг.) ее удавалось выпускать регулярно.
Работа УСИ в эмиграции была нелегким делом. «Экономические, материальные и политические проблемы, которыми сопровождался период после высылки из страны, были характерны для жизни большей части итальянских изгнанников во Франции, где, кроме того, действовала... пресловутая фашистская полиция ОВР А, готовая поразить и даже убить наиболее опасных антифашистов, писал историк УСИ Дж. Карери. В то же самое время засланные Муссолини шпионы пытались всеми способами проникнуть в ряды изГНаННИКОВ, чтобы организовать различные провокации и ловушки» [503].
6—7 сентября 1925 г. Комитет УСИ в эмиграции созвал в Париже конференцию членов союза, находившихся за границей. 40 делегатов представляли 16 Палат труда и синдикальных секций УСИ на французской территории. Это собрание было объявлено продолжением конференции, проходившей в июле в Генуе. Делегаты высказались за продолженис реорганизации и восстановление УСИ в самой Италии и подтвердили отказ от объединения с ВКТ (за слияние было подано только 4 голоса) [504]. УСИ призвал все организации Интернационала поддержать издание его газет за рубежом. В обращении к своим членам за границей. УСИ подчеркнул необходимость организационного сплочения с тем, чтобы сохранить дух классовой борьбы и иметь возможность вести борьбу и за рубежом [505].
В противовес националистической истерии итальянских фаШИстов, синдикалисты продолжали пропагандировать интернационализм. Характерно в этом смысле заявление, выпущенное Синдикальным союзом в связи с проблемой Южного Тироля — области со значительным немецкоязычным населением. По мнению УСИ, тирольский вопрос, как и все остальные территориальные вопросы, — это результат политического империализма господствующих классов. Синдикалисты не могут поддержать ни одну из борющихся сторон, но выступают против обеих — как против итальянского, так и немецкого национализма, призывая к миру и братской солидарности всех угнетенных. «Для нас нет никакого тирольского вопроса, — говорилось в заявлении. — Только сами жители Оберэга имеют право определять язык, на котором они хотят говорить, и социальную систему, которая им по душе. Их дело оставаться самостоятельными или выбирать по желанию присоединение к той или иной нации. Жители Южного Тироля могут, как и все остальные народы, только обладая полной свободой и самостоятельностью, принимать решения относительно своей судьбы и всех территориальных и этнологических вопросов [506].
В 1926 г. УСИ продолжал подпольную работу в Италии. Его члены провели нелегальные конференции в крупных центрах Лигурии, Тосканы, Пармы и Эмилии в присутствии представителей тайного Исполкома из Милана. Синдикалисты организовали кампанию, призывавшую рабочих бойкотировать фашистские профсоюзы [507].
В 1926 г. итальянские анархисты дважды устраивали покушсние на Муссолини. II сентября в Римe Джино Лучетти попытался убить фашистского вождя, но не добился успеха. Специальный трибунал приговорил его к 30 годам тюрьмы, а его «подельников» Леандро Сорио и Стефано Ваттерони к 20 и 18 годам заключения соответственно. 31 октября в Болонье в Муссолини стрелял 15-летниЙ Антео Дзамбони, родители которого были анархистами. Покушавшийся был убит толпой фашистов [5О8].
После покушений на Муссолини террор и преследования оппозиции еще более усилились. Последовали новые аресты анархистов и синдикалистов. Полиция схватила одного из лидеров нелегальной организации Николо Модуньо. 12 марта 1927 г. были арестованы члены Исполкома УСИ [509]. В середине 1928 г. Синдикальный союз опубликовал частичный список репрессированных активистов. Согласно ему, к этому моменту были арестованы 47 человек (в т.ч. Джованнетти), сосланы — 31, находились под следственным арестом — 6, под политическим надзором — 6, и были высланы более четырех человек [510]. УСИ был фактически обезглавлен, связи между отдельными членами нарушились. Согласно новому списку, отражавшему положение на август 1928 г. 49 активистов находились в тюрьме и на каторге, 72 — в ссылке, з — под «превентивным арестом» и 9 — под надзором полиции (включая Джованетти) [511].
Работа УСИ в эмиграции осложнялась и тем, что большая часть итал ьянских либертарных эм игрантов склонялась скорее к анархизму, чем к анархо-синдикализму. Орган Анархистского союза Италии в изгнании «Лота умана» выпускалась тиражом в 5 тысяч экземпляров и финансировалась главным образом итальянскими группами из США. Ее издавал известный итальянский анархист Луиджи Фаббри. Газета относилась с симпатией к синдикализму и МАТ5 [512].
Эмигранты — члены УСИ действовали в различных странах. В 1928 г. в Берлине была организована конференция членов УСИ, проживавших в странах Европы. Они помогали создать французскую секцию МАТ, активно участвовали во всех мероприятиях МАТ, в международных кампаниях солидарности в поддержку осужденных в США американских анархистов Сакко и Ванцетти, арестованных во Франции испанских анархистов Дуррути, Ф. Аскасо и Ховера, аргентинских анархистов Радовицкого и Шварцбарта, итальянских анархистов Лучени (совершившего покушение на Муссолини), Модуньо, Станьети. Галлеани, Кастанья, Бономини [513].
В началс 1929 г. состоялась конференция УСИ в эмиграции. Делегаты призвали создать повсюду, где их еще нет, эмигрантские организации УСИ. В резолюции о положении в Италии предусматривалось, в частности, создание комитета по расширению пропагандистской работы и подпольных ячеек. Эти ячейки должны были в ходе будущей революции способствовать немедленной экспроприации средств производства и обмена в пользу коммун, передаче управления коммунами рабочим ассоциациям работников умственного и физического труда, требовать от масс, чтобы эти коммуны не подчинялись политическим партиям и диктатуре, наподобие большевистской в России, а самостоятельно решали свои социальные вопросы. Делегаты высказались также за продолжение издания бюллетеня УСИ и за проведение сбора средств [514].
Согласно годовому отчету МАТ за 1929 г., УСИ продолжал подпольную деятельность в Италии, страдая от новых арестов. Деятельность членов УСИ за рубежом координировал Эмигрантский комитет в Париже. Помимо этого, был образован Комитет поддержки политических заключенных УСИ. Обоим комитетам удалось издавать ежемесячный бюллетень в Париже и оказывать помощь некоторым товарищам, арестованным в Италии [515].
Один из ведущих активистов УСИ А. Борги вынужден был эмигрировать в США. Но и там он подвергался преследованиям. В l927 г. ему угрожала высылка из страны за революционную агитацию, и Секретариат МАТ предпринимал меры, чтобы не допустить его выдачи Италии [516]. В апреле 1930 г. он задерживался полицией после выступления на итальянском антифашистском собрании [517].
В отчете МАТ за 1930 г. признавалось, что фашистский террор еще более усилился, многие сотни членов организации находились в заключении или в ссылке. Тем не менее в условиях экономического кризиса в стране то и дело вспыхивали забастовки против снижения зарплаты, происходили демонстрации безработных. МАТ полагала, что фашистский режим зашатался. В различных городах Италии члены УСИ начали снова собираться и готовиться к восстановлению организации. Эмигрантский комитет в Париже регулярно выпускал газету «Гуэрра ди классе». Росло количество членов, записавшихся в эмигрантскую организацию; местные группы действовали в Сент-Этьенне, Тулузе, Валансе, Каннах, Ницце, Антибс, Марселе, Париже. Состоялась конференция, на которой обсуждались вопросы укрепления связей с товарищами в самой Италии. Комитет поддержки заюлюченных израсходовал на это в 1930 г. l2 203 франка (при поступлениях в 11 903 франк).
Скандинавский синдикализм в 1920-х годах
Ряды анархо-синдикалистского профцентра Швеции — Центральной организации шведских рабочих (САК) — в условиях экономического кризиса начала 1920-х годов несколько сократились до численности в менсе чем 30 тысяч. Однако уже к концу 1922 г. число членов САК вновь увеличилось до 30 832. Объединение состояло из 471 местной организации, которые были построены по межпрофессиональному принципу. БОЛЬШИНство шведских синдикалистов были строителями и каменщиками (13 591), рабочими лесной и бумажной промышленности (9503), металлистами (2319), шахтерами (211) и работниками сельского хозяйства (834). Через год в 545 местных организациях САК состояли уже 32 750 человек, а в конце 1925 г. действовали 622 организации с 37 205 членами [519].
Во главе САК стоял избираемый членами Центральный комитет. К концу 1920-х годов он состоял из 17 членов, семь из которых проживали в местности, где находилась штаб-квартира организации, и играли роль Административной комиссии, собиравшейся еженедельно [520]. В САК имелся небольшой аппарат освобожденных функционеров и некоторос число лиц, работавших на организацию за деньги. К февралю 1925 г. в число последних входили 24 сотрудНИКа редакции и рассылки, 29 работников типографии, 2 работника книгоиздательства, 9 служащих САК и отраслевых федераций. Кроме того, в десяти населенных пунктах имелись ответственные за рассылку, которые финансировались частью газетой, частью местной организацисй [521]. Оплачиваемые работники организации не могли состоять членами ЦК или Административной комиссии.
Шведское синдикалистское движение 1920-х годов стояло на анархо-синдикалистских позициях, однако, как и во многих других странах, в Швеции существовала проблема взаимоотношений между синдикалистами и анархистами. Последние были объединены в Младосоциалистическую партию (МСП). Вопрос обсуждался, в частности, на конгрессе МСП в июне 1923 г. На нем присутствовали также представитель САК Г. Хольмберг и делегат от норвежских анархистов. Участники конгресса приняли следующую резолюцию: «Поскольку революционный синдикализм стремится к тому, чтобы ликвидировать существующую общественную систему и установить разумное общественное устройство, как этого желает и анархизм, поскольку синдикализм, помимо того, является или должен являться культурным движением, то мы считаем, что синдикализм призван исполнить великую миссию». Выступив за их сотрудничество там, где этого требуют обстоятельства, шведские анархисты в то же самое время подчеркивали: «По своей сути и своей организации эти движения должны быть полностью самостоятельными друг от друга», идти своими путями и при необходимости высказывать «деловую» критику друг друга в печати. Посетовав на то, что орган САК «Арбетарен» не слишком охотно принимает анархистские статьи, участники конгресса постановили, что газета МСП «Бранд» должна публиковать просветительские статьи о синдикализме и работе шведских синдикалистов [522].
Положение шведских синдикалистов осложнялось тем, что САК оставалась сравнительно небольшим меньшинством в профсоюзном движении страны. Центральное объединение профсоюзов Швеции (ЦОП Ш), находившееся под влиянием социалдемократии, вело ожесточенную кампанию против анархо-синдикалистской организации. Ее членов «выдавливали» с рабочих мест, предлагая, впрочем, в порядке альтернативы присоединиться к профсоюзам большинства [523].
Тем не менее члены САК активно участвовали в многочисленных трудовых конфликтах. В 1922— 1923 годах они играли видную роль в крупнейшей забастовке в лесной промышленности с участием 10 тысяч рабочих [524]. В 1924 г. САК присоединилась к стачке сельскохозяйственных рабочих, объявленной независимыми профсоюзами. Синдикалисты призвали своих членов в других отраслях (в том числе и в промышленности) к выступлениям солидарности [525]. Улучшение экономической конъюнктуры привело к активизации трудовых конфликтов в 1923—1925 годах, когда предприниматели объявили два крупных локаута — в металлургической и лесопильной промышленности. Рабочие не смогли добиться успеха, но и предприниматели нс рискнули снизить зарплату [526]. Синдикалисты были вовлечены в трудовой конфликт, который захватил строителей железных дорог [527]. В начале 1925 г. САК играла ведущую роль в стачке рабочих лесной и лесопильной промышленности в области Вестерботген. Неорганизованные рабочие и члены реформистских профсоюзов ЦОП Ш выступили в роли штрейкбрехеров. Синдикалисты объявили блокаду места, где проводилась забастовка, но штрейкбрехеры прорвали ее; тогда синдикалисты изгнали их силой. 16 членов САК были арестованы полицией [528]. Благодаря поддержке САК в 1925 г. лесорубы и лесосплавщики Северной Швеции добились улучшения условий труда и жизни, чего им не дали реформистские профсоюзы 529 . Когда 16 марта 1925 г. предприниматели объявили массовый локаут рабочих, САК предложила провести всеобщую стачку, но нс была достаточно сильна для того, чтобы самостоятельно организовать ее, и отказалась от этой идеи. Синдикалисты вели агитацию за захват предприятий рабочими5 [529].
До 1924 г. кассы солидарности, из которых выплачивалась помощь рабочим в случае забастовок и иных конфликтов, содержались и финансировались местными организациями САК на добровольной основе. Однако с I июля 1924 г., по решению внутриорганизационного референдума, взносы в них стали обязательными. Всего в 1924 г. из этих касс было выплачено 265 тысяч крон. Кроме того, синдикалистская организация израсходовала 10 тысяч крон на кампанию противодействия реформистским профсоюзам, 6 тысяч крон было истрачено на поддержку членов, находившихся в конфликте с правосудием. Позднее была создана и центральная забастовочная касса [5З0])
Центральная ежедневная газета «Арбетарен», издававшаяся профцентром с 1 января 1922 г., выходила тиражом в 10—17 тысяч экземпляров [532]. Временами некоторые ее выпуски издавались в количестве до 20 тысяч. Издание не окупалось, но его дефицит удалось сократить со 16 тысяч в 1923 г. до 100 тысяч крон в 1924 г. Выпускались также органы рабочих деревообрабатывающей промышленности (6 тысяч экземпляров) и строителей (4 тысяч экземпляров). Оборот типографии САК составил 429 тысяч крон.
Синдикалистский профцентр вел активную пропагандистскую работу. Так, в 1924 г. были изданы и бесплатно распространялись две брошюры общим тиражом в 200 тысяч экземпляров — против войны и милитаризма и о синдикалистской организации. Всего в этом году, согласно отчету САК Второму конгрессу МАТ, на пропаганду было истрачено 120 тысяч крон. Организация занималась также обучением и просвещением своих членов: только в 1923 г. было создано 53 кружка. На эту деятельность в 1924 г. было истрачено 2,5 тысяч крон [5ЗЗ].
В мае 1925 г. проходил 7-й конгресс САК. В нем принял участие 161 делегат.
Одним из вопросов, обсуждавшихся на конгрессе, было отношение к другим течениям и организациям рабочего движения. В соответствии с Декларацией принципов, синдикалистское движение «не вмешивается в политическую и парламентскую деятельность, но посвящает себя борьбе и организационной конструктивной деятельности, независимой от политических партий, равно как и конфессиональной, расовой и национальной принадлежности. В соответствии с этой концепцией, члены синдикалистских организаций имеют полную свободу участвовать вне рамок организации в любых формах борьбы, которые соответствуют их политическим и философским идеям. САК является политически независимой организацией, которая стремится объединить всех рабочих с целью преобразования общества. Кроме того, она считает, что политичсские партии и законодательная власть нс способны осуществить социалистическую реорганизацию ни с помощью демократии, ни с помощью партийной диктатуры. Эта миссия, как, в сущности, экономическая задача, должна принадлежать массовой экономичсской организации». Соответственно в САК всегда имелось некоторое количество членов политических партий, но организация старалась, чтобы партии не оказывали влияния на ее деятельность [534].
Участники конгресса 1925 г. подвергли критике практику предостамения страниц «Арбстарен» коммунистической оппозиции и, в духе решений II конгресса МАТ, высказались за сотрудничество с Младосоциалистическим союзом (так с 1924 г. стала называться анархистская Младосоциалистическая партия). В отношении других рабочих организаций было зая влено о необходимости единой борьбы рабочего класса на экономической почве. В то же время делегаты признали, что различные организации рабочего пасса имеют право на самостоятельную тактику. Допускалась возможность создания совместных организаций на местах, решения в них должны были приниматься большинством. Но никакой солидарности не может быть, заявляли синдикалисты, если большинство будет оказывать давление на меньшинство, заставлять сго вступить в свои ряды и т.д. В Северной Швсции синдикалистские организации имели значительную силу и были в состоянии вести самостоятельную борьбу с предпринимателями [535]).
В связи с этим на съездс был вновь поставлен вопрос о заюлючении коллективных договоров. Дело в том, что САК с момента своего создания в 1910 г. отвергала заключение с предпринимателем долгосрочных коллективных договоров с фиксированным сроком действий. Синдикалисты считали, что такое обязательство связывает рабочим руки, предпочитая просто фиксировать соотношение сил, не оговаривая сроков действия и обязанностей воздерживаться от конфликта. Первоначально САК провозгласила: никаких колдоговоров даже тем, где она в большинстве и может навязать свои условия. Однако на практике многие рабочие, вступившие в синдикалистскую организацию, склонялись к заключению таких договоров, видя в них гарантию против произвола предпринимателей. Стремясь не потерять их поддержку, конгресс постановил подтвердить решения 1910 г., но разрешить местным организациям в исиючительных случаях соглашаться на фиксированный срок, если он им навязывается [536].
Конгресс обсудил практику оказания поддержки стачкам. Делегаты одобрили введение обязательных взносов в кассы поддержки бастующих. Но поскольку решение не набрало требуемых двух третей голосов, оно было вынесено на внутриорганизационный референдум. Делегаты постановили выделить средства в помощь бастующим и уволенным норвежским товарищам, направили протест правительству США в связи с делом Сакко и Ванцетти, приняли ряд других резолюций солидарности. Конгресс одобрил взносы в МАТ в размерах, устаноњленных Вторым конгрессом Интернационала. Было решено также создать новый Дом организации [537].
В 1925 г. синдикалисты добились новых успехов. Они приобрели новый дом и типографию, начали выпуск местных газет в Далекарлии и Кируне и теоретического журнала [538].
В начале 1925 г. вспыхнул один из самых продолжительных трудовых конфликтов в истории страны. Забастовали рабочие шахты Стрипа в Центральной Швеции, большинство из них состояли в САК. Власти объявили эту стачку незаконной. В начале 1926 г. правительственная комиссия по вопросам безработицы распорядилась направить на эту работу штрейкбрехеров. Такое решение вызвало бурные протесты шахтеров. Движение возглавила САК. Исполком синдикалистов принял также специальное обращение к рабочим с призывом прекратить сверхурочную работу. В итоге безработные, посланные работать на шахту, отказались нарушать блокаду, установленную участниками забастовки. Комиссия по безработице отказалась также выплачивать шахтерам пособие по безработице, и синдикалисты направили жалобу социал-демократическому правительству. Действия комиссии вызвали протесты коммунистических и социал-демократических депутатов и политический скандал. Правительство вынуждено было дезавуировать комиссию, но в ее поддержку выступили буржуазные партии, и в июне 1926 г. социал-демократический кабинет, не имея большинства в парламенте, подал в отставку. Новая комиссия предложила уволенным шахтерам компенсацию и экстренную работу. Борьба рабочих Стрипы продолжалась в общей сложности 2 года и 3 месяца и завершилась их полной победой: трудящиеся добились повышения зарплаты [5З9].
Синдикалисты приняли также участие в начавшейся 1 июня 1926 г. забастовке 6 тысяч каменщиков. Однако, поскольку большинство из них состояли в ЦОПШ, борьба велась реформистскими методами [54О].
В середине 1926 г синдикалистские рабочие, занятые на строительстве шоссе между Кируной и Луосса, начали забастовку, требуя повышения зарплаты и признания их профсоюзной организации. Конфликт продолжался почти год. Рабочие блокировали посланных штрейкбрехеров и добились того, что даже реформисты поддержали их борьбу. Потребительский кооператив, который должен был поддерживать бастовавших во время выступления, объявил «нейтралитет». Синдикалистские шахтеры в Кируне пригрозили объявить стачку солидарности, и это заставило предпринимателей выполнить все требования [541].
Коммунисты выдвигали задачу «завоевать или, по меньшей мере, нейтрализовать синдикалистов» и с этой целью вели кампанию за объединение ЦОПШ и САК («профсоюзное единство»). Они добивались в 1925 г. принятия соответствующих резолюций на профсоюзных конгрессах, что и было сделано рядом профсоюзных федераций ЦОПШ [542]. В январе 1926 г. по инициативе коммунистов была проведена профсоюзная конференция в Гетеборге, которая высказалась за единый рабочий блок. Синдикалисты из САК отказались принять в ней участие [543].
7 января 1926 г Компартия Швеции обратилась к ЦОПШ, САК, социал-демократической партии и Кооперативному союзу с призывом принять участие в намеченной конференции для обсуждения мер борьбы против «белого террора» в Италии, Болгарии, Эстонии, Румынии, Польше и других странах. Предполагалось, в частности, осуществить меры блокады этих стран и «вообще энергичные мероприятия для внушения фашистским правительствам... что нельзя безнаказанно вызывать рабочий международный класс» [544] ЦОПШ отвергло идею конференции [545], а САК сочла ее проведение нецелесообразным, поскольку вопрос, с ее точки зрения, должен был решаться на уровне всех трех профсоюзных Интернационалов, тем более что МАТ уже выступила с идеей организации рабочего бойкота фашистской Италии) [546].
Среди рядовых членов реформистских профсоюзов росли симпатии к синдикалистам. На конгрессе ЦОПШ в 1926 г. многие делегаты требовали объединения, но руководству, которое охарактеризовало САК как отколовшуюся группу, удалось провести резолюцию, в которой синдикалисты призывались вступить в ЦОП Ш. САК резко отвергла этот призыв. Альберт Йенсен расценил его как приглашение синдикалистской организации «совершить самоубийство, причем реформистская организация готова щедро взять на себя расходы на похороны» [547].
Усиливались разногласия и в самой САК. В 1926 г. оформилась оппозиция с центром в Гётеборге. Ее возглавил бывший член американских Индустриальных рабочих мира, блестящий оратор П.Й. Вслиндер (умер в 1934 г.). Оппозиция начала издавать еженедельную газету «Арбетаре-курирен», к ней присоединились местная организация САК в Стокгольме и несколько других организаций на Западе страны. Попытки примирения ни к чсму не привели, и в 1928 г. была основана «Синдикалистская рабочая федерация», которая приняла Декларацию принципов ИРМ. Хотя программа СРФ была во многом похожа на программу САК, существовали и некоторые отличия. СРФ считала наиболее бедных рабочих революционным твердым ядром организации. Наряду с местными организациями должны были существовать местные отраслевые секции, объединяющиеся затем в федерации. Подчеркивалось значение международных связей. С РФ обвиняла САК в бюрократизме и централизме, создании большого аппарата с ненужными параллельными функциями (отраслевые отделы), в централизованном принятии решений. В СРФ решать должны были местные организации. Новое объединение осуждало уступки САК в вопросс о коллективных договорах, полностью отвергая всякие соглашения с фиксированным сроком. Она отрицала также тактику длительных стачек, требовавших значительных забастовочных фондов, и высказывалась против таких фондов. За немногими исключениями, вызванными влиянием ИРМ, программа СРФ была похожа на старую программу САК 1910 г. СРФ вела активную пропагандистскую кампанию. В 1929 г. в ней было около тысячи членов, в ссрсдине 1930-х годов — около трех тысяч. Действовали 50 местных организаций, в основном на Юге и Западе страны, и лишь несколько — на Севере [548]. В отличие от САК, объединение с центром в Гетеборге, поддержанное четырьмя бывшими округами САК, с самого начала вело интенсивную борьбу за 6-часовой рабочий день [549].
В начале 1927 г. САК развернула кампанию против нового закона, ограничивавшего право на забастовку. Она обратилась с воззванием к рабочим, призвав их проводить собрания протеста против нового закона и игнорировать его в случае принятия. Синдикалисты стали прибегать в этот период к использованию новой формы борьбы — «системы списков». Они составляли списки безработных и организовывали давление на предпринимателей, чтобы добиться трудоустройства по спискам. В 1928 г. парламент, несмотря на всеобщую стачку протеста, принял закон, в соответствии с которым ограничивалось право на проведение забастовки, вводились принудительные государственные работы для безработных, строже контролировалось соблюдение коллективных договоров, власти получали право отложить проведение стачки на срок проведения арбитража и т.д. [550].
С тем чтобы смягчить воздействие безработицы, по инициативе рабочих-синдикалистов был образован «Производственный кооператив каменщиков Бохуслсна», к участию в котором были привлечены и рабочие, состоявшие в официальном профобъединении ЦОПШ. В нем участвовало до 200—300 человек. Предприятие получило ряд заказов, в том числе из-за границы. Зарплата выплачивалась в соответствии со ставками, существовавшими в отрасли. Хотя кооператив оставался независимым, САК выделила ему в 1927 г. в помощь 20 тысяч крон. Кооператив оказал поддержку 150 бастовавшим каменщикам в Берг-Эвья (135 из них были членами САК), которые, несмотря на забастовки солидарности, столкнулись со штрейкбрехерством официальных профсоюзов. Кооперативное предприятие трудоустроило всех бастовавших на время стачки, что вынудило предпринимателя уступить [551].
В 1928 г. члены САК были вовлечены в ряд крупных трудовых конфликтов. Многие из крупных стачек были навязаны рядовыми членами реформистских профсоюзов своему руководству. САК объявляла забастовки солидарности и финансировала их, выделив на это, в общей сложности, 800 тысяч крон [552].
1 января в горнорудной промышленности истек срок тарифного соглашения и предприниматели объявили локаут четырем тысячам рабочих (из них 1200 состояли в САК). В бумажной ПРОМЫШЛеНности были уволены 18 тысяч рабочих (в том числе 1200 из САК). Затем локаут в этой отрасли был расширен еще на 18 тысяч рабочих (включая 1600 членов САК). Шахтеры на фирме «Гренгесбсрг» объявили 23 января забастовку против снижения зарплаты. В знак солидарности с бастовавшими шахтерами Центральной Швеции началась стачка шахтеров Севера страны (Кируна и Мальмбсргет). Ее возглавили коммунистические профсоюзные функционеры, но рабочие САК также участвовали в борьбе, и организация даже заняла деньги, чтобы финансировать ее. В выступлении участвовали 8250 рабочих (в том числе 2700 синдикалистов). В итоге к феврало вели борьбу 40 тысяч рабочих — шахтеров, в бумажной и лесопильной промышленности (из них 5,5 тысяч состояли в САК).
Весной, когда работники бумажной промышленности отвергли правительственное посредничество, увольнение было распространено и коснулось 53 тысяч рабочих. Вслед за этим конфликты и стачки перекинулись и на другие отрасли — верфи, сахарную промышленность, морской транспорт. В целом в конфликте участвовали 65 тысяч рабочих. Однако реформисты быстро взяли выступление под контроль, и в начале апреля «большая борьба» завершилась посредничеством и компромиссом. В конце августа вынуждены были вернуться на работу, ничего не добившись, шахтеры Северной Швеции [553].
В 1928 г. в САК вновь обострились разногласия по вопросу о коллсктивных договорах. Синдикалистские организации северной области Норботген, где САК имела особенно сильные позиции, потребовали пересмотра традиционного отказа от этой практики, поскольку синдикалистские рабочие оказывались связанными договорами, заключенными от имени всех работников реформистами, и добивались возможности заключать собственные договоры. Вопрос был вынесен на конференцию Стокгольмского округа [554].
В конце 1928 — начале l929 г. САК развернула борьбу против закона 1928 г., вводившсго, в частности, принудительные государственные работы для безработных, отказываясь от участия в которых те теряли право на пособия. 800 железнодорожных строителей участка Иенчепинг—Ульрисехамн отказались работать за треть нормальной зарплаты. САК объявила забастовку и блокаду зоны конфликта, чтобы нс допустить штрейкбрехерства. Власти не признали законность стачки и при поддержке официальных профсоюзов направили на строительство штрейкбрехеров. Синдикалистский союз строительных рабочих призвал рабочих всей страны противодействовать этому. В синдикалистской печати была начата кампания в поддержку забастовки. В самих реформистских профсоюзах возникла оппозиция, и отраслевой профсоюз ЦОП Ш отменил прежнее решение и заявил о солидарности с бастующими. В Стокгольме рабочие производили сбор средств в поддержку участников забастовки. Синдикалисты выдвинули лозунг: «долой комиссию по безработице!» Борьба продолжалась несколько месяцев и закончилась компромиссом [555].
САК продолжала пропагандистскую работу. В 1925 — начале l928 г. она выпустила около 200 тысяч бесплатных брошюр по различным вопросам. В рамках поддержки бастующих организация выплатила в 1925 г. 360 тысяч крон, в 1926 г. — 536 тысяч крон, а в 1927 г. — приблизительно такую же сумму [556].
Несмотря на активную деятельность, ряды САК в 1926—1929 годах непрерывно сокращались. Отсутствие прогресса в развитии организации связывалось с безработицей, сокращением взносов и резервов для пропагандистской работы и привлечения новых членов, с расходами на приобретение участка земли и печатной техники, а также с давлением со стороны реформистских профсоюзов [557].
В конце 1926 г. в 626 местных организациях состояли 36 175 членов, из них в том числе 15,8 тысячи каменщиков и строителей; 12,8 тысячи рабочих лесной и бумажной промышленности; 2,6 тысячи шахтеров; 1,6 тысячи металлистов; 1,1 тысячи работников сельского хозяйства. К концу 1929 г. было всего 468 организаций с 26 256 членами, включая 13,9 тысячи каменщиков и строителей; 6,4 тысячи рабочих лесной и бумажной промышленности; 2,8 тысячи шахтеров; тысячу металлистов; 0,8 тысячи сельскохозяйственных рабочих [558]. С 1928 г. начало формироваться синдикалистское молодежное движение. Первый клуб синдикалистской молодежи был создан в Вестерос. На следующий год был образован Стокгольмский синдикалистский молодежный клуб, который стал исполнять функции координатора движения [559].
В начале 1929 г., как отмечалось в ежегодном отчете МАТ, синдикалистский профцентр находился «в материальном и моральном кризисе. Длительная борьба солидарности, которую САК вела в 1928 г. в поддержку конфликта, начатого реформистскими органииЦИЯМИ, ввергла организацию в крупные долги, которые висели на ее ногах, как тяжелые гири». Реформистские профсоюзы ЦОПШ использовали это положение для того, чтобы усилить нажим на синдикалистов [560]. С одной стороны, они все чаще использовали своих членов в качестве штрейкбрехеров во время стачек, которые проводила САК, и старались вытеснить их с рабочих мест. К примеру, сообщалось о том, что реформисты пытались организовать бойкот фабрики в Молилла, поскольку работавшие на ней столяры-плотники в большинстве своем состояли в САК, и даже уговаривали британские профсоюзы присоединиться к такому бойкоту [651]. В то же самое время съезд ЦОПШ в 1928 г. под давлением рядовых активистов официально предложил САК объединение. Через год секретариат ЦОПШ официально призвал САК провести переговоры об объединении. В синдикалистском профобъединении ряд видных активистов поддержал эту идею, даже ценою отказа от синдикализма. В 1928 г. САК обсуждала это предложение. Готовился референдум о том, проводить ли такие переговоры. Рабочий комитет САК разрабатывал платформу с изложением своих условий объединения. В ходе референдума члены САК по тактическим соображениям большинством голосов постановили поручить специальному Рабочему комитету из пяти членов провести переговоры об объединении с ЦОП Ш на основе синдикалистской программы. Эта платформа из 10 пунктов была, по существу, идентична принципам революционного синдикализма. Первая сессия переговоров состоялась 12 января 1929 г. и продолжалась З часа, после чего переговоры были отложены до 12 февраля. Реформисты сразу же предложили отбросить синдикалистскую платформу и перейти к другим вопросам. Результаты переговоров должен был обсудить конгресс САК 23—29 июня 1929 г. Руководящий комитст призвал членов САК не прекращать синдикалистскую пропаганду, независимо от переговоров [562].
К лету 1929 г. членам САК стало «совершенно ясно, что эту тактику прямо поддерживали некоторые влиятельные функционеры синдикалистской организации», — отмечалось в бюллетене МАТ. Эти функционеры вскоре получили места в руководстве ЦОПШ. Из пяти участников Рабочего комитета по переговорам трое приняли предложение ЦОПШ о прямом вступлении членов САК в профорганизации ЦОПШ, двое других (А. Йенсен и Альфред Андерссон) отвергли его. Маневры функционеров вызвали возмущсние рядовых членов ][563].
7-й конгресс САК, проходивший с 24 июня по июля 1929 г. с участием 128 делегатов, подавляющим большинством голосов высказался против объединения с ЦОПШ. Против такого шага голосовали 1 делегатов, 9 воздержалось и ни один не проголосовал за. Одному из членов бывшего исполкома (генеральному секретарю Э. Матгсону) было предоставлено слово, чтобы попытаться оправдаться; он сложил с себя полномочия (позднее был избран генеральным секретарем профсоюза шахтеров ЦОПШ). Конгресс принял манифест к рабочим по вопросу о слиянии, в котором объяснил мотивы своего решения. Делегаты постановили образовать комиссию для объединения с отколовшейся в 1928 г. синдикиистской группой в Гетеборге. При обсуждении вопроса о тарифных соглашениях большинство делегатов снова высказались в принципе против этой практики, но местным организациям было предоставлено право заключать их в особых обстоятельствах и на короткий срок. Была принята резолюция о проведении по всей стране агитации за 6-часовой рабочий день. Конгресс по предложению местной организации в Вестерос одобрил также создание общенациональной молодежной синдикалистской федерации (некоторые группы возражали против этого, опасаясь, что федерация станст экономическим бременем для САК; сторонники создания доказывали, что она будет способствовать привлечению в движение молодежи, которая не находила внутри САК достаточного поля для своих идейных дискуссий и культурной работы). Делегаты высказались за продолжение издания газеты «Арбетарен». В Северной Швеции синдикалисты издавали газету «Норрландсфолькет», которая с января 1929 г. выходила ежедневно [564].
Делегаты конгресса не только избрали новое руководство, но и одобрили новые статуты и приняли решение о реорганизации движения. Были согласованы меры, чтобы избавиться от долгов [565].
На конгресс была приглашена делегация СРФ, чтобы обсудить вопрос об объединении. Эта тема в последующие годы широко дебатировалась в обеих организациях [566].
Переход ряда ведущих функционеров в ЦОПШ вызвал определенные внутриорганизационные трудности в САК. Были пересмотрены списки членов организации, исключены лица, нерегулярно платившие взносы. В результате число членов САК сократилось с почти 28 тысяч до 25 тысяч членов в начале l930 г., однако ни одно местное объединение не было распущено. Стокгольмская организация выросла за 1929 г. с 2589 до 3242 человек, особенно за счет строителей и текстильщиков. Столичный союз провел за год 12 конфликтов, из них 9 выиграл [567].
В течение 1929 г. члены САК участвовали в 200 открытых трудовых конфликтах, часть из которых была организована ими самостоятельно, а часть — вместе с реформистскими организациями. На поддержку бастующим САК выплатила 203 337 крон, не считая выплат из местных касс. Основная борьба была направлена против «комиссии по безработице». Полного успеха достичь не удалось, но вопрос о ликвидации комиссии был поставлен на повестку дня. Даже социал-демократы — инициаторы создания этого учреждения — призвали в парламенте к ее ЛИКВИДаЦИИ 568 Забастовка дорожных рабочих в Фачепинге, которую вели синдикалисты, закончилась поражением из-за действий реформистских профсоюзов, объявивших стачку «дикой» и направивших штрейкбрехеров [569].
Шведские синдикалисты активизировали агитационно-пропагандистскую работу. Они проводили ежегодные курсы обучения, которые МАТ считала «образцом для подражания» [570]. В рамках организации действовали 22 агитационных округа, охватывавших всю страну. Округ возглавлялся правлением, избиравшимся на ежегодной окружной конференции. Работа велась в тесном контакте с местными организациями. Финансирование деятельности округов осуществлялось преимущественно из средств центра (в 1929 г. на это было выделено 65 338 крон), не считая собственных средств и сборов в самих округах [571].
По разработанному заранее плану шло создание отраслевых федераций. К 1930 г. в САК было пять таких федераций. Их руководство финансировалось из центра за счет взносов (в 1929 г. на них были истрачены 32 134 кроны) [572].
К началу 1930 г. САК преодолела внутренние трудности. Ее влияние укрепилось, тираж ежедневных газет «Арбетарен» и «Норрландсфолькет» вырос [573]. «Арбетарен» имела объем в 8 страниц крупного формата (иногда ее объем доходил до 10—12 или даже 20—30 страниц). В ее редакции работали 19 человек, получавших зарплату. Финансовый оборот газеты составлял в 1929 г. 430 063 кроны; она получала субсидии из средств САК в объеме 70 тысяч крон. Газета издавалась в собственной типографии (АО «Федератив»), в которой были профессионально заняты 40 рабочих. Она печатала также различныс материалы САК и выполняла внешние заказы. Оборот типографии составил в 1929 г. 743 529 крон. Сушествовало издательство, выпускавшее книги, брошюры, календари и т.д. (оборот в l929 г. — 94 604 кроны). Газета «Норрландсфолькет» выпускалась в отдельной типографии САК в Кируне (их оборот в 1929 г. составил ВО 266 крон). Раз в квартал выходили газеты рабочих лесной промышленности и строительства и т.д., а также информационный бюллетень САК [574].
В соответствии с решением конгресса САК была создана организация синдикалистской молодежи. В конце 1929 г. группы возникли во многих районах страны. В начале 1930 г. был создан общенациональный рабочий комитет. В конце 1929 г. имелись 12 , в марте 1930 г. уже 17, а в середине 1930 г 22 местные молодежные организации [575].
В июнс 1930 г. состоялся учредительный конгресс Синдикалистской молодежи с участием 22 (по отчету МАТ за 1930 г. — 21) делегатов от 17 местных клубов, объединявших 300 членов. Была одобрена декларация принципов и избран Центральный комитет с функциями исполнительного органа между конгрессами. В декларации указывалось, что основная задача федерации состояла в обучении рабочей молодежи и объяснении ей роли экономических проблем в обществе. Острый спор вспыхнул в ходе обсуждения проблемы милитаризма. Дслсгаты были едины в отклонении буржуазного пацифизма, но разошлись в вопросе о применении насилия в ходс классовой борьбы. Одни из участников высказывались за его применение, другие против. Выступая на конгрсссс, Иенсен отметил, что впервые в истории синдикализма в Швеции был поставлен вопрос о недостаточности одной лишь всеобщей стачки и о необходимости «оборонительной организации пролетариата». По его собственному убеждению, всеобщую стачку нельзя было считать «всемогущей», и вооруженному насилию предстояло сыграть свою роль наряду с другими факторами. Он высказался за либертарную форму военной организации. В итоге делегаты приняли резолюцию, в которой отвергался любой милитаризм, в том числс и «красный», указывалось, что лишь от противников пролетариата будет зависеть, вынуждены ли будут синдикалисты прибегнуть к насилию. Делегаты одобрили также ряд других резолюций — о безработице, воздержании от употребления алкоголя и т.д. [576].
В 1930 г. реформисты продолжали договариваться с предпринимателями за спиной ВСДШИХ борьбу синдикалистских рабочих, после чего трудящимся навязывались условия, согласованные профсоюзами, в которых они даже не состояли. Так произошло, к примеру, с дорожными рабочими в Норра Смоланд и Нючепингс. Чтобы привлечь перебежчиков из САК, профсоюзы ЦОПШ приняли решение освободить вступающих к ним синдикалистов от вступительного взноса. В ответ САК сделала то же самое для выходцев из официальных профсоюзов. САК организовала широкую кампанию против штрейкбрехерства официальных профсоюзов. В ее рамках были розданы десятки тысяч брошюр, проведено 200 публичных собраний. Синдикалисты вели борьбу за сокращение рабочего времени и перераспределение труда. В ряде случаев им удавалось этого добиться , как, например, на предприятиях «Шиссхютан» [577].
Когда правительство соседней Финляндии в 1930 г. разгромило и запретило рабочие профсоюзы, САК, Синдикалистская молодсжь, анархисты и коммунисты Швеции призывали оказать помощь репрессированным рабочим. Шведские синдикалисты шли в авангарде кампании в поддержку жертв реакции в Финляндии. Был создан Комитет помощи, который собрал значительные суммы денег для арестованных и их семеи [578].
Синдикалисты пытались также организовать безработных. 13—14 декабря 1930 г. по инициативе САК был проведен конгресс безработных. 170 делегатов (в большинстве своем — члены САК) представляли более 100 тысяч безработных трудящихся. Форум был созван Центральным комитетом безработных, председателем которого был генеральный секретарь САК Джон Андерсон. Сторонники компартии пытались расколоть конгресс, но это им не удалось. Были сделаны доклады об экономической рационализации капитализма и безработице и о государственной политике в отношении безработицы. Принятые резолюции носили не чисто синдикалистский характер. Участники потребовали сокращения рабочего времени и перераспределения труда, ликвидации обязательного труда для безработных и «комиссии по безработице», создания системы общественных работ. В то же время отмечалось, что в условиях сушествующего общества полностью решить эту проблему невозможно. Конгресс избрал комиссию для передачи решений правительству [579].
В течение l930 г. САК израсходовала 70 тысяч крон на пропаганду, проведение митингов, конференций, издание листовок и т.д. Непрерывно выходили газеты организации. Выходили ежемесячник Федерации строителей и информационный бюллетень САК. Были изданы также бесплатная брошюра тиражом в 35 тысяч экземпляров, афиша против саботажа классовой борьбы реформистскими профсоюзами (10 тысяч экземпляров), специальный номер «Арбетарен» (40 тысяч экземпляров) и антимилитаристская листовка. В систематических курсах учебы приняли участие 1 133 члена. Всего в 1930 г. было организовано 18 курсов, посвященных синдикализму, его теории, практике, распространению в различных странах, методам борьбы. На эти курсы были истрачены тысячи крон. Помимо курсов по синдикализму, организовывались и другие.
В тсчсние года 1 17 местных организаций САК принимали участие в различных трудовых конфликтах; их членам было выплачено в порядке помощи 234 256 крон. К концу 1930 г. фонд солидарности располагал 350 тысяч крон. Три члена САК были осуждены за участие в стачках: один из них был приговорен к 5,5 месяцам тюрьмы, двос других — к месяцу заключения. Один из местных профсоюзов САК был оштрафован за «незаконную» забастовку на 2100 крон плюс по 140 крон с каждого члена. Численность САК достигла 28 150 человек-580. Действовали 468 отделений. По отраслевой принадлежности члены САК распределялись следующим образом: 15,9 тысячи каменщиков и строителей; 6, тысячи рабочих лесной и бумажной промышленности; 2,8 тысячи шахтеров; 0,9 тысячи металлистов; 0,7 тысячи сельскохозяйственных рабочих. Большинство местных организаций САК были небольшими более 50 членов. Только в Стокгольме в ней состояли 4 тысячи человек, в Кируне и Гётеборге — по тысяче [581].
В Норвегии члены Норвежской синдикалистской федерации (НСФ) на референдуме в начале 1923 г. единогласно проголосовали за вступление в МАТ [582]. Несмотря на небольшую численность организации, она активно участвовала в забастовках и рабочих протестах. Так, в 1923 г. рабочие на постройке железной дороги приняли решение создать Федерацию землекопов и каменотесов и вступить в НСФ. Они потребовали участия в переговорах с администрацией и выступили против правительственного плана сокрашения зарплаты. Власти вынуждены были считаться с требованиями рабочих [583]. В конце 1923 г. объявили стачку пять тысяч норвежских металлургов, протестуя против сокращения зарплаты, обусловленного ростом стоимости жизни. Предприниматели сочли ее незаконной и объявили локаут. Суд запретил забастовку, но она продолжалась. НСФ помогала бастующим, собирала средства в помощь рабочим. Зимой и вссной собрано не менее 20 тысяч крон. Рабочие призвали к международной солидарности. Во всех отраслях промышленности начались стачки солидарности [584]. В январе 1924 г. забастовали транспортники и докеры, требовавшие повышения зарплаты; попытки наладить портов с помощью штрейкбрехеров не удались. марта предприниматели объявили локаут трудящимся различных профессий. В итоге число бастующих и уволенных выросло до 70 тысяч. Выдвигались требования о провсдснии всеобщей стачки. Однако лидеры официальных профсоюзов уступили и приняли предложения властей о посредничестве [585]. В конечном счете длившаяся 7 месяцев стачка металлистов потерпела поражение: рабочим удалось добиться повышения зарплаты всего на 570. В обраихНИИ к рабочим синдикалисты объяснили это тактикой реформистских профлидеров и призвали работн иков к самоорганизации [586].
В середине 1924 г. НСФ подводила итоги минувшего года развития. Она констатировала, что синдикалистское движение в стране хоть медленно, но прогрессирует. Число членов не возросло, но организация укрепилась. Ее представители совершили агитационные поездки по всей Норвегии. В целом НСФ насчитывала 51 мсстное отделение, в которых состояли 1412 человек [587].
27—30 сентября 1924 г. состоялся 4-й съезд НСФ, в котором приняли участие 30 делегатов. Председателем съезда был избран П. Смит, присутствовал также один из членов бюро МАТ. Участники обсудили вопрос о вступлении в качествс меньшинства в реформистские профсоюзы и отвергли это предложение. Была принята резолюция о необходимости усиления борьбы в рабочем классе, чтобы преодолеть его раскол, вызванный действиями политических партий. По вопросу о взаимоотношениях с орган изованным анархистским движением была принята резолюция, в которой указывалось на идейные точки соприкосновения между этим движением и синдикалистами. Это касалось в особенности отношения к государству, централизму и капитализму. В то же самое время делегаты высказались против организационного слияния с анархистами или привилегированного сотрудничества с ними. Синдикалисты указали на возможность сотрудничества со всеми организациями, с которыми имеются общие цели или общие задачи в совместных действиях. Была принята резолюция, осуждавшая приговоры рабочим активистам, осужденным за отказ служить в армии. НСФ предложила реформистскому профобъединению объявить в знак протеста всеобщую стачку. Важной темой был вопрос о поддержке бастующих и уволенных: вместо прежних добровольных пожертвований был введен взнос солидарности. Принята резолюция против международной реакции. Чтобы способствовать развитию культуры и сознания рабочих, съезд предложил местным объединениям план исследовательской работы и создание пяти тематических групп. Съезд одобрил реорганизацию НСФ на базе отраслевых федераций.
Новая Декларация принципов НСФ соответствовала принципам МАТ. Положения о синдикализме и борьбе с милитаризмом были непосредственно заимствованы из Декларации анархо-синдикалистского Интернационала 5 * 8 . НСФ активно участвовала в антимилитаристской кампании. Успехи синдикалистов вызывали недовольство и репрессии со стороны властей. Редактор газеты «Аларм» подвергся аресту, через несколько месяцев против него было снова возбуждено судебное дело [589].
В 1924 г. появилась и синдикалистская оппозиция внутри официального Центрального объединения норвежских профсоюзов. В 1925 г. под его влиянием конференция ЦОПН высказалась за сотрудничество с МАТ [590].
В середине 20-х годов предприниматели усилили наступление на рабочий класс. Против забастовок систематически применялись локауты. НСФ активно участвовала в забастовочной борьбе, и перенапряжсние се небольших сил ввергло организацию в кризис. К маю 1925 г. около половины членов бастовало, из оставшихся только 2070 имели работу, другие остались без работы. Секретариат МАТ призвал к сбору средств в поддержку бастующих норвежских синдикалистов. Средства собрали синдикалистские организации Швеции, Германии и и Голландии [591]
НСФ участвовала сразу в нескольких крупных трудовых конфликтах. На металлических рудниках в Фосдалене в январе 1925 г. рабочие начали акцию по снижению темпов работы, требуя повышения зарплаты, улучшения условий жизни и труда. Борьбу открыли синдикалисты, к ним присоединились члены реформистских профсоюзов Через два дня предприниматели уволили нескольких синдикалистов, а 21 января объявили общий локаут. Руководство рабочего кооператива отказалось предоставить денежные средства своим борющимся членам, деньги были добыты у частного лица. Власти выступили на стороне предпринимателей: мэр—член Рабочей партии распорядился о высылке семи шведских синдикалистов, которые возглавляли борьбу, но правительство не рискнуло осуществить это решение из-за протестов. Синдикалистский профцентр объявил блокаду места стачки и, когда реформисты отказались ее соблюдать, изгнал штрейкбрехеров силой. Председатель местной организации НСФ в течение 46 дней находился в тюрьме 592 В июне 1927 г. конфликт еще продолжался. МАТ призывала рабочих из-за границы не ехать в Норвегию, чтобы не выступать в роли штрейкбрехеров в Мальме [593].
Второй конфликт вспыхнул 19 мая 1925 г.: забастовали члены Союза неквалифицированных рабочих государственных предприятий. Хотя забастовка была плохо подготовлена и проходила в невыгодных условиях, НСФ поддержала бастующих, и 800 ее членов присоединились к стачке. После месяца борьбы реформистские профлидеры пошли на уступки администрации и прекратили борьбу. Наконец, в конце мая выступили каменотесы. Здесь борьбу тоже возглавляли реформисты, но 100 членов НСФ приняли в ней участие [594].
Синдикалистская федерация была создана также на принадлежавшем Норвегии архипелаге Шпицберген. В ней насчитывалось около 280 рабочих. Большинство из них (200) работали на шахте Нидерландской угольной компании и были скандинавами. Зимой 1924 г. организация на этой шахте вела борьбу за повышение зарплаты и добилась ее увеличения на 3070, а также улучшения условий гигиены. Голландские рабочие поддержали выступление, а немецкие выступали в роли штрейкбрехеров. Помимо членов ССФ, на архипелаге насчитывалось еще 170 членов шведской САК. Остальные из 1300 рабочих не состояли в профсоюзах [595]. Федерация считалась частью МАТ [596].
В начале 1926 г. НСФ сообщала о создании новых своих оргаНИЗаЦИЙ среди рабочих химической промышленности. В то же время в одной из отраслей, бывших оплотом синдикалистов, — камнеобрабатывающей, производство и число рабочих мест сокращались [597]. И в других отраслях предприниматели односторонне расторгали тарифные соглашения и увольняли рабочих. Наиболее значительным был локаут в 1926 г. Увольнение 30 тысяч рабочих сильно затронуло членов НСФ в горном деле и строительстве. Затем локаут был расширен и на другие категории трудящихся, общее количество уволенных достигло 50—60 тысяч человек. Он продлился более полутора месяцев при полной бездеятельности официальных профсоюзов [598]. Новый крупный локаут предприниматели объявили в феврале 1927 г. Он продолжался более трех месяцев [599].
Несмотря на локауты и широкое использование штрейкбрехеров, рабочие продолжали бастовать. Большой отклик встретила, например, стачка трамвайщиков в Бергене в 1926 г. [600].
В 1927 г., чтобы справиться с забастовками, был вновь (как и в 1922 г.) принят временный закон о принудительном арбитраже и одновременно «тюремный закон», предусматривавший тюремное заключение за противодействие или оскорбление штрейкбрехеров в случае «незаконной» стачки (действовал до 1930-х гг.). НСФ выпустила обращение к рабочим против закона о принудительном арбитраже [601]. Она попыталась организовать сопротивление его внедрению. Так, отвергли арбитраж рабочие электростанции в Нуре, где у синдикалистов было сильное влияние. В Юлуссе бастовавшие сплавщики леса готовились оказать вооруженное сопротивление штрейкбрехерам и полиции: выступление было подавлено только после ввода войскЬ [602].
Активность норвежских синдикалистов не ограничивалась участием в забастовочном движении. В 1926— 1927 годах они вместе с анархистами создали комитет защиты Сакко и Ванцетти, который призвал к бойкоту американских товаров [603]. Под эгидой НСФ создавалось молодежное синдикалистское движение. Дискуссия о создании собственных молодежных рупп началась в НСФ в 1925— 1926 годах. В 1926 г. были созданы «федералистские молодежные группы» в Осло, Бергене и Ода, в 1927 г. — в Оппергорде, Хове, Фагерхольте (причем только в двух последних пунктах насчитывалось 58 членов). Ожидалось образование групп в Нутоддене и Шиэне. НСФ обратилась ко всем местным организациям с призывом оказать содействие формированию молодежных групп. Группы согласовии общую шатформу и декларацию о создании Норвежского федералистского движения молодежи [604]. Молодые синдикалисты активно боролись с военной службой. В конце 1927 г. трое из них были осуждены на 60 дней тюрьмы за отказ пойти в армию [605].
В начале 1928 г. в стране впервые на 18 дней пришла к власти Норвежская рабочая партия. НСФ отрицательно отнеслась к правлению «реформистов». В обращении к рабочим она предупредила, что предприниматели попытаются использовать в своих целях тяжелое положение трудящихся и создание «рабочего» правительства [606].
25 мая 1928 г. вспыхнула крупная стачка строителей, протестовавших против решения принудительного арбитража о значительном сокращении зарплаты. В забастовкс приняли участие и члены НСФ в Осло, Оше, Тюсседале, Бергене, Сауде, Ставангере, Тронхсйме. НСФ обратилась к зарубежным организациям с просьбой о помощи. МАТ присоединилась к этому призыву. Объявленная «незаконной» стачка продолжалась в течение 8 недель. Штрейкбрехеров не находилось. Забастовщики создали Комитет действий, независимый от официальных профсоюзов. В итоге был достигнут компромисс [607]. Успех рабочих нанес решительный удар по принудительному арбитражу; через год он был отменен [608]. Однако власти пытались отомстить рабочему движению. Редактор синдикалистского органа «Аларм» Карл О. Танген был приговорен к 90 дням тюрьмы за статью о стачке [609].
В результате безработицы и увольнений число членов НСФ в конце 20-х годов сократилось, но ее влияние росло благодаря интенсивной агитации через еженедельную газету «Аларм», издаваемые брошюры и книги, устной пропаганде. Этому способствовало и разочарование рабочих в официальных профсоюзах, которые заставляли рабочих соглашаться на невыгодные условия труда и зарплаты [610]
Во второй половине 1929 г. начали забастовку синдикалистские рабочие цинковых предприятий в Оде, требуя 6-часового рабочего дня и безопасных условий труда. После нескольких месяцев борьбы рабочие, состоявшие в реформистских профсоюзах, вернулись на работу. Синдикалистские рабочие установили блокаду вокруг предприятий, но реформисты прорвали ее. В конце концов синдикалисты были также вынуждены возобновить работу [611].
В отчете МАТ за 1929 г. констатировалось «особенно тяжелое положение» НСФ, ослабленной штрейкбрехерской практикой реформистских профсоюзов, которые срывали организованные синдикалистами забастовки. Тем не менес федерация инициировала ряд стачек, вела активную агитацию за 6-часовой рабочий день и издала брошюру, посвященную этому требованию [612] . Согласно отчету за 1930 г., в НСФ насчитывалось всего около 500 членов. Тем не менее она продолжала поддерживать забастовочное движение, несмотря на трудные условия, осложненные кризисом и ростом безработицы. Так, НСФ поддержала «нелегальную» забастовку рабочих в Бэруме около Осло. Суд приговорил участников к тюремному заключению за «незаконную» стачку при полном одобрении реформистских профсоюзов. С осени синдикалисты вынуждены была перейти от еженедельного издания «Аларм» к выпуску два раза в месяц. Тем большее внимание организация уделяла устной пропаганде. Ее ораторы объездили всю страну, брали слово на различных рабочих собраниях, митингах и т.д. [613]. В качестве пропагандистской меры НСФ призвала Нобелевский комитет присудить Нобелевскую премию мира МАТ и Международному антимилитаристскому бюро [614].
В Дании синдикалистская тенденция оставалась нестабильной и так и не сумела оформиться в сравнительно прочную организацию. «Профсоюзная оппозиция», объединившаяся в начале 1920-х годов с коммунистами, вскоре сочла этот шаг ошибочным и создала оппозиционную внутрипартийную группу; ее лидеры были постепенно исключены из партии. Некоторые из исключенных и добровольно вышедших из компартии образовали новое объединение по образцу прежней «профсоюзной оппозиции». По всей стране были восстановлены старые контакты.
Лауритц Хансен, Иенс Стёрегаард, Эмиль Манус и другие активисты смогли сплотить силы и добиться созыва конгресса 18 ноября 1923 г. в Вайле. На конгресс направили своих представителей профсоюзные клубы от шести городов. Доклады делегатов продемонстрировали недовольство рабочих действиями социал-демократов и коммунистов, а также реформистских профсоюзов, из которых вышло до 60 тысяч человек. На конгрессе было создано Объединение профсоюзных клубов, приняты его программа и статуты. Оно не выступало за раскол профсоюзов, а предлагало образовать на местах межпрофессиональные клубы, построенные на основе федерализма и полной самостоятельности в местных вопросах, так что общие вопросы должны были решаться референдумом. В принятой на конгрессе декларации указывалось, что государство не может служить свободному труду, что все формы буржуазного общества должны быть взорваны, а наемный труд ликвидирован. Участники конгресса высказались за использование всех методов борьбы, которые способны ослабить капитализм. Одновременно следовало так воспитать и подготовить рабочих, чтобы они смогли взять в свои руки производство и распределение. Целями организации были провозглашены социализация земли и средств производства, обустройство общества на принципах вольного коммунизма. Первоочередной задачей объединение считало ведение энергичной агитации внутри реформистских профсоюзов с целью повысить революционную сознательность рабочих и убедить их в недостаточности реформистских профсоюзов. Организация заявила о присоединении к МАТ [615].
В 1924 г. была предпринята попытка объединения новой оргаНИЗаЦИИ со студенческой оппозицией, сформировавшейся внутри компартии, — «Новым студенческим обществом». Студенты добивались принятия в синдикалистскую организацию группы вокруг студенческого печатного органа «Пресссн». Переговоры, которые шли при посредничестве бывшего лидера «профсоюзной оппозиК. Кристенсена, успехом не увенчались. Тем временем к руководству организацией пришли бывшие участники «профсоюзной оппозиции», нс имевшие, однако, никаких связей с компартией. Это придало движению более отчетливый синдикалистский характер.
20 апреля 1924 г. в Копенгагене состоялась новая обшенациональная конференция с участисм делегатов от столицы и восьми провинциальных городов. На ней «Новое студенческое общество» вновь предложило синдикалистам сотрудничество, но те отвергли его из-за нежелания иметь что-либо общее с коммунистами. Тем не менее была принята резолюция, приветствовавшая вступление студентов в синдикалистские организации. В ответ «Новое студенческое общество» покинуло конференцию вместе с частью провинциальных делегатов. После этого конференция постановила переименовать объединение в Революционный рабочий союз Дании (РРС). Были разработаны, представлены на рассмотрение и одобрены статуты и программа. Из-за дезорганизующей деятельности «Нового студенческого общества» РРС не удалось закрепиться в провинции, и ему пришлось сконцентрировать все силы на восстановлении движения в Копенгагене [615]. В период массового локаута против бастующих, объявленного предпринимателями 21 апреля 1925 г., революционные синдикалисты усилили пропаганду всеобщей стачки Ы7 . Социал-демократическое правительство выступило против рабочих.
В 1925 г. синдикалистам удалось вытеснить коммунистов из некоторых секторов профсоюзного движения и придать им чисто синДИКШIИСТСКИЙ характер. Было возобновлено издание бывшего печатного органа «профсоюзной оппозиции» — газеты «Солидаритет». В 1925 г. РРС объединял семь профсоюзных клубов и готовил создание еще нескольких организаций. Принятая союзом Декларация принципов была приведена в полное соответствие с принципами МАТ. В 1925 г. все члены и клубы единогласно одобрили присоединение РРС к МАТ [618]. Ко времени конгресса анархо-синдикалистского Интернационала РРС рассматривался как еще не входящая в состав, но дружественная организация [619].
Раскол голландского синдикализма.
Создание Нидерландского синдикалистского профобъединения
Создание Нидерландского синдикалистского профобъединения
После Учредительного конгресса МАТ в голландском синдикалистском профцентре — Нидерландском секретариатс труда (НСТ) усилились разногласия между сторонниками вступления в Профинтерн и присоединения к МАТ. Синдикалистское течение во главе с Лансинком ориентировалось теперь на реШИТеЛЬНЫЙ разрыв с приверженцами Москвы. Оно готово было пойти на раскол НСТ, если решение о вступлении в Профинтерн будет осуществлено. В случае победы оно стремилось изгнать сторонников компартии из организации. Со своей стороны, лидер прокоммунистического течения Боуман не доверял руководителям НСТ (Дисселю и другим лидерам, которые изменили свою позицик) лишь за несколько месяцев до этого). Как явствует из его письма в Профинтерн от 12 февраля 1923 г., Боуман строил планы их смещения, захвата руководства НСТ и его газеты «Де Арбейд» и изгнания своих противников. Впрочем, он признавал сложность этой задачи, учитывая, что члены НСТ не слишком сильно интересовались вопросом международной ориентации и не хотели расола организации [620].
Спор между приверженцами Москвы и Берлина оказался в центре конгресса НСТ, проходившего с 31 марта по 2 апреля 1923 г. в Амстердаме. Коммунистам удалось мобилизовать своих приверженцев и, благодаря финансовой помощи, доставить их на форум. Из 300 местных объединений было представлено всего 150; нормы представительства также благоприятствовали сторонникам коммунистов [621].
Предложение маляров Амстердама не присоединяться ни к Профинтерну, ни к МАТ было отвергнуто 177 голосами против пяти при семи воздержавшихся. Точно так же делегаты 104 голосами против 57 при 1 7 воздержавшихся отклонили проект резолюции, который был внесен федерацией работников сигарной промышленности, и предлагали исключить из НСТ тех членов, которые ставят решения партии выше решений профсоюза [622]
Около 50 делегатов, представлявших РСВОЛЮЦИОННО-СИНдИКалистское меньшинство, с самого начала предупредили, что не признают решения о присоединении к Профинтерну. Они предложили проект резолюции, осуждавшей руководство профцентра за нарушение воли членов, выраженной в ходе референдума. В итоге 99 делегатов проголосовали за Профинтерн, 84 — за МАТ, 9 делегатов воздержались. Но борьба еще не была окончена. Коммунисты попытались сместить сторонника МАТ с поста редактора печатного органа «Де Арбсйд», но он был переизбран большинством голосов [623]. В статье, опубликованной в «де Арбейд» 4 апреля, Лансинк заявил, что является членом МАТ и не пойдет за НСТ по дороге в Москву. Он подчеркнул, что решения Второго конгресса Профинтерна по вопросу о связи с Коминтерном носят исключительно формальный характер и зависимость Профинтерна от компартии сохраняется [624].
Затем вопрос о международной ориентации НСТ был вынесен на референдум 21 апреля — 20 мая 1923 г Федерации металлистов, текстильщиков, рабочих табачной промыи-шенности, фабричных рабочих, рабочих одежной промышленности и сельскохозяйственных рабочих призвали голосовать за МАТ [625]. В ожидании результатов генеральный секретарь НСТ Диссель дважды (в мае и июне) информировал Среднеевропейское бюро Профинтерна о том, что представители голландского профцентра пока не могут принять участие в работе Московского Интернационала [626].
Референдум закончился победой сторонников Москвы. Из 22 тысяч членов НСТ в нем приняли участие 14 447 человек, из которых 7302 голосовали за Профинтерн, 6489 — за МАТ, 315 голосовали незаполненными бюллетенями, 341 бюллетень был признан недействительным. Из 10 крупнейших федераций НСТ с количеством членов более тысячи шесть голосовали за МАТ — это объединения фабричных рабочих, работников одежной промышленности, металлистов, табачников, общей транспортной и текстильной промышленности. Профинтерн поддержали лишь строители, мебельщики, служащие и транспортные рабочие [627].
Оказавшись перед угрозой неминуемого раскола, многие лидеры НСТ вновь изменили свою позицию и стали искать компромисс, который позволил бы сохранить единство. 23 мая 1923 г. на чрезвычайном заседании членов Правлений федераций и местных организаций НСТ Федерация строителей предложила резолюцию о необходимости сохранить единство, независимо от исхода референдума. Этот проект был поддержан и коммунистами, но в итоге был отоонсн 23 голосами против 15. Лидер объединения коммунальных работников и амстердамской биржи труда Корнелис Китц призвал к компромиссному решению: объединению МАТ и Профинтерна [628].
Когда июня члены Правлений федераций и местных организаций НСТ собрались для рассмотрения результатов референдума, то, к неудовольствию коммунистов, предложение транспортников во главс с Боуманом о присоединении к Профинтерну и отставке членов Правления НСТ и редакции «де Арбсйд» было отклонено [629]. Противники заявили, что итоги референдума нe означают автоматического присоединения к Московскому Интернационалу. Уступив требованиям рядовых членов своей федерации, которые голосовали против Профинтерна, лидеры коммунальщиков во главе с Китцем добились принятия резолюции, в соответствии с которой результаты референдума всего лишь принимались к сведению, а Правлению НСТ поручалось стремиться к примирению обеих сторон и объединению Московского и Берлинского Интернационалов. Затем следовало провести новое обсуждение и организовать новый референдум. Предложение требовало от всех членов НСТ соблюдать это решение и избегать нападок на членов Правлсния [630]. В свою очередь, Лансинк обвинил сторонников Профинтерна в попытках свергнуть руководство НСТ. Он угрожал пойти на раскол и создание «нового НСТ», который в течение пяти лет добьется полного успеха, в то время как старый НСТ зачахнет. Однако лидер синдикалистов заявил, что считает компромисс, предложенный коммунальщиками, приемлемым.
Сторонники обоих Интернационалов провели раздельные заседания. На собрании приверженцев Профинтерна представители федерации строителей предложили временно нс присоединяться ни к МАТ, ни к Профинтерну и создать комиссию для поисков компромисса. Об этом было сообщено сторонникам МАТ, но тe не желали принять это предложение, настаивая на резолюции коммунальщиков с дополнениями, предложенными федерацией работников сигарной промышленности. Собрания завершились без официального решения.
Однако 2 июня Правление НСТ сообщило в манифесте, что компромисс накануне был достигнут, раскол предотвращен и образуется комиссия для выработки общего решения [631]. В нее были включены Скертон (представитель коммунальщиков), Карел Вольф (представитель сигарочников, убежденный сторонник МАТ), Роодевельдт (секретарь Федерации строителей), Диссель и сторонники Профинтерна. Коммунисты сообщали в Профинтерн, что ожидают неминуемого поражeния [632].
За основу компромисса должно было быть взято предложение коммунальщиков [633]. Диссель проинформировал Профинтерн о принятом решении и о намерении провести в организации соответствующий референдум. Свой референдум должны были организовать и сторонники МАТ [634].
Результаты работы комиссии обсуждались на новой встречс членов Правлений федераций и местных организаций НСТ 7 июня. Но к этому моменту положение в НСТ вновь изменилось. Среди сторонников МАТ существовали разногласия: федерации текстильщиков, фабрично-заводских рабочих и портных стремились любой ценой избежать раскола, в то время как металлисты и сигарочники отвергали компромисс. Лансинк колебался. Когда встреча началась, он заявил, что компромисс в прежнем виде недостаточен и синдикалисты настаивают дополнительно на полном запрете фракций в НСТ. В итоге сторонники МАТ голосовали против компромиссного предложения коммунальщиков. Приверженцы Профинтерна (транспортники, деревообделочники и служащие), напротив, по тактическим соображениям поддержали его. «Можно было вполне наверняка считать, что берлинцы не примут компромисс, и тогда они должны предстать перед рабочими, как раскольники», — объяснял Боуман в письме, направленном 8 июня в Профинтерн. Эта линия принесла успех: Диссель и Кити, раздраженные позицией сторонников МАТ, объя вили, что приверженцы вступления в Профинтерн «сказали свое последнее слово» и теперь Правление сделает свои выводы из несостоявшегося компромиссаб-35 . Позднее анархо-синдикалисты заявляли, что переговоры о компромиссе были прерваны после того, как стало известно, что секретарь НСТ Диссель открыто пообещал своим приверженцам, выиграв время, «разделаться с берлинскими ребятами» [635].
Сторонники МАТ приняли решение покинуть НСТ и образовать новый профцентр — Нидерландское синдикальное профобъединение (НСП)637 . «Наши товарищи долгое время пытались сохранить НСТ, но, к сожалению, мы потеряли его. Можно сказать, что мы слишком долго пытались сохранить единство НСТ и слишком долго упускали возможность сделать то, что настоятельно должны были сделать, а именно занять позицию: либо нам, либо московским разрушителям следует покинуть организацию», — самокритично признавал позднее Лансинк [638].
Учредительная конференция НСП была проведена в Утрехте 24 июня 1923 г. с участием 50 делсгатов [639]. Они представляли 21 организацию строителей, металлистов, табачников, фабричных рабочих, текстильщиков, портных и транспортников. Участники единогласно одобрили создание нового профобъединения на позициях МАТ. Решение о присоединении к МАТ вынесли Федерация шахтеров, Нидерландское объединение моряков в Роттердаме, федерации фабричных рабочих, текстильщиков, табачников, портных, металлистов и железнодорожников. Была образована новая федерация транспортников взамен той, которая осталась в составе НСТ [640]. Выступая на конференции, Лансинк пообещал, что через 10 лет в НСП будет 10 тысяч членов. А пока что, по данным на август 1923 г., число члснов нового профобъединения составляло 5125 (в НСТ 14 870). Из них было 2200 металлистов (400 в НСТ), 700 сигарочников (450 в НСТ), 600 текстильщиков (500 в НСТ), 500 моряков из федерации «Согласие», 400 фабрично-заводских рабочих (750 в НСТ), 300 строителей (3300 в НСТ), 300 коммунальщиков (3600 в НСТ), 125 транспортников (4200 в НСТ), 50 железнодорожников (200 в НСТ), 30 сельскохозяйственных рабочих и 20 шахтеров.
(90 в НСТ). Полностью в НСТ остались деревообделочники (1200) И служащие (80) [641].
25 июня на заседании Правления НСТ официально объявили о своей отставке присоединившиеся к НСП члсны этого органа — Бернард Лансинк, Бернард Лансинк-старший, Х. Хюве, К. Вольфф и Й. Ван-Риссель [642].
30 июня 1923 г. был начат выпуск печатного органа НСП еженедельника «де Синдикалист» [643]. В первом же циркуляре комитет НСП предложил каждой из федерации НСТ и каждой бирэкс труда (местному профобъсдинению) проголосовать за выход из секретариата и за вступленис в НСП. Предполагалось, что в федерациях, поддержавших Профинтерн, синдикалистское меньшинство отделится и образует новую федерацию. Точно так же циркуляр предлагал поступать синдикалистскому меньшинству в местных профобъединениях, которые остались лояльны руководству НСТ. Уже 8 июля прошла учредительная конференция новой федерации шахтеров на позиции МАТ [644].
Почти сразу после создания новое профобъединение приняло участие в крупных протестах рабочих против правительственной программы развития военного флота. Оно образовало революционный комитет вместе с представителями других либсртарно-социалистических и анархистских организаций и групп. В проведенной им 23 сентября общенациональной демонстрации в Роттердаме, поддержанной 100 местными союзами, участвовали 2 тысячи человек. НСП проводило акции протеста отдельно от социал-демократов и коммунистов, поскольку принципиально вело борьбу «на антимилитаристской и антикапиталистической основе». Реформистские профсоюзы, коммунисты и «нсйтральные» профсоюзы организовали собственные акции. В конечном счете удалось добиться того, что парламент отверг правительственный план [645].
На 1-м конгрессе НСП в Утрехте 25—26 ноября 1923 г. 122 делегата представляли 8 отраслевых федераций, 9 рабочих бирж (местных объединений союзов различных профессий) и 65 местных союзов. Всего к этому моменту имелось 11 федераций со 142 местными союзами (7250 членов) и 8 отдельных местных союзов (750 членов). В 15 населенных пунктах существовали местные объединения профсоюзов — рабочие биржи. Конгресс единогласно постановил вступить в МАТ, принял Декларацию принципов и статуты, которые полностью соответствовали идеологии анархо-синдикалистского Интернационала. Делегаты решили также, что члены правления организации не могут состоять в политических партиях [646].
На января 1924 г. в НСП насчитывалось 8110 членов (в том числе 21 70 металлистов, 1245 табачников, 1 190 текстильщиков, 680 моряков, 610 работников коммунального хозяйства, 585 фабричных рабочих, 490 строителей, 486 транспортников, 295 работников одежной промышленности, 180 деревообделочников, 75 железнодорожников, 55 работников сельского хозяйства и 50 шахтеров). К концу того же года число членов несколько сократилось (до 7539) за счет исчезновения в начале года объединения работников коммунального хозяйства. На 31 декабря этого года имелось уже 19 рабочих бирж, то есть местных профобъединении [647].
Помимо НСП, возникла Синдикалистская федерация работников общественных предприятий (то есть государственного и муниЦИПиЬНОГО сектора), она же Федерация работников коммунального сектора. Она отказалась присоединиться к НСП, поскольку считала недостаточным установленный в профобъединении запрет на членство в политических и парламентских партиях для членов правления. Федерация настаивала на том, что члены партий вообще не должны приниматься в синдикалистские профсоюзы. В начале 1925 г. в ней насчитывалось до 800 членов [648].
В начале 1924 г. в составе НСП была образована новая Федерация строительных рабочих в составе 500 членов. В этот период НСП вело активный сбор в помощь уволенным товарищам, пострадавшим от локаута [649]. Конфликт в текстильной промышленности начался в конце 1923 г., когда на одной из фабрик в Твенте вспыхнула забастовка против намерения предпринимателей сократить заработную плату на 1070. Предложение Федерации текстильщиков НСП о провозглашении всеобщей стачки в отрасли было отклонено другими профсоюзами, но через несколько недель предприниматели объявили о локауте 23 тысяч рабочих текстильного округа. Борьба длилась 34 недели. 5 мая 1924 г. локаут завершился после того, как христианские профсоюзы согласились со снижением зарплаты на 770 и продлением рабочего времени. В ответ на это рабочие в городе Энсхеде объявили всеобщую забастовку, но и им пришлось сдаться в конце июня после нескольких недель борьбы. В выступлении текстильщиков участвовали 700 — 900 членов НСП, организация собрала им в помощь, благодаря добровольным пожертвованиям, около 100 тысяч гульденов 650 . Лидеры НСТ в отчете Профинтерну утверждали, что НСП не может собрать на демонстрации больше нескольких сотен человек, что синдикалистская организация страдает от систематической нехватки средств, а ее федерация металлистов сильно пострадала от финансовых скандалов. Тем не менее они вынуждены были признать, что стачка текстильщиков придала синдикалистам «большую популярность» ...
Помимо этого, НСП принимало участие в более мелких по масштабам выступлениях против снижения зарплаты и увеличения рабочего времени в строительстве, химической, одежной и пищевой промышленности, в портах и на транспорте. Кроме того, в 1924 г. было собрано 500 гульденов в помощь иностранным беженцам [652]. В апрелс 1925 г. НСП оказывало поддержку движению безработных, организовав митинги солидарности [653]. К концу 1925 г. в НСП насчитывалось 7760 членов (в НСТ оставалось около 14 тычяч) [654].
На 2-м конгрессе НСП (декабрь 1925 г.) 140 делегатов представляли 68 местных организаций, объединенных в 8 отраслевых федераций и 8 местных федераций профсоюзов. По инициативе семи организаций было проведено голосование относительно исключения из статутов пункта, запрещавшего членам Правления состоять в политических партиях. В итоге 26 делегатов голосовали за исключение этого пункта, 23 против и 1 воздержался [655]. По оценке НСТ, за этим спором скрывалось противостояние анархистских и реформистских элементов в синдикалистском профобъединении [656].
На конгрессе обсуждался вопрос об изданиях НСП и «Синдикалистской молодежи». Делегаты приняли также устав Центральной забастовочной кассы. Была принята резолюция о международной ситуации, в которой выражались приветствия движениям в зависимых и колониальных странах и подчеркивалось, что задача пролетариев Европы состоит в поддержке «цветных братьев по классу» с помощью срыва транспортировки войск и военных материалов в колонии, всеобщей стачки, уклонения от военной службы и отказа от производства оружия. Резолюция о положении и задачах синдикалистов в Голландии включала требования 8-часового рабочего дня и 45-часовой рабочей недели, сокращения продолжительности рабочего времени на опасных работах и для лиц моложе 18 лет до 6 часов в день, запрета использования труда детей и подростков моложе 16 лет, предоставления двухнедельного оплачиваемого отпуска, создания рабочих мест на производстве для безработных, бесплатного обеспечения по безработице, старости, болезни, нетрудоспособности, содействия строительству жилья для рабочих.
Наконец, делегаты обсудили также вопрос о профсоюзном единстве. Было подчеркнуто, что единство невозможно, пока другие союзы находятся под влиянием политических партий, и рабочим следует вступать в революционно-синдикалистские профсоюзы [657]. В связи с решениями 11 конгресса МАТ, НСП предложило всем местным организациям участвовать в создании Международного фонда поддержки борьбы против террора и реакции [658].
Нидерландские анархо-синдикалисты занимали особое место в рабочем движении страны. Они держались в стороне от других профобъединений, хотя принимали участие в забастовках, проводившихся профсоюзами других направлений. Но от организованного сотрудничества с ними синдикалисты отказывались. Характерно, что в 1926 г., когда в Голландии широко обсуждалась возможность совместных действий рабочих организаций в поддержку всеобщей стачки британских шахтеров, НСП в принципе поддержало идею совместной акции с НСТ, однако переписка между Правлениями обоих профобъединений выявила глубокие расхождения в идеях и представлениях о борьбе трудящихся. НСТ ориентировался на сотрудничество профцентров всех направлений, хотя и допускал совместное выступление РСВOЛЮЦИOННЫХ профсоюзов, если не удастся достичь общего соглашения. Он подверг критике заявление Роттердамской организации НСП и синдикалистского союза моряков «Согласие» за их отказ поддержать призыв голландского социал-демократического профсоюза транспортников к бойкоту английских портов. В свою очередь, НСП осудило НС Т за иллюзии о возможности взаимодействия с руководством реформистских профобъединений. Оно не собиралось прекращать критику этих профцентров. С точки зрения НСП, объявление бойкота социал-демократическими транспорТНИКаМИ имело исключительно демагогический характер, поскольку в этот момент решение о стачке не было еще принято даже британскими транспортниками [659].
Во второй половине 1920-х годов в нидерландском синдикализме наметился спад. Число членов НСП сократилось к январю 1926 г. до 6221 (то есть на I тысячу), а к январю 1927 г. — до 4939. (В НСТ в этот период состояли 13,6— 13,8 тысяч человек.)660 Из НСП вышла (по практическим и финансовым соображениям) крупная оргаНИЗаЦИЯ федерации моряков «Согласие» в Роттердаме, члснство в федерации металлистов упало с 1200 до 700 человек, в федерации текстильщиков оставалось 700, сигарочников — 1 100, строителей — 450 членовбб !. Профобъединение практически нe могло проводить самостоятельные выступления.
Тем временем назрел конфликт между руководством компартии, ориентированным на работу в официальных профсоюзах, и лидерами НСТ, поддержавшими коммунистов-оппозиционеров и троцкистов. Между ними произошел разрыв. Это способствовало возобновлению попыток воссоединения между НСП и НСТ. Инициатива исходила от Президиума НСП. Оба профобъединения провели переговоры, и была достигнута договоренность о том, что объединенный профцентр в течение двух лет не будет входить ни в Профинтерн, ни в МАТ. Согласно статутам НСП, за такое объединсние, равносильное самороспуску, должно было высказаться большинство в четыре ПЯТЫХ [662]. В обоих профобъединениях существовала оппозиция против объединения: в НСП металлисты угрожали отколоться в случае, если НСП сольется с НСТ, а среди коммунальщиков сохранялись разногласия; в НСТ, в свою очередь, возражала часть строителей, текстильщиков и металлистов [663].
На 3-м конгрессе НСП в феврале 1928 г. (участвовали 15 делегатов от 75 местных организаций) предложение об объединении собрало 31 голос, 30 делегатов голосовали против, один воздержался. Его поддержала федерация рабочих табачной промышленности, большая часть других федераций высказалась против. Поскольку предложение не собрало необходимого большинства, оно было вынесено на референдум. В итоге за объединение с НСТ высказались 1019 членов организации, 956 голосовали против; требуемое большинство не было достигнуто. После этого федерация рабочих табачной промышленности вышла из НСП и 1 мая 1928 г. вступила в НСТ [664]. Нидерландский секретариат труда приобрел лишь несколько сотен новых членов, но потери синдикалистского профцентра оказались куда больше.
Помимо НСП, в Нидерландах действовал еще один революционно-синдикалистский союз — Федерация работников коммунального сектора. После того как НСП заявило о намерении объединиться с НСТ и выйти из МАТ, федерация объединилась с рядом покинувших его организаций и независимых союзов. Так в 1928 г. была образована Синдикалистская федерация фабричных организациЙ, которая, в свою очередь, подала просьбу о членстве в МАТ665 9070 членов были работниками коммунального сектора. Федерация выступала против парламентаризма и системы обязательных взносов в кассу поддержки бастующих, считая такую помощь добровольным долгом. llI конгресс МАТ рекомендовал осущсствить объединение НСП и СФФО [666].
8 и 9 сентября 1928 г. в Амстердаме под председательством секретаря МАТ был организован объединительный конгресс НСП НС Т и СФФО. Новая организация получала название НСП, ее центральным органом становилась газета НСП «Де Синдикалист». Создавалась «Всеобщая касса сопротивления» для оказания помощи бастующим, уволенным и т.д. Принципиальной основой объединения была объявлена Декларация принципов МАТ. Делегаты договорились ужесточить прежнюю антипарламентскую позицию: было заявлено, что НСП не только отказывается от парламентской политики, но и намерено вести активную антипарламентскую пропаганду; в Правлении НСП не должно было быть членов партий и парламентов. До 15 октября 1928 г. члены профсоюзов должны были одобрить объединение на референдуме, затем планировалось провести новый конгресс и начать работу новой организации с 1 ноября 1928 г. [667].
СФФО вначале одобрила объединение на референдуме, но затем, недовольная решением об обязательной кассе, отказалась от него [668]. Воссоединение НСП и НСТ, в конце концов, также не состоялось. После провала объединения в движении наступил период стагнации, из НСП вышли члены, не разделявшие «крайностей» анархо-синдикализма [669]. В январе 1929 г. в НСП осталось всего 2943 члена, включая 825 металлистов, 800 коммунальщиков, 564 строителей, 225 работников текстильной промышленности, прачечных и предприятий по чистке одежды, 222 транспортника и моряка, 130 пекарей, 82 работника других профессий пищевой промышленности, 48 фабрично-заводских рабочих, 45 работников сельского, лесного хозяйства и животноводства и т.д. [670]. В НСТ в этот момент было более 16 тысяч членов. Несмотря на последствия раскола, синдикалисты приняли участие в некоторых забастовочных конфликтах. Так, в 1928 г. около 150 членов НСП участвовали (наряду с 1500 членами социал-демократических союзов) в многомесячной стачке металлистов-кораблестроителей во Влиссингене 671 Хотя в течение 1929 г. некоторые из ушедших рабочих вернулись, численность НСП тем не менее ощутимо сократилась по сравнению с предыдущим периодом. В январе 1930 г. в НСП оставалось лишь 2800 членов [672]. Синдикалисты вели острую полемику с НСТ. В газете «Де Синдикалист» публиковались статьи, демонстрировавшие «теоретическую неясность и несостоятельность» троцкизма НСТ [673].
В 1930 г. активизировалась работа созданного НСП в 1927 г. «фонда международной солидарности Гронинген», секции Международного фонда солидарности МАТ. Были созданы его местные отделения по стране [674].
Согласно отчету МАТ за 1930 год, в НСП состояли 1500 членов. В этом году организации удалось стабилизироваться. Крупных забастовок в стране в этот период не отмечалось. Лишь в начале 1930 г. прошла стачка в металлургии, в которой принимала участие и федерация металлистов НСП. Организация вела упорную борьбу против правительственного плана развития военно-морских вооружений за счет внедрения режима жесткой экономии и мер, наносивших ущерб трудящимся. Синдикалисты и ряд других рабочих организаций попытались объединить свои усилия для совместных действий протеста, но в итоге вместе с НС П выступили только антимилитаристские организации, и акции большого значения не имели. Хотя были встречены населением с симпатией. Они свелись к проведению демонстраций, распространению листовок, плакатов и т.д. [675].
На 4-м конгрессе НСП в сентябре 1930 г. присутствовали делегаты от шести отраслевых федераций, состоявших из 27 местных групп с 1700 членами [676]. Представители рабочих-строителей внесли предложение отказаться от участия в тарифных соглашениях с предпринимателями, и это вызвало острую дискуссию. Большинство делегатов высказалось в принципе против долговременных соглашений, как связывающих руки рабочим, но сочло, что в настоящий момент организация слишком слаба, чтобы принять такую резолюцию. Делегаты приняли решения в пользу пропаганды 6-часового рабочего дня, о борьбе трудящихся против войны, об отношении к рационализации капиталистической экономики. Кроме того, было решено создать специальный орган для обучения участников движения и увеличить взносы в фонд поддержки забастовок. Делегаты отклонили предложение об объединении печатного органа НСП с двумя анархистскими газетами и постановили издавать собственный теоретический орган [677].
Анархо-синдикалистская агитация и организация в других европейских странах
В 1920-х годах анархо-синдикалистам удалось создать небольшие инициативы в ряде европейских стран.
В Австрии с 1919 г. действовал Союз антиавторитарных социалистов (САС), основанный видным анархистом Пьером Рамю. В первые годы существования его ряды быстро росли. К нему присоединились или с ним сотрудничали леворадикальное крыло Социалистической молодежи, многие члены Свободного объединения радикально-социалистических студентов, Объединения антиавторитарных умственных работников, Союз искусства и культуры, Свободный профсоюз сапожников (с выходившей в 1925—1927 гг. газетой «дер Фрайе шумахер»), Союз свободной молодежи, различные кооперативные и производственные группы, небольшие либертарные поселения и коммуны («Новое общество», Фрухтхайн, Эден, «Будущее», «Человечсская весна» и т.д.), «Легион плательщиков квартплаты Граца», рабочие объединения Вены, Граца (восстановленный после войны сторонниками Рамю «Союз рабочего образования и поддержки», созданный в 1893 г.), Линца, Штейра, Мюрццушлага, Винер-Нойштадта и другие, некоторые синдикалистские группы (работников гостиниц, таксистов, сапожников), Союз противников военной службы, штирнсрианское «Объединение индивидуальных анархистов», анархо-коммунистическая газета «Фрайе гезельшафт» (Грац, 1929 г.) и т.д. Местами существовало также деловое сотрудничсство с коммунистами. В 1925— 1926 годах в союзе насчитывалось минимум 60 местных групп с общим числом более четырех тысяч членов, уплачивавших взносы (не считая безработных членов, которые не платили взносов). «Союз антиавторитарных социалистов (анархисты)», как он был обозначен на различных листовках, приглашениях на доклады и собрания, плакатах, в его печатном органс «Эрксннтнис унд Бефрайунг» и других изданиях, был на протяжении почти 20 лет крупнейшей анархистской организацией Австрии, пока не был разгромлен с установлением диктатуры Дольфуса [678].
Союз провозгласил своей целью осуществление принципа «индивидуальной свободы в социальном сообществе»: ликвидация государства и правительства, «введение коммунизма ассоциаций, свободных от принуждения», устранение всех государственных институтов, включая милитаризм, бюрократию, полицию и юстицию, а также капиталистической эксплуатации вместе с погоней за прибылями и наемным трудом. Путем к созданию анархо-коммунистичсского общества союз считал организацию ячеек самопроизводства в городе и деревне, которые были бы максимально независимы от государства и капитала, всеобщую стачку, порождающую «гильдсйско-социалистичсскую организацию всего производства», социальную экспроприацию. Союз стремился к осуществлению социальной революции ненасильственными средствами «социальноэкономического действия по разрушению оружия и насилия». Сюда включались уклонение от военной службы, от производства оружия, уничтожение оружия.
Союз выступал за то, чтобы производственные советы на предприятиях перешли к антикапиталистическому действию. В отношении синдикализма союз заявил: «САС считает, что анархизм и революционный СОЦИИИЗ,М в своих экономических устремлениях являются в значительной мере параллельными движениями. В духовном отношении синдикализм — это элемент анархизма. Практически он направляется в своих действиях против отвергаемых им общественных институтов — против государства, капитализма, милитаризма». Поэтому союз выступил за международное объединение анархизма и синдикализма, приветствовал решение Международного конгресса анархистов в Берлине (декабрь 1921 г.) о создании Международного бюро и заявил о намерении войти в анархистский Интернационал [679]. Рамю продолжал считать профсоюзы «рычагом социальной революции», но его деятельность в этой сфере была существенно меньше, чем в довоенные ГОДЫ [680]. В 1923 г. орган САС «Эркеннтис унд Бефрайунг» опубликовал статью, в которой заявлялось о недопустимости оставаться в реформистских профсоюзах и необходимости создавать организации на предприятиях, которые смогут организовать переход к анархо-коммунистическому обществу [681]. Во время стачки металлистов в Граце проявилось сильное недовольство рабочих реформистскими профсоюзами. Анархисты распространяли листовку с призывом к созданию анархо-синдикалистской организации [682].
Рамю заявлял, что его организация ведет анархистскую, а «среди рабочих — анархо-синдикалистскую деятельность». «Развернуть исключительно синдикалистскую пропаганду в Австрии по многим причинам практически невозможно, — оговаривался он, — прежде всего потому, что те элементы, которые были бы в состоянии побудить рабочих к выходу из существующих центральных объединений и состоят преимущественно из бывших товарищей австрийского синдикализма, находятся внутри ”коммунистической” партии... Поэтому мы считаем более целесообразным продолжать просвещать рабочих, находящихся в Союзе антиавторитарных социалистов, в анархо-синдикалистском духе и предоставить времени пояњление на свет самостоятельной синдикалистской организации» [683].
Кроме того, САС вел активную культурную работу. Так, в Граце в 1924 г. был образован рабочий певческий союз «Свобода», который выступал на всех крупных мероприятиях (выступлениях Рамю, днях памяти мучеников анархизма, мероприятиях движсния, похоронах товарищей). Действовала библиотека Рабочего объединения (свыше 500 книг); в 1 927 г. она открыла анархистский потребительский кооператив «Новая родина», покупавший товары по оптовым ценам и продававший их своим членам по льготной цене. Работала также театральная группа, ставившая пьесы анархистов, воючая известного автора либретто оперетты Роберта Боданцки. Организовывались воскресные прогулки за город, купания, пикники, которые собирали по 50 и более человек; во время этих мероприятий люди отдыхали, пели, дискутировали. Это помогало также уйти из-под надзора полиции. Вблизи Граца в угольном бассейне в местечке Унтервальд около Трегиста в начале 1930-х годов существовал проект поселения «Фридланд» (здесь были куплены 40 га земли для организации поселения безработных, но проект провалился) [684].
В 1925 г в Вене выходила анархистская рабочая газета «Аларм» (редактор Франц Плаха, тираж 10 тысяч экземпляров) [685].
Помимо САС, возник ряд инициатив по созданию анархо-синдикалистских профсоюзов. В 1926 г. работники кафе и гостиниц создали синдикалистский профсоюз и приняли решение выйти из реформистских союзов. Ведомство федерального канцлера запретило этот профсоюз. Его члены обжаловали это решение в Конституционном суде. После переговоров запрет был отмснен [686].
В июле 1929 г. по инициативе анархо-синдикалиста Эдмунда Редиша было образовано «Объединение в защиту прав шоферов такси Вены». Органом профобъединения стал «Дер Таксишоффер», редактировавшийся Редишсм. В 1930 г. в объединении состояли 1200 членов. В рамках союза была организована группа анархо-синдикалистской пропаганды, в которой насчитывалось 30—40 активистов. В 1930 г. группа преобразовалась в Свободный рабочий союз (анархо-синдикалистов) [687]. Его главой был избран Редиш. В связи с маршем, организованным фашистским движением «Хеймвер», Редиш выступил на организованном коммунистами собрании протеста с призывом к прямому действию рабочего класса против фашизма. Он был арестован полицией, заключен в тюрьму на две недели, после чего отдан под суд за подстрекательство к насилию против государственной власти. СРС вместе с другими организациями создал «комитет защиты».
Однако САС не присоединился к защите Редиша. Рамю выступил с рядом обвинений в его адрес Э. Редиша. В свою очередь, СРС и Секретариат МАТ осудили действия Рамю как «антисолидарныс» [688]. В ответ Рамю опубликовал в «Эркеннтнис уед Бефрайунг» протест против заявления Секретариата МАТ [689]. 30 ноября 1930 г. в издании Рамю была опубликована статья, в которой Редиш обвинялся во лжи и клевете, а также в том, что он поддерживается фашистами. Редиш подал на него в суд. Однако позднее Рамю заявил суду: «В ходе судебного разбирательства мы убедились в том, что эти обвинения необоснованны, и потому берем их назад как беспочвенные с выражением глубокого сожаления». Он был приговорен к возмещению судебных издержек, после чего Редиш взял свою жалобу назад [690].
В Бельгии в середине 1920-х годов действовал ряд небольших федералистски организованных профсоюзов. В Льежс они были объединены в Союз федералистских профсоюзов, поддерживавший контакты с МАТ. Издавалась газета «Лё Травай» [691]. Весной 1925 г. организовали забастовку 700 строителей, объединенных в Революционно-синдикалистский союз. Они обратились за помощью к голландскому НСП, и то послало им 25 гульденов [692].
В Льеже существовало объединение рабочих строительства и древесной промышленности (350 членов), слесарей (300 членов) и коммунальных работников (200 членов). Кроме того, имелись федералистские профсоюзы строителей в Генте (550 членов), Брюгге (100 членов) и Лере (60 членов). 15 мая l926 г. в ходе неофициальной встречи между представителями федералистских профсоюзов и МАТ была достигнута принципиальная договоренность о вступлении бельгийских союзов в Интернационал, если их члены одобрят его документы и принципы [693]. В стране была образована отраслевая федерация строителеи [694].
В 1926 г. Федералистский синдикат механиков Льежа принял решенис о вступлении в МАТ [695]. В 1928 г о присоединении к созданной МАТ Международной федерации строителей заяво Федералистский профсоюз трудящихся деревообрабатывающей промышленности, мебели и смежных специальностей, насчитывавший 230 членов в Льеже, 106 — в Генте и 120 — в Брюгге [696]. Несколько человек из Льежа и окрестностей создали организацию «Синдикалистской молодежи» [697].
Осенью 1928 г. вспыхнула крупная забастовка металлистов на «Национальной фабрике» в Херстале (провинция Льеж). Активное участие в ней приняли и 80 синдикалистов. Революционно-синдикалистский профсоюз механиков предложил создать общий стачком и организовать пикеты и бойкот предприятий, где работа продоткалась. Он выступил также за подготовку в Льеже всеобщей 24-часовой стачки солидарности. Реформисты отвергли эти инициативы, и синдикалисты безуспешно пытались организовать пикеты вместе с независимыми профсоюзами. Секретариат МАТ распространил призыв «ко всем революционным рабочим» с просьбой проявить солидарность с бастующими, собирать им в помощь средства и т.д. [698]. Забастовка продолжалась несколько месяцев.
Согласно годовым отчетам Секретариата МАТ, в 1930 г. в секции Интернационала в Бельгии — профсоюзе механиков Льежа насчитывалось 250 членов, в 1931 г. — около 200. В 1930 г. он не вел никаких выступлений против предпринимателей, ограничиваясь незначительной пропагандистской и организационной работой. Его газета «Ле Мскано» бОЛЬШС не выходила. Профсоюз сильно страдал от трудных условий, но все же регулярно проводил собрания. Он активно участвовал в кампании по освобождению итальянского анархиста Гецци, арестованного в СССР, и организовал крупную демонстрацию в его поддержку. В Брюсселе сторонники МАТ работали в реформистских профсоюзах, пропагандируя в них идеи прямого действия и революционного синдикализма. Они создали «Комитет за право на убежище», чтобы предотвратить высылку ряда зарубежных революционеров из Бельгии, и комитет в поддержку Гецци, выпустивший брошюру о его деле [699].
Особого влияния добились анархо-синдикалисты в Брюссельской Ассоциации печатников, входившей в реформистскую Федерацию печатников Бельгии. Ассоциация занимала более радикальные позиции, чем федерация в целом. Так, в 1928 г. при заключении коллективного договора брюссельские печатники требовали равномерного распределения зарплаты на основе довоенных норм и одинакового повышения зарплаты для рабочих в столице и провинции. Конгресс федерации отверг эти предложения и принял условия, которые предусматривали продление рабочего дня с 7 до 8 часов и нс содержали гарантий продолжительности рабочей недели, компенсации за рост стоимости жизни, оплаты сверхурочных и т.д. Брюссельские печатники планировали начать забастовку против этих решений, но их реформистское руководство недостаточно подготовило выступление и в итоге отменило его [700]. Анархо-синдикалисты создали оппозиционную группу «Крёзе» («Тигель») с одноименным изданием. Группа вела пропаганду революционного синдикализма. Ес возглавил де Боэ [701].
Борьба внутри Федерации печатников вновь обострилась в апреле 1930 г. В начале года руководство федерации согласилось с решением предпринимателей о снижении зарплаты. В Брюсселе реформисты поддержали это решение, коммунисты выступили против. Анархо-синдикалисты во главе с Де Боэ убеждали, что нс стоит бороться против понижения зарплаты, но надо отвергнуть прежний договор и вести борьбу за весь список рабочих требований [702]. В этот момент его группе удалось оказывать определяющее влияние на линию Брюссельской ассоциации печатников. Однако в мае на ее новом собрании Де Боэ и ряд сго сторонников отказались ставить вопрос о расторжении коллективного договора, ссылаясь на необходимость сохранить единство ассоциации. Коммунисты обвинили его в «открытой измене» и получили поддержку со стороны части члснов «Крёзс». Они намеревались даже расколоть эту группу, но их план не удался [703].
В концс года, перед заключением коллективного договора на новый срок группа «Крёзе» выдвинула требования о повышении зарплаты, сокращении рабочего дня, увеличении отпусков и пенсий [704]. Ей удалось добиться принятия Брюссельской ассоциацией таких положений, как повышение зарплаты на 25 франков, установление 44-часовой рабочей недели и ежегодного отпуска в шесть рабочих дней. В их поддержку брюссельские печатники объявили в апреле 1931 г. забастовку, которая проходила очень бурно, сопровождаясь блокадой газет и т.д. Коммунисты пытались критиковать Де Боэ и его сторонников «слева», обвиняя его в соглашательстве, но признавали, что делать это трудно, поскольку «в глазах многих рабочих именно они организовали стачку и руководили ею» [705].
В немецкоязычной части Швейцарии продолжали пропагандировать анархо-синдикализм Фриц Брупбахер (Цюрих), братья Кёхлин и Исаак Ауфзеер (Базель). Болес активное анархистское и синдикалистское движение сохранялось в Женеве. Здесь Люсьен Тронше (соратник известного анархиста Л. Бертони) и Андре Бёзигер организовали сильную анархо-синдикалистскую секцию в профсоюзе строителей и рабочих древесной промышленности. В 1929 г. Бёзигер возглавлял «Лигу действий строительства». В отчетс МАТ за 1930 г. указывалось, что в Швейцарии «МАТ имеет только один профсоюз — работников строительства в Женеве, который, несмотря на большие трудности, ведет энергичную деятельность, причем даже вне профессии, в социальной области», а также в сфере международной солидарности [7О6].
В Великобритании в 1920-х годах имелось несколько сотен анархистов, объединенных в разрозненные группы. Некоторые либертарии сотрудничали вместе с левыми коммунистами в созданной в 1921 г. «Антипарламентской коммунистической федерации» (АКФ). Эта организация призывала к образованию революционной рабочей федерации, созданию комитстов на предприятиях, верфях, доках и т.д. для оказания революционного воздсйствия на рабочий класс, объединению этих комитетов по отраслям и профессиям 707 Отделения АКФ существовали в Лондоне, Мидленде и Северной Англии, но базой ее оставалась Шотландия. В 1923—1929 годах она издавала ежемесячник «Коммьюн». В 1926 г. во время «Великой стачки» АКФ требовала перехода власти нс к руководству профсоюзов, а к «самим рабочим» через посредство стачкомов и массовых митингов. Она пыталась издавать стачечную газету, но делиа это с опозданием. Организация нс была единой; в ней имелись также марксисты и даже сторонники выдвижения кандидатов на выборах с агитационной целью [708].
Среди прочих анархистских групп в 1920-х годах существовали и некоторые, занимавшиеся пропагандой анархо-синдикализма, — к примеру, Синдикалистская пропагандистская лига А.Б. Мэйса и различные группы в Глазго [7О9].
К концу 20-х годов, особенно после поражения всеобщей стачки 1926 г., и без того слабое и раздробленное британскос анархистское движение пришло в упадок. В 1927 г. перестала выходить старейшая английская анархистская газета «Фридом», потом исчез и ее преемник — «Бюллетень Фридом».
В Польше в 1919 г. группа польских рабочих стала выпускать издание под названием «Хлеб и воля». О дальнейшей судьбе этой группы ничего не известно; предполагается, что большинство ее членов эмигрировало в Россию.
В 1920 г. ветераны довоенного анархистского движения создали свою группу. Они издали нелегально один номер газеты «Голос свободы» на идиш, а затем легально — два номера «Хлеба и воли». Работа группы активизировалась после возникновения в 1921 г. первой группы школьников, которая занялась нелегальным распространением анархистских идей в школах. Ее члены издали на гектографе «Письмо к молодежи». Не ограничиваясь работой в молодежной среде, группа попыталась установить контакты с рабочими. Ее активисты выступали как преподаватели на профсоюзных курсах для рабочих и знакомили их с идеями анархизма, но им не удалось привлечь рабочих в состав группы. Кроме того, анархистская пропаганда велась и среди рабочих, посещавших «Народный университет», который был создан социалистами, но затем попал под контроль коммунистов. В этом заведении удалось организовать лекцию о либертарном педагоге Франсиско Феррере, на нее пришло большое количество рабочих и учащихся.
Интерес к анархизму постепенно рос. Но одновременно росли и трудности. Одной из проблем было отсутствие контактов с зарубежными анархистами и пропагандистской литературы на польском языке и идиш. Возможностей для издания литературы нс было. В этих условиях молодежная группа сократила свою пропагандистскую деятельность и занялась организационной работой, поиском контактов и т.д. Были возобновлены связи с анархо-синдикалистскими рабочими из Нижней Силезии, и с их помощью в 1923 г. издан первый анархистский памфлет на польском языке — «Основы синдикализма». Его нелегально переправили в Польшу и распространили в стране. С другой стороны, были установлены контакты с немецкими анархистами в Данциге, которые помогли достать книги, составившие основу организационной библиотеки. Польские анархисты стали регулярно получать немецкие либертарные издания «Дер Синдикалист» и «Дер Фрайе Арбайтер», а также французский «Лё Либертэр». Эти материалы помогли активизировать пропаганду среди школьников. Кромс того, в 1922 г. польские анархисты обратились к МАТ с просьбой оказать финансовую помощь в издании литературы на польском и идиш, но Секретариат выдвинул условие, чтобы выбор брошюр был согласован с ним, то есть чтобы вся литература имела анархо-синдикалистское содержание. Польская группа, напротив, настаивала на полной автономии, но обещала регулярно выпускать синдикалистскую литературу. Проект так и не был осуществлен.
В это время произошла реорганизация. Некоторые из членов «старой» группы анархистов присоединились к молодежной группе. Поскольку она теперь сосредоточилась почти целиком на организационной работе, в 1923 г. была создана новая «смешанная» группа, состоявшая из членов рабочей группы, действовавшей в «Народном университете», и некоторых учащихся. Связь между обеими была весьма слабой, так как «старики» испытывали определенное недоверие к «смешанной» группе.
«Смешанная» группа, состоявшая из анархо-коммунистов и анархо-синдикалистов, предложила послать на Международный анархистский конгресс единого делегата, но в группе «стариков» при выборе делегата возникли принципиальные разногласия. В итоге «смешанная» группа направила собственную делегацию. Удалось расширить связи и внутри страны, завязав контакты с анархистами в Восточной Галиции, Люблине, Варшаве и т.д. Поддержание контактов взяла на себя группа «стариков». «Смешанная» группа занялась пропагандистской работой. В 1923 г. она издала на идиш брошюру «Анархистский и большевистский коммунизм». Вышли также брошюра на польском языке «Правда о Махно» (в связи с процессом Махно), работа Роккера «Система Советов или диктатура» [71О]. Анархистская молодежная группа Варшавы выпустила 1 июля 1923 г. воззвание «К революционному пролетариату всех стран» с призывом к «энергичным и широким акциям» в защиту Махно от обвинений польского суда, к проведению демонстраций перед польскими представительствами за границей, к посылке писем и резолюций протеста и даже использованию «самых острых средств» [711]
Польские анархисты развернули и устную пропагандистскую работу. В 1922 г. под руководством «смешанной» организации быласоздана группа столяров, состоящая из членов объединения строителей. Позднее она организовала еще одну рабочую группу. Первая сосредоточилась прежде всего на пополнении своих рядов идейно зрелыми и готовыми к нелегальной пропаганде членами.
Осенью 1923 г. некоторые из членов организации «ветеранов» переехали из Польши в Париж, после чего она фактически перестала существовать. В эмиграции они образовали в начале 1924 г новую группу и издали брошюру «Чего хотят анархисты» тиражом в 2 тысяч экземпляров. Несмотря на трудности, се удалось ввезти в Польшу и даже легально распространять через рабочие книжные магазины. С помощью МАТ в Париже вышли три брошюры на польском языке: «Кронштадтское восстание», «Трагедия России» и «Коммунистическая партия и Русская революция», каждая тиражом в 2 тысячи экземпляров. Их ввезли в Польшу несколько позднее, когда польские группы сочли, что люди созрели для знакомства с ними.
«Смешанной» группе, которая первоначально должна была заниматься пропагандистской работой, пришлось реорганизоваться и взять на себя организационные задачи, контакты по стране и за рубоком. При этом она должна была продолжать работу в теоретикообразовательных группах [712]. В 1924 г. полиция разгромила «Народный университет», обвинив его в коммунистическом заговоре. Некоторые из анархистов были арестованы (в тюрьме они вели пропагандистскую работу среди коммунистов), а затем принуждены бежать за границу.
В начале 1925 г. парижская группа приступила к изданию журнала для польских рабочих за рубежом «Наймита». Его нелегально доставляли в Польшу, но этого было недостаточно. Анархисты, работавшие внутри Польши, попытались убедить парижан переориентировать свою работу на внутрипольские нужды. Эмигранты не согласились с ними, полагая, что работа среди поляков за рубежом принесет лучшие результаты.
В мае 1926 г. Ю. Пилсудский совершил переворот и установил фактическую диктатуру. Это побудило анархистов предпринять наконец серьезные шаги по созданию прочной организации. В июне организационная группа и группы внутри страны достигли договоренности о создании Анархистской федерации Польши (АФП) и проведении ес конференции в августе. Организационная группа выпустила от имени АФП многотысячным тиражом воззвание к 50-летию Бакунина. В Кракове было начато издание журнала «Вольны пролетариуш», но из-за технических трудностей удалось выпустить только четыре номера.
1-я конференция АФП в августе 1926 г. обсудила ряд принципиальных, тактических вопросов. Она проанализировала проблемы капиталистического строя, анархистской альтернативы, революции и т.д., подвергла критике майский переворот, партии, парламентскую систему и реформистские профсоюзы. Было решено организовать работу федерации на групповой основе, сделать упор на издании брошюр, а не регулярного массового органа и не эпизодических воззваний. Делегаты обсудили работу в профсоюзном движении. Они решили продолжить издание информационного бюллетеня федерации — «Глос анархисты», а также использовать легальные издания. Функции секретариата были возложены на одну из групп.
Новый секретариат в недостаточной мере справился с изданием брошюр. В 1927 г. выпущена брошюра «Как возникла Международная ассоциация трудящихся; каково ее значение?». Ежемесячно выпускался «Глос анархисты».
для координации деятельности варшавских групп в октябре 1926 г. был образован Совет делегатов варшавской АФП. Возникли также первая профсоюзная пропагандистская группа, объединяющая работников различных профессий, антимилитаристский и университетский кружки. Были выпущены два номера журнала «Вольна млоджеж», первомайский журнал «Наемный работник» и воззвание, которое конфисковала полиция.
АФП приняла активнос участие в кампании поддержки Сакко и Ванцетти, разъясняя в том числе и их принадлежность к анархизму. Она выпустила множество воззваний, иногда выходивших даже каждый день. Анархисты выступали на рабочих собраниях. В июле 1927 г. они выпустили брошюру о Сакко и Ванцетти тиражом в 3 тысяч экземпляров, собирали подписи протеста. Идея совместного митинга рабочих организаций была провалена партийными деятелями.
Благодаря этой кампании АФП приобрела более широкую известность, ей стало легче вести пропаганду. Но тупповая организация работы препятствовала массовой работе. Секретариат федерации созвал в октябре 1927 г. так называемую «подготовительную конференцию». На ней были отменены некоторые РСШСНИЯ конференции 1926 г. Участники отвергли и организационную «Платформу» Аршинова. В принятом заявлении АФП определялась как организация, недвусмысленно стоящая на классовой позиции и отрицающая «платформистские» идеи переходного периода и «анархистской власти». Целью АФП провозглашено свержение капитализма и государства путем классовой борьбы и СОцИИЬНОЙ революции, создание рабочих и крестьянских Советов как основы будущего строя. Главная задача федерации при нынешнем строе, указывалось в деклараЦИИ, — это обострение классовых противоречий, расширение фронта борьбы с помощью экономического прямого действия революционных профсоюзных организаций, борьба с партиями, милитаризмом и т.д. Любые группы могли состоять в АФП или быть приняты в нее только при признании ими этой декларации.
Однако секретариату по-прежнему не удавалось наладить массовую пропаганду. В ноябре 1927 г. было выпущено 4-тысячным тиражом воззвание по случаю 10-летия Русской революции. После долгого перерыва в январе 1928 г. снова вышел «Глос анархисты». В марте вышел еще один, сдвоенный номер, посвященный бойкоту предстоящих парламентских выборов. Были изданы два воззвания против выборов и несколько листовок на польском и еврейском языках общим тиражом в 22 тысячи экземпляров. Брошюру против выборов не удалось выпустить из-за нехватки средств.
В мае 1928 г. анархисты отпечатали листовку «К третьей годовшине фашизма», направленную против режима Пилсудского, а в июле секретариат издал 5-тысячным тиражом антимилитаристское обращение «Сакко и Ванцетти» на польском языке и идиш.
Работа в провинции разворачивалась неравномерно. Распространение «Валки», кампания против выборов и первомайские выступлсния способствовали популяризации анархизма; удалось установить новые контакты в Галиции и бывшем Царстве Польском. две группы были разгромлены полицией, зато возникли новые в небольших городах бывшего Царства Польского. Развитие связей сдерживалось нехваткой денег.
В августе 1928 г. собрание варшавских организаций постановила созвать конференцию с целью добиться укрепления внутренней работы групп, усиления значения теоретических групп и улучшения издательской деятельности. Варшавяне предложили проект организационной основы федерации. На основе этих решений секретариат попытался расширить ввоз брошюр из-за рубежа и обновить издание «Глос анархисты». Однако пропагандистская работа в конце l928 г. оставалась слабой, что побудило организацию заняться самокритикой и изменить линию работы [713].
В 1928 г. в Польше была создана анархо-синдикалистская пропагандистская организация. Возможности для создания собственных профсоюзных структур не было, и она пропагандировала анархо-синдикализм в профсоюзах, организовала оппозицию в некоторых профобъединениях№. Один из ведущих активистов организации рабочий-текстильщик [714]. Гринберг (бывший коммунист) действовал в Варшаве, пользовался авторитетом в союзах, выступал на рабочих собраниях и распространял анархо-синдикалистские идеи. Кроме того, он сумел организовать в родном городе Соколов-Подляски две либертарные группы, состоявшие преимущественно из рабочих, покинувших компартию? [715].
Согласно отчету МАТ за 1930 г., анархо-синдикалистская оппозиция в варшавских профсоюзах была недостаточно сильна для того, чтобы оказывать существенное влияние на тактику рабочих. Она занималась в основном пропагандой. Анархо-синдикалистскую пропаганду вела и АФП. Были изданы новые брошюры: Рокера — о РаЦИонализации, Сухи — о Сакко и Ванцетти и ряд других. Некоторые издания бьши конфискованы полицией. Вышла «Этика» Кропоткина, готовилось издание работ Брупбахера «Маркс и Бакунин» и Мюллера-Ленинга «Марксизм и анархизм в Русской революции». В Париже продолжала выходить анархо-синдикалистская газета «Валка»; в конце 1930 г. ИЗДаНИс было прекращено, но предпринимались меры для его возобновления в 1931 г. [716].
Польское либертарное движение сталкивалось с жестокими преследованиями. Многие активисты подверглись арестам. Так, видный деятель АФП Я. Урманский был приговорен в Тарнове к пяти годам тюрьмы за членство в федерации и распространение изданий «Валка», «Глос анархисты», «Дер Синдикалист» и брошюр [717]. В начале 1929 г. в Кракове на 4 года был заключен в тюрьму КС. Вайдлинг, у которого обнаружили воззвания федерации718 «Удушено в зародыше», по оценке МАТ, было анархо-синдикалистскос движение [719]. К концу 1929 г. анархизм в Польше находился в состоянии кризиса, хотя сами анархисты полагали, что «объективные условия для революционной задачи анархизма в Польше обстоят хорошо» [720],
В Чехословакии к концу 1920-х годов не осталось никакой группы, которая вела бы работу по созданию революционно-синдикалистской организации. Но уже в конце 1930 г. начали предприниматься усилия по проведению синдикалистской конференции, намеченной на 1931 г. [721],
В Венгрии революционно-синдикалистские идеи стали распространяться под влиянием венгерских рабочих, вернувшихся из США. В американских Индустриальных рабочих мира состояло значительное число венгерских иммигрантов; в 1912—1954 годах организация выпускала на английском и венгерском языках сженедельник «Бермункас» («Наемный работник») в Чикаго, Кливленде и Нью-Йорке. В 1920 г некоторые из этих членов ИРМ — рабочих в области деревообработки и шахтеров — вернулись на родину и приступили к созданию собствепнной организации. Поскольку в самой Венгрии, где существовала диктатура Хорти, это было затруднительно, первый номер венгерской газеты ИРМ «Освобождение» под редакцией Шандора Кароя вышел в Братиславе (Чехословакия) в январе 1921 г В нее был воючсн также краткий обзор на словацком языке. Газета распространялась в Чехословакии, Австрии, Венгрии, США, Румынии и Югославии. В это время комитеты или делегаты ИРМ вели работу в Венгрии в городах Лошонц, Комаром, Рожахедь и Надьсомбат. Наконец им удалось создать легальную рабочую организацию.
Венгерский всеобщий рабочий союз (ВВРС) был официально учрежден 27 января 1928 г. и объединял первоначально 70 членов. По существу, союз был венгерской организацией Индустриальных рабочих мира, но это не было официально зафиксировано в его уставе из-за существовавших в то время законов. С мая 1928 г. издавался и распространялся печатный орган союза — газета «Наемный работник».
ВВРС выдвинул более радикальную программу, чем рабочие партии — коммунистическая и социал-демократическая. В союзе вели речь о классовой борьбе и забастовках, но большое внимание уделяли положениям о братстве людей, просвещении, распространснии учебы и образования. В уставе ВВРС было записано, что его члены нe занимаются политикой. ВВРС отвергал официальные профсоюзы. Ответственный редактор газеты «Наемный работник» Иштван Тот уподобил их «мелкокалиберному ружью», из которого «только по воробьям можно стрелять». ВВРС стоял во главе забастовочной борьбы, например крупной забастовки шахтеров в Рождественскис дни 1928 г., и был против любых компромиссов, заключаемых с работодателями, а также против попыток профсоюзов сдержать забастовочное движение.
Организация открыла постоянный центр в Будапеште, создала библиотеку, занималась культурно-просветительной работой, закупала книги для своих члснов и даже игрушки для детей. ВВРС привлекал рабочих, разочарованных в профсоюзах и социал-демократах, а также людей левых убеждений, отстраненных из-за их оппозиционности. Это было радикальное, но полностью открытое движение, без малейшего следа сектантства. Все его члены и лидеры были рабочими, а его идеологи-самоучки нередко выдвигали новые, нетрадиционные взгляды.
Число членов союза за первый год существования выросло в 4 раза, и к январю 1929 г., когда было проведено чрезвычайное собранис, оно превысило 250. К этому времени в ВВРС имелись представители 29 профессий. Характерно, что на этом собрании ЧЛСНЫ Правления организации добровольно подали в отставку, заявив, что их выбирала организация с 70 членами, а теперь необходимо, чтобы новые члены и профессиональные группы были представлены в органах союза. Рабочим, переходящим в ВВРС из профсоюзов, по их просьбе зачитывали стаж членства [722].
По информации МАТ, венгерская организация ИРМ в 1930 г. объединяла до 500 членов. Секретариат Интернационала установил с ней связь, но Рабочий союз заявил, что желает поддерживать международныс отношения только черсз посредство своей основной организации в США [723].
На Балканах бурное развитие анархизма в начале 1920-х годов происходило в Болгарии. Пятый конгресс Федерации анархистов-коммунистов в январе 1923 г. в Ямболе, в котором принимали участис делегаты от 89 местных организаций, обсуждал, среди прочего, вопрос о синдикализме. Секретарь созданного в эмиграции Союза болгарских анархистов-коммунистов Петр Лозанов («Казимир Судьбин») поддерживал тесные контакты с НеМСцКИМИ анархо-синдикалистами и принял участис в Берлинском конгрессе, на котором была основана МАТ [724]. Однако послс профашистского переворота 9 июня 1923 г. анархистское движснис страны было загнано в подполье; многие его активисты были арестованы, погибли или эмигрировали. Оставшиеся на свободе играли видную роль в ходе восстаний в июне и сентябре 1923 г., а в 1923—1928 годах создавали партизанские отряды [725]. Сразу же после отмены осадного положения в конце 1925 г. началось оживленис рабочего и либертарного движения. Появились «самостоятсльныс профсоюзы», в которых активно работали анархисты. Они пытались распространять в этой среде федериистские и антипарламснтскис идеи, однако анархистская пропаганда по-прежнему преследовалась, и поэтому эта деятельность либертариев не имела большого успеха [726]. Легальная деятельность анархистов до 1931 г. была невозможной, но либертариям удалось воссоздать многие группы и возобновить изданис газет.
В концс 1920-х годов в болгарском анархистском движении появились серьезные тактические расхождения. Начал формироваться как отдельное течение и болгарский анархо-синдикализм. Традиционно болгарский анархизм нс признавал особой анархосиндикалистской тенденции, но всегда положительно относился к созданию профессиональных организаций трудящихся. Теперь стало складываться отдельнос анархо-синдикалистское направление. Его основоположником и ведущим активистом стал прекрасный оратор и полемист Пано Василев (1901—1933). Находясь в 1920—1924 годах в Аргентине, он обратился к анархо-синдикализму под влиянием ФОРА, а затем в Париже сблизился с П.Бенаром и другими французскими анархо-синдикалистами. Вернувшись в Болгарию, он создал группу, состоявшую из некоторых анархистов и бывших марксистов, и в 1926 г. развернул в Софии активную агитацию, выступал в читальном зале библиотеки «Христо Ботев» [727]. В МАТ он поддерживал «французскую линию» в полемике с ФОРА, хотя и не считал французские предложения императивом. Так, на конгрессе МАТ в Мадриде в 1931 г. он задавал аргентинскому делегату Сантильяну вопросы в отношении организации революции и «заявил, что, если мы не подготовим все, революция провалится». Он не был согласен также с антииндустриалистским мнением о том, что «рационализация отупляет человека: хотя, когда он был молодым, он верил в те объяснения этой системы, которые давал нам Кропоткин, но в настоящее время он изменил свое мнение». По мнению Василева, «войдя в курс свой работы, рабочий выполняет ее механически, не концентрируя на ней своего внимания» и «может подумать о других проблемах» [728]. В 1927 г. в Софии выходила еженедельная синдикалистская газета «Синдикализм» [729]. Вышло три номера. С другой стороны, в ФАК Б появились сторонники «Платформы» Махно—Аршинова, то есть сторонники более жестких организационных и переходных форм. Они издавали свои газеты и журналы и пользовались определенным влиянием. Большая часть анархистов осталась на традиционных позициях. В движении разгорелась острая борьба течений, которая существенно вредила ему.
Большинство анархистов в Болгарии стремилось избежать споров между синдикалистами и «чистыми» анархистами. «По нашему мнению, эти дискуссии ввозятся в Болгарию искусственно, поскольку не соответствуют условиям страны, — писали болгарские либертарии. — Так, к примеру, дискуссия по вопросу ”Является анархизм общечеловеческим или классовым идеалом? ”для нас беспредметна. Потому что на практике (и даже в теории) мы предоставляем освобождение угнетенного человечества исключительно работникам. Точно так же обстоит дело с вопросом ”анархизм или синдикализм”». Болгарские либертарии заявляли, что анархизм «во имя чистоты принципов» не может отвергать синдикалистскос движение, что антисиндикализм «вреден для движения». Но в то же время они отрицали «чистый синдикализм»: «...Мы не считаем, что синдикализм является особой идейной конструкцией, которая может отрицать коммунистический анархизм..
Мы считаем также неправильным во имя единства рабочего класса пропагандировать ”чистый синдикализм ” в то время, как необходимые условия для такого единства отсутствуют». Последний вывод вполне перекликался с аргументами южноамериканских рабочих анархистов. Подобно им, болгарские либертарии выслушли за создание «либертарно-революционного профсоюзного движения». Они вышли из большинства «самостоятельных профсоюзов» и приступили к созданию «Рабочей федерации Болгарии» с целью «организовать революционный пролетариат Болгарии на основе федералистского и либертарного синдикализма, который независимо от политических партий ведет борьбу за улучшение экономического положения [трудящихся] и за полное освобождение угнетенных трудящихся путем социальной революции». В Софии были образованы рабочие профсоюзы с легальными статутами. Одновременно анархисты создавали пропагандистские круппы, комитеты помощи заключенным и т.д.? [730].
В 1930 г. в качестве секции МАТ в Болгарии оформилась Организация анархо-синдикалистской пропаганды, стремившаяся объединить все либертарные элементы страны в антиавторитарную, федералистскую, антиавторитарную организацию. В стране царили экономический кризис и сильная реакция. Рабочее ДВИжние находилось в зачаточном состоянии: из 500 тысяч наемных работников только 2 тысячи были организованы — по большей части, в реформистских профсоюзах. Действовии также профсоюзы, близкие к компартии. Тем нс менее, по мнению Секретариата МАТ, условия для создания революционного синдикалистского движения в Болгарии были благоприятными. Однако в либертарном движении Болгарии существовали расхождения на сей счет. «Чистые анархисты» выступали против создания анархистских профессиональных союзов. Анархо-синдикалисты хотели организовать массы и объединить всех трудящихся в федералистскую организацик). В 1930 г. наметилось сближение между обеими тенденциями.
Анархо-синдикалисты издавали ежемесячный орган «Работник», пропагандировавший принципы МАТ. Действовала также Ассоциация федералистских студентов, которая заявляла о своей солидарности с анархо-синдикалистами. Эта ассоциация и различные анархистские группы издавали свои журналы. Но в конце 1930 г. репрессии против либсртарного рабочего движения вновь усилилисы, многие активисты были арсстованы [731].
В Румынии в 1930 г. действовало несколько либертарных групп. Одна из них, в Черновицах (Буковина), была создана Нафтали Шнаппом и пропагандировала революционный синдикализм. Не имея возможности создать реальные профсоюзы и сталкиваясь с условиями жестоких репрессий, черновицкая группа оформилась как Организация анархо-синдикалистской пропаганды МАТ. Согласно годовому отчету Интернационала, в 1930 г. в ней насчитывалось около 200 членов [732].

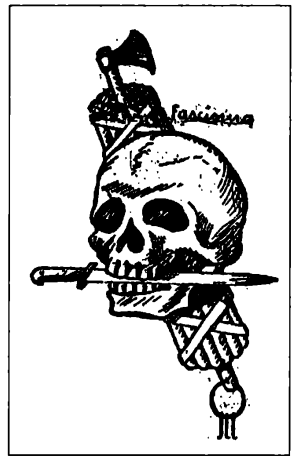

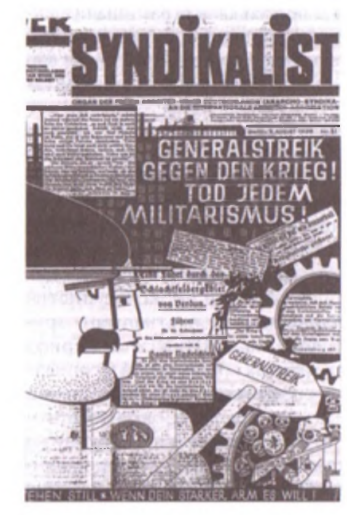
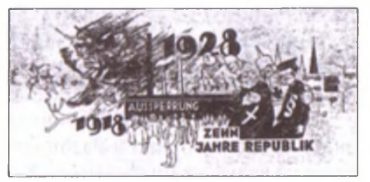






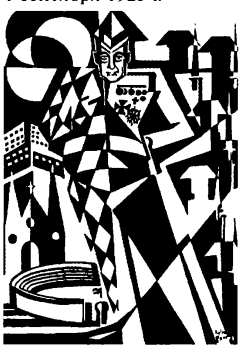




Нет комментариев