Глава 1. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ
Рабочее движение и революционный синдикализм
Пролетариат конца XlX — начала ХХ в. был совершенно особым социальным явлением. Эти люди были деклассированными по своему мышлению, спонтанными по природной сстественности своего повсдСния, ожесточены утратой своей автономии и формировались под влиянием ценностей утерянного ремесленничества, любви к земле и общинной солидарности. Отсюда шел сильный революционный дух, поднимавшийся в рабочем ДВИЖEНИИ...
Мюррей Букчин, американский исследователь социальных Движений [1].
Традиция анархистского рабочего движения восходит к антиавторитарному крылу Первого Интернационала — первой международной организации трудящихся, созданной в 1864 г. Уже в ходе дискуссий в Интернационале были высказаны и сформулированы важнейшие. идеи, которыс позднее составили основу анархо-синдикализма. Так, Женевский конгресс (1866 г.) принял резолюцию, оценивав-) шую профсоюзы не только как орудис «непосредственного противодействия злоупотреблениям капитала» и защиты непосредственных повседневных интересов работников, но и как «ядро организации рабочего класса во имя его полного освобождения». Профсоюзы должны были соединяться в федерации и международные конфедерации. Брюссельский конгресс (1868 г.) высказался в поддержку забастовочной борьбы и рекомендовал прибегнуть к методу всеобщей стачки для того, чтобы парализовать производство и весь «общественный организм», а также в ответ на начало войны. Бельгийские организации Интернационала настаивали на том, что он «уже теперь вырабатывает тип будущего общества, что его различные учреждения с некоторыми изменениями образуют уже теперь зародыш будущего строя... Интернационал заключает в себе зачатки учреждений нового мира», — писала газета бельгийских секций «Энтернасьональ», предвосхищая синдикалистский взгляд на социализм. На Базельском конгрессе 1869 г. французский делегат — столяр Панди представил доклад о профсоюзах, в котором эта идея получила дальнейшее развитие: в социалистическом обществе профсоюзы должны образовать «свободные коммуны, причем правительство и муниципальные управления будут заменены советами делегатов от профессиональных рабочих союзов [2].
После раскола Первого Интернационала на антиавторитарное течение (федералистов, или «бакунистов») и сторонников Маркса в 1872 г., первое продолжило развивать идеи анархистского рабочего движения. Чрезвычайный конгресс федералистов в Сентимье (1872 г.) отверг борьбу трудящихся за политическую власть и высказался за ее разрушение в ходе социальной революции, без каких бы то ни было «временных» переходных форм. Он провозгласњл целью рабочего движения «создание абсолютно свободных организации и экономической федерации, основанных на труде и равенстве всех и совершенно независимых от любого политического правительства» в результате «стихийного действия самого пролетариата, профессиональных организаций и автономных коммун» [3])
Таким образом, получила закрепление анархистская программа ликвидации государства и политической власти одновременно с экспроприацией капиталистической собственности. На конгрсссс федералистского Первого Интернационала в Брюсселе (1874 г.) обсуждался вопрос о форме организации общества, причем в представленных докладах высказывалась мысль о том, что центром социальной жизни будущего общества должна стать свободная коммуна (община) [4]. При этом бакунисты склонялись к мысли, что управление экономикой в таком обществе должно перейти к профессиональным или отраслевым ассоциациям трудящихся. Такая идея высказывалась, к примеру, соратником Бакунина Джеймсом Гильомом [5]. Позднее Итальянская (в 1876 г.), а затем и Юрская федерации Интернационала (1880 г.) одобрили принцип анархистского (либертарного) коммунизма, то есть безгосударственного общества, в котором должны отсутствовать власть, собственность и деньги, а управлять всеми вопросами предстоит территориальным коммунам, ассоциациям трудящихся и их федерациям [б].
В качестве предпочтительных форм борьбы антиавторитарии называли не парламентскую работу, участие в выборах или иные методы «опосредованного» действия, а непосредственные выступления самих трудящихся прежде всего в области борьбы за социально-экономические интересы и права (забастовки и др.). Высшим проявлением такого «прямого действия» они признавали всеобщую стачку и социальную революцию, разрушающую капитализм и государство и передающую общественную жизнь в руки тружеников, объединенных в коммуны и ассоциации. На конгресс в Женеве (1873 г.) был вынесен вопрос о применении всеобщей стачки. «... Всеобщая стачка, — указывалось в предложенной резолюции, — есть не что иное, как социальная революция, так как достаточно приостановить все работы только на десять дней, чтобы совершенно разрушить современный строй». для подготовки и организации такого выступления конгресс рекомендовал рабочим объединяться в международные профессиональные союзы? [7]. Всеобщая стачка представлялась антиавторитарным социалистам как революционный акт, который парализует капитализм и государство и мобилизует трудящихся на организованный захват и экспроприацию предприятий и общественных служб.
В федералистском крыле Первого Интернационала практиковались различные формы организации, в зависимости от особенностей той или иной страны. Так, например, итальянские секции представляли собой скорее разветвленную сеть местных подпольных революционных групп, бельгийские тяготели к партийной схеме и т.д. Испанская федерация впервые начала осуществлять на практике модель анархистского рабочего движения: в основе ее лежали массовые рабочие профессиональные ассоциации. В целом же сам Интернационал и его секции строились на принципах твердого федерализма: основные решения принимались на общих собраниях, а избираемые ими органы должны были иметь чисто координационный и технический характер.
... Сразу после создания антиавторитарного Первого Интернационала его секции и федерации занимали преобладающее положение в рабочем и социалистическом движении таких стран, как Испания, Бельгия, Италия, Швейцария. Они пользовались также њлиянием во Франции и ряде других государств. Однако такая ситуация сохранялась недолго. В 1877 г. обострявшиеся внутренние разногласия привели к расколу федералистского Интернационала. Из него выделились социалисты во главе с бельгийской секцией, которые пошли затем на примирение с марксистами; плодом его стало образование в 1889 г. Второго Интернационала социал-демократических и социалистических партий.
Оставшиеся на антиавторитарных и федералистских позициях анархисты пошли своим путем. Но только в Испании им удалось, несмотря на систематические преследования властей, остаться массовым рабочим движением. В большинстве других стран они избрали тактику так называемой «пропаганды действием», то есть индивидуальных покушений или групповых бунтов, надеясь дать этим сигнал уже «назревшей» социальной революции. «...Среди наиболее заметных активистов рабочая активность превратилась в интеллектуальное нетерпение, — подчеркивал французский исследователь Антуан Кастель. — Опираясь на тексты Бакунина, которым они придавали значение завещания, они заяшшют, что существо социальной проблематики коренится в выборе коллективного повстанческого акта, а затем — пропаганды посредством индивидуального действия... Эти активисты более или менее осознанно идут к изоляции от социальных движений и политическому самоубийству в виде дешевых актов, которые они сочли символическими» [8].
К началу ХХ столетия соперничество в организованном рабочем движении между социалистами — сторонниками и противниками политической борьбы за власть, начавшееся еще в Интернационале и приведшее к его расколу, казалось, определенно дало перевес социалистам-государственникам, то есть социал-демократии. Их противники — антиавторитарные социалисты (анархисты) оказались в большинстве стран оттеснены на обочину рабочего движения. Основные причины этого следует искать как, с одной стороны, в ошибочной тактике самих анархистов конца XlX века, полагавших, что они могут вызвать немедленную революцию с помощью символических актов насилия и не нуждаются в прочной и длительной организации сил трудящихся, так и, с другой, в бурном экономическом росте 1880-х годов, который усилил иллюзии о возможности мирного улучшения положения трудящихся в рамках индустриально-капиталистической системы [9].
Социал-демократия исходила из представления о том, что история человечества идет по восходящей линии прогресса. Ее теоретики полагали, что капитализм самим своим развитием подготовляет основу для будущего социалистического общества, которое во многих аспектах (индустриальная и политическая централизация, разделение труда, специализация производственных и общественных функций и т.д.) как бы станет историко-логическим продолжением существующего, капиталистического [10]. Основную разницу между двумя формациями социал-демократы усматривали в принадлежности политической власти: ее следовало отобрать у капиталистов и передать трудящимся, поставив таким образом созданную капитализмом индустриальную машину на службу всем. Иными словами, предполагалось, что фабричная система организации производства будет в той или иной степени перенесена на все общество, а освобождение трудовых классов, социализм станут не разрывом с логикой капитализма и индустриализма, не альтернативой данной системе, а дальнейшим развитием ее собственных закономерностей.
Под контролем социал-демократических партий к началу ХХ века находились крупнейшие профобъединения Европы: германские и австро-венгерские «свободные профсоюзы», ряд французских, нидерландских, бельгийских и португальских рабочих объединений, Всеобщая конфедерация труда Италии, Всеобщий союз трудящихся Испании, федерации профсоюзов Скандинавских стран, Швейцарии и т.д. На позициях парламентского социализма стояло большинство британских тред-юнионов, поддержавших создание Лейбористской партии. Особенность тактики социал-демократов в профсоюзном движении состояла в подчинении массовых рабочих организаций политической линии партий, укреплении власти и влияния профбюрократии и ее контроля над распределением профсоюзных средств и фондов, ориентации на чисто экономическую борьбу при том, что политические и социальные вопросы полностью передавались в ведение партии. Анархисты и другие антиавторитарные социалисты удерживали влияние лишь в рабочем движении Испании и Латинской Америки, а также с большим или меньшим успехом действовали в рабочих организациях во Франции, Португалии, Италии.
Однако начале ХХ столетия гегемонии социал-демократии был брошен вызов. Недовольство парламентским курсом рабочих партий породило не только внутрипартийную левую оппозицию, но и сопротивление в профсоюзной среде. Возникло новое радикальное течение — революционный синдикализм. Под этим термином стали понимать профсоюзное движение, «которое рекомендовало для преобразования экономических и социальных условий ”революционное прямое действие“ рабочих масс... в противовес парламентскому [11].
Исследователи называют несколько причин этой радикализации настроений и действий трудящихся. Прежде всего она была связана с изменением самого положения рабочих в структуре индустриального производства. Вплоть до 1890—1900-х годов его организация не доходила в целом до такого уровня специализации, который позволял осуществить разделение трудового процесса на дробные операции. Для труда рабочих индустриальных предприятий была характерна известная целостность. В этом отношении он был близок к труду ремесленников, от которых фабричные работники унаследовали психологию и этику автономии, независимости. Они обладали комплексными производственными знаниями в своей специальности, в сфере организации их труда, распределения рабочего времени и т.д. Все это способствовало формированию у них представлений о возможности рабочего контроля над производством в целом, производственного и общественного самоуправления [12].
Очередной переворот в производстве, начавшийся на рубеже XIX и ХХ столетий (освоение новых источников энергии, все большее использование электричества и моторов внутреннего сгорания), вызвал изменения в соотношении различных отраслей индустрии и появление новых. Широкое внедрение технических инноваций привело к сдвигам в производственных процессах, в условиях труда и жизни работников [13]. Рабочий класс все больше концентрировался в городах в гомогенных кварталах и районах, что укрепляло массовое сознание и чувство солидарности между наемными тружениками. При стремительном росте прибылей предпринимателей почти повсюду наблюдались стагнация или даже сокращение реальных заработков. Технические и организационные изменения на производстве подрывали профессиональные ремесленные навыки работников. Внедрение механических и электрических деталей, машин и операций разлагало труд на части, что вело к деквалификации рабочих, к тому, что они все меньше представляли себе процесс своего труда в целом и соответственно утрачивали возможность его контролировать [14]. Новые методы организации работы и менеджмента (прямой наем всех работников, сдельщина, система премий, модели внутреннего стимулирования и внедрение внутрифабричной иерархии) позволяли предпринимателям и администрации интенсифицировать производственный процесс, увеличивая нагрузку на трудящихся и их рабочее время. Все это усиливало недовольство рабочих прежде всего в таких отраслях, как фабричная и горнодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт. С другой стороны, росло число лиц, занятых неквалифицированным, временным и сезонным трудом в строительстве, портах, сельском хозяйстве. газовой промышленности. Их положение было ненадежным и неустойчивым, но они мсньшс зависели от конкретного места работы и определенного предпринимателя, вынуждены были быстрее действовать и оперативно отстаивать свои права и интересы.
Наблюдатели отмечали бурный рост чувства солидарности среди трудящихся. Показателем здесь можно считать крупные забастовки транспортников в Британии, Нидерландах и Франции 1911—1912 годов, которыс приобрели международный характер. Взаимная поддержка моряков, портовых рабочих и работников наземного транспорта приносила наемным труженикам успех. Характерно, что наемные труженики разных стран эффективно использовали сходные методы взаимопомощи, такие как организация бесплатных обедов для бастующих и уход за их детьми [15]. Наблюдался почти повсеместный рост забастовочного движения. В ряде государств произошли всеобщие или «политические» стачки. Традиционная линия социал-демократических рабочих партий и профсоюзов все меньше удовлетворяла трудящихся. Социалдемократия отрицала идею всеобщих стачек как «всеобщую бессмыслицу». На съезде германских «свободных профсоюзов» в Кельне (1905 г.) было еще раз подтверждено, что «идея всеобщей стачки, которую защищают анархисты и люди, лишенные всякого опыта в области экономической борьбы, не подлежит обсуждению [16]. Даже выступая за частичные экономические требования, профсоюзы, находившиеся под влиянием социал-демократии, все больше тяготели к реформизму и компромиссам с властями и предпринимателями, прибегая к объявлению забастовок лишь в крайних случаях. В организационном отношении реформисты ориентировались на централизованное действие (к примеру, в Германии существовала практика санкционирования стачки центральным отраслевым профобъединением). В этих профсоюзах сформировалась разветвленная и деспотическая бюрократия. Модель крупной централизованной организации с многоступенчатой структурой принятия решений и закреплением задач за специально выделенными профессионалами предполагала сужение полномочий и возможностей рядовых членов. Освобожденных функционеров больше заботили вопросы сохранения и укрепления организационных структур, чем участие в борьбе с Неопределенным исходом [17]. Нередко профсоюзные лидеры предпочитали воздерживаться от проведения стачек, чтобы не рисковать средствами, накопленными в забастовочных фондах. В других случаях руководство рабочих организаций заставляло их членов прекратить забастовку, как это произошло, например, с выступлением берлинских металлистов в декабре 1911 г. Связанные с этим поражения выступлений наемных работников металлургической, фарфоровой, табачной, обувной, текстильной и иных отраслей Германии в начале 1910-х годов привели многих активистов по всей Европе к выводу о том, что практика и модель германских центральных отраслевых союзов зашли в тупик [18]. Вместо непосредственной забастовочной борьбы реформистские профсоюзные руководители предпочитали практику централизованных «тарифных соглашений» между предпринимателями и профсоюзами, которые заключались профлидерами с предпринимателями для определенных профессий и территорий и связывали стороны на протяжении всего согласованного срока. Среди рабочих такие действия вызывали растущее негодование, так как часто навязывали им невыгодные условия и лишали их права голоса при принятии важных для них решений. «В целом и по всем важнейшим вопросам центральное правление обладает верховной властью... — констатировалось в брошюре, изданной в 1911 г. британской Федерацией шахтеров Южного Уэльса. — Они, лидеры, становятся ”джентльменами' членами парламента и вследствие этой власти имеют внушительнькй социальный престиж... Что действительно заслуживает порицания, так это политика соглашений, которая требует таких вождей... [19]. По словам немецкого профсоюзного активиста Карла Рохе, «в самом рабочем движении, которое вроде бы стремится к ЛИКВИДAЦИИ всех массовых противоречий... образовались два класса» — всевластных «оплачиваемых чиновников» и аплодирующих и голосующих «профанов» [20].
Подъем революционно-синдикалистского движения
Прямое действие означает действие самих рабочих, то есть действие, непосредственно осуществляемое самими заинтересованными людьми. Сам трудящийся прилагает усилия; он лично воздействует на силы, которые господствуют над ним, чтобы добиться от них требуемых выгод. С помощью прямого действия трудящийся сам создает свою борьбу; именно он ведет ее, полный решимости не передоверять свое освобождение никому иному.
Виктор Гриффюэльс,
Деятель французского революционного синДикализма [21].
Вызов влиянию социал-демократии в рабочем движении, а также всему, что с ним связано — парламентской ориентации, реформизму и засилью партийной и профсоюзной бюрократии, — был впервые брошен во Франции. Именно здесь рабочие стали вырабатывать снизу тактику революционного синдикализма. Эта линия получила распространение преждс всего в биржах труда. Первая из них была создана в 1886 г. в Парижеуервоначально в них просто фиксировались спрос и предложение труда, но вскоре они стали служить также рабочими клубами и культурно-образовательными центрами. Будучи первоначально местной формой межпрофессиональной организации, биржи превратились со временем в профцентр, ориентированный на классовую борьбу. В 1892 г. они объединились в общенациональную федерацию. Биржи труда вели активную работу по сплочению трудящихся на местах, независимо от политических партий и отдельных профсоюзов, которые часто находились под партийным влиянием. Они стали своего рода хребтом социальной самоорганизации и взаимопомощи рабочих: помогали безработным и лицам, ИЩУЩИМ работу, больным и жертвам несчастных случаев на производстве, создавали библиотеки, социальные музеи, профессиональные и общеобразовательные курсы, вели пропаганду за создание профсоюзов и оказывали в этом методическую помощь, организовывали стачки, забастовочные кассы, вели общую агитацию и т.д. [22] Слабым местом бирж труда была их зависимость от финансирования со стороны муниципальных властей, которая порождала постоянные конфликты между государствснной администрацией и рабочими активистами.
Французские социалисты-«гедисты» не пользовались влиянием в движении бирж труда. Его участниками становились в первую очередь низовые профсоюзныс активисты, разочарованные мизерностью социального и трудового законодательства 1880— 1890-х годов, члены социалистических группировок, оппозиционных соцпартии Коля Геда (прежде всего, «алеманисты»), а также определенное число анархистов, которые работали в профсоюзах в таких городах, как Париж, Роанн, Тулуза, Тулон, Алжир и т.д. Анархисты надеялись на то, что местные биржи и профсоюзы в случае революции могут стать «ассоциациями производителей» — зачатками самоуправленческой, либсртарной и безгосударственной организации общества, переходного состояния на пути к «полному» анархизму (если революция произойдет раньше, чем утвердится анархистское сознание среди рабочих) или начальной стадией либертарного (анархического) коммунизма — общества без государства и без денег. Секретарсм Федерации бирж труда был избран анархист Фернан Пеллутье, сыгравший важную роль в формировании революционного синдикализма.
В рамках движения французских бирж труда был сформулирован ряд важнейших принципов революционного синдикализма. Некоторые из них были близки к тем, которые провозглашались антиавторитарным крылом Первого Интернационала: независимость от политических партий, неучастие в политической борьбе, «прямое действие» (непосредственное отстаивание людьми своп интересов), ориентация на экономическую борьбу, ведущуюся трудящимися против предпринимателей за частичные улучшения положения наемных работников, и на подготовку всеобщей стачки как средства социальной революции. Такая близость объяснялась не только влиянием участвовавших в движении анархистов, но и практическим опытом многих французских рабочих того времени.
В 1902 г. Федерация бирж труда объединилась с другим профцентром — Всеобщей конфедерацией труда (В КТ) — в единую В КТ. Новая ВК Т стала крупнейшей рабочей организацией Франции: в 1912 г. она объединяла 600 тысяч из I миллиона организованных наемных работников страны [23]. Руководство конфедерации оказалось в руках сторонников революционного синдикализма, на этих позициях стояли федерации портовых рабочих, металлургов, грифельного производства, ювелирной промышленности, спичечной промышленности, литографии, строителей, производства средств транспорта, пищевой промышленности, бумажной промышленности, шляпной промышленности, работников муниципальных служб и т.д. Но в ВКТ входили и профсоюзы, большинство в которых составляли реформисты: железнодорожников, книжного дела, текстильщиков, механиков, рабочих военных мануфактур, музыкантов, рабочих керамической промышленности, газовой отрасли и освещения, табачников, транспортников [24]. Соотношение сил было неустойчивым и могло меняться. Однако в периоды активной борьбы революционный синдикализм захватывал и тех трудящихся, которые состояли в реформистских союзах.
Радикализм ВКТ нашел отражение не только в проводимых ею стачках, но и в организованных кампаниях прежде всего против милитаризма и КОЛоНИиьноЙ политики и за введение 8-часового рабочего дня. С 1 мая 1905 г французский профцентр развернул массированную агитацию за то, чтобы с мая 1906 г. трудящиеся начали явочным порядком работать не более 8 часов в день. По всей стране распространялись плакаты и листовки, вывешивались лозунги, проводились собрания и доклады. «...В рабочем классе утвердились почти хилиастические настроения, которые приходилось сдерживать реалистически мыслящим профсоюзникам (на многих фабриках можно было прочесть надписи вроде: ”Еще 70 дней — и мы будем свободны“ или ”Еще 67 дней — и наступит освобождение”). Буржуазия была в то же самое время охвачена коллективным психозом. Воцарился большой страх» [25]. Власти арестовали ЛИДеров ВКТ, ввели войска в города. За неделю до мая 1906 г. во многих отраслях вспыхнули стачки за 8-часовой рабочий день, а мая — всеобщая забастовка, участие в которой в одном только Париже приняло до 200 тысяч рабочих. Уличные и баррикадные бои, полная остановка экономической жизни во многих населенных пунктах и промышленных центрах и многомесячная волна арьергардных стачек вырвали у властей ряд уступок: сокращение рабочего времени и повышение зарплаты на отдельных предприятиях, законодательное введение еженедельного выходного дня и сокращенного дня по субботам, снижение интенсивности труда в строительстве.
В последующие годы репрессии против ВК Т усиливались. Власти неоднократно посылали войска против участников забастовок, солдаты открывали огонь по рабочим; вспыхивали уличные бои. Организация не выдержала чрезмерного напряжения сил. В конце 1908 г. руководство ВКТ перешло в руки реформистов. Тем не менее вплоть до 1914 г. в деятельности конфедерации наблюдались сильные революционные элементы: организация продолжала активные антимилитаристские и антивоенные кампании, борьбу против не удовлетворявшего рабочих пенсионного законодательства и против инфляции [26].
Из Франции революционный синдикализм распространился по другим европейским странам. После всеобщей стачки 1903 г. на позиции революционного синдикализма перешел созданный в 1893 г. «Национальный секретариат труда» Нидерландов, порвавший с реформистской социал-демократией. В Италии с 1891 г. стали возникать местные палаты труда по образцу французских бирж труда. Всеобщая забастовка в 1904 г., стачки и столкновения на Юге страны (1905 г.) и всеобщая стачка в Турине (май 1906 г.) усилили стремление рабочих к объединению. В 1906 г. была создана Всеобщая конфедерация труда (ВКТ); руководство в ней захватили социалисты, а революционные синдикалисты возглавили оппозицию. Недовольство рабочих реформистской политикой социалистического руководства ВКТ возросло после того, как оно отказалось поддержать стачку железнодорожников в Милане (1907 г.) и региональную забастовку в Парме (1908 г.). Со своей стороны, революционные синдикалисты возглавили в 1908—1911 годах крупные выступления батраков в Пулии, металлургов в Турине и Генуе, забастовки против итальянской интервенции в Африке, стачку сталелитейщиков в Пьомбино и на острове Эльба, забастовку каменщиков Каррары и т.д. Постепенно формировались координационные структуры революционно-синдикалистского движения. Наконец, в 1912 г. был создан Итальянский синдикальный союз (УСИ), имевший федералистскую и самоуправленческую внутреннюю структуру. В 1914 г. в нем насчитывалось ужe 124 тысячи членов [27]. Революционные синдикалисты организовали такие крупнейШИС выступления итальянских рабочих, как всеобщие забастовки работников мраморной промышленности и миланских металлургов, выступления строителей, моряков, батраков и железнодорожников, всеобщая забастовка солидарности с рабочими производства мебельных материалов (1913 г.), стачки каменщиков Каррары (1914 г.). В июне l914 г. антимилитаристскис выступления переросли в восстание («красную неделю»), прежде всего в Марке (Анконе) и Эмилии-Романье. УСИ активно участвовал в выступлении, а лидеры ВКТ всеми силами саботировали его.
В Португалии, где анархисты активно действовали в рабочих ассоциациях с начала 1890-х годов, пример французского революционного синдикализма способствовал освобождению большинства организованных трудящихся из-под влияния социалистов. Росло активное стачечное движение, прибегавшее к методам прямого действия. Уже в 1907 г. несколько профсоюзов, вышсдших изпод контроля реформистов, объединились во Всеобщую федерацик) труда. В 1909 г. анархисты и революционные синдикалисты, оттеснив социалистов, созвали в Лиссабоне конгресс профсоюзных и кооперативных ассоциаций. Участники выдвинули требование 8часового рабочего дня и договорились о создании конфедерации всех рабочих с целью «добиться растущего влияния на производство необходимых благ». На Северс страны в Порту в 1911 г. возник автономный и независимый от Социалистической партии Всеобщий союз труда. Второй синдикальный конгресс в том экс году укрепил революционно-синдикалистскую ориентацию. В 1910 — 1912 годах страну потрясла волна стачек, носивших радикальный, бунтарский характер, сопровождаясь столкновениями с войсками и полицией, актами саботажа. В 1912 г. в знак солидарности с выступлением 20 тысяч сельскохозяйственных рабочих Эворы синдикалисты объявили всеобщую забастовку. Рабочие вооружались, Лиссабон фактически оказался в руках трудящихся. Политика реформистских профсоюзов в значительной мере помогла подавить движение. Последовавшие репрессии заставили синдикалистов и социалистов искать сближения. На первый общенациональный рабочиЙ конгресс в Томаре в 1914 г. собрались представители обоих течений. Был создан единый «Национальный рабочий союз», в котором каждое идейное направление получало полную независимосты Однако идеи и действия революционного синдикализма пользовались все большим влиянием, и на национальной конференции 1917 г. они были официально признаны [28].
В Германии и Скандинавских странах у истоков как анархистского, так и революционно-синдикалистского движения стояли активисты левой и профсоюзной оппозиции в самой социал-демократии. Свободное объединение немецких профсоюзов (СОНП), созданное в 1897 г. «локалистами» (противниками образования бюрократических центральных профобъединений), в начале 1900-х годов приняло концепцию всеобщей стачки и методы прямого действия, а в 1912 г. утвердило программу, составленную под влиянием французской ВКТ. В ответ Социал-демократическая партия Германии в 1908 г. запретила своим членам состоять в СОНП. В Швеции «молодые социалисты» выступили в 1908 г. в ходе профсоюзных дебатов в поддержку методов борьбы и тактики, близких к линии ВКТ. Поражение всеобщей стачки в следующем году усилило разочарование в политике социал-демократического профсоюзного руководства, и в 1910 г. делегаты от ряда профсоюзов провозгласили создание Центральной организации шведских рабочих (САК). Возникли организации синдикалистской оппозиции в Норвегии (Норвежский синдикалистский союз) и Дании. Волна локаутов в Скандинавских странах летом 1911 г. и компромиссы, заключенные в этих условиях профсоюзным руководством с предпринимателями, способствовали распространению революционно-синдикалистского движения в Скандинавии.
В англосаксонских странах революционный синдикализм распространился в форме «индустриального юнионизма», то есть не профессионального, а отраслевого объединения рабочих. В отличие от французских и итальянских синдикалистских профсоюзов, «индустриальный юнионизм» рассматривал в качестве своей организационной основы низовую производственную единицу, а на более высоком уровне — отраслевое объединение, впоследствии — «единый большой союз» всех трудящихся, независимо от их профессии.
США в 1905 г. по инициативе радикальных профсоюзов была образована организация Индустриальные рабочие мира (ИРМ), которая также приобретала все более отчетливый революционносиндикалистский характер: она ориентировалась на прямое действие, стремилась сочетать выступления за непосредственное улучшение положения рабочих с борьбой за социальную революцию и новое общество, организованное на основе профсоюзов, управляющих производством. В отличие от официальных профсоюзов, ИРМ широко включали в свой состав также неквалифицированных рабочих, иммигрантов, женщин. В 1906—1916 годах ИРМ участвовали в ряде наиболее ожесточенных и радикальных рабочих стачек в истории США: ОбЩеМ выступлении рабочих различных профессий в Голдфилде (Невада), забастовке рабочих лесопильной промышленности в Портленде (Орегон) (1906— 1907), многотысячных забастовках текстильщиков в Скоухегене (Мэн) (1907) и Лоуренсе (Массачусетс) (1912), металлистов в Мак-Кис-Роксе (Пенсильвания) (1909) и т.д. Ответом были репрессии против активистов ИРМ [29].
В Австралии организации ИРМ возникли как реакция на введение принудительного государственного арбитража в трудовых вопросах и подавление стачек. Рабочие организации на платформе ИРМ были созданы также в Великобритании, Южной Африке, в 1917 г. — в России, а после Первой мировой войны — в Германии.
Революционно-синдикалистское движение в Британии зародилось также под влиянием агитации ИРМ и газеты «Синдикалист», издававшейся рабочими активистами Томом Манном и Гаем Боумэном. В 1910 г. в стране была организована Индустриальная синдикалистская лига образования (ИСЛО). Британские синдикалисты ориентировались не на создание отдельной организации, а на завоевание тред-юнионов. Им удалось установить контроль над ключевыми профсоюзами шахтеров и железнодорожников. В предвоенные годы в Великобритании происходил бурный рост синдикализма, организованные им массовые выступления рабочих (всеобщая забастовка моряков 1911 г., впервые вызвавшая международное движение солидарности, миллионная стачка шахтеров весной 19l2 г.) превзошли все, что знал тогдашний мир классовых конфликтов [30]. Борьба британских моряков была поддержана коллегами в Бельгии, Голландии и США, докерами, а также другими категориями британских транспортников. Показательно, что в ходе стачки шахтеров решения принимались референдумом рабочих, а в ходе переговоров с предпринимателями работники стремились связать своих представителей четким и обязательным наказом и в духе федерализма соблюсти автономию отдельных шахт и регионов. Федерация шахтеров Южного Уэльса разработала план реорганизации профсоюзов, в котором предусматривалось введение революционно-синдикалистских принципов: автономии секций как высшей решающей инстанции, отказа от формирования руководства из освобожденных членов, взятия рабочими отрасли в свои руки в качестве цели и т.д. [31].
Революционно-синдикалистские тенденции распространились в начале века и в ряде других стран: Бельгии (Союз синдикатов провинции Льеж с 1910 г., Бельгийская синдикальная конфедерация с 1913 г.), Швейцарии, России (здесь, по некоторым сведениям, и возник сам термин «анархо-синдикализм» [32]), Австро-Венгрии, на Балканах, в Канаде («Единый большой союз», 1919 г.) и т.д.
Революционный синдикализм и анархизм
В революционном синдикалистском рабочем движении, более чем в других движсниях, видят ожившие инстинкты класса, ищущего и нащупывающего свой путь... Поэтому это движение не выросло из какойлибо опрсдсленной, законченной теории, но возникло из потребностей практической жизни. РеволюЦИоННЫС синдикалисты... всегда подчеркивали, что синдикализм — это дело самих рабочих, а не спекулятивное творение отдельных интеллектуалов.
Герхард Айгте, немецкий исслеДователь революционного синдикализма [3З].
Революционный синдикализм начала ХХ века родился не в головах теоретиков. Это была практика рабочего движения, которая искала свою доктрину, — преждс всего практика прямого действия. Она означала, по словам одного из ведущих активистов французской ВКТ Эмиля Пуже, что рабочий класс, находясь в постоянном конфликте с соврсменным обществом, «ничего не ждет от людей, властей или сил, внешних по отношению к нему, но творит условия своей собственной борьбы и черпает в себе самом свои средства действия» [34]. «Прямое действие варьирует в зависимости от обстоятельств, — указывал один из лидеров ВКТ Жорж Ивето.
Трудящиеся ежедневно находят новые средства, в зависимости от своей профессии, воображения, инициативы. В ПринцИпс прямое действие исключает любую заботу о законности... Прямое действие состоит в том, чтобы заставить хозяина уступить из соображений страха или интереса» [35]. К таким методам относились прежде всего виды экономической борьбы, непосредственно направленные против контрагента рабочих на производстве — предпринимателя (бойкот, индивидуальный и групповой саботаж производства, частичныс и всеобщие стачки), а также революционно-синдикалистская пропаганда и антимилитаристское действие. Политическая борьба как задача организованного рабочего движения отвергалась. Предполагалось, что из экономической борьбы рабочих за свои права и улучшение своего положения в рамках существующего общества неизбежно вырастет фронтальное противостояние капиталу и его государству, в результате чего капитализм будет низвергнут, система наемного труда уничтожена, а организованные в профсоюзы рабочие возьмут управление производством в свои руки. В этом смысле стачки играли для революционных синдикалистов совершенно особую роль: они рассматривались не как самоцсль, а как «революционная гимнастика», как подготовка рабочих к грядущей революции.
Революционно-синдикалистскому движснию так и не удалось сформулировать целостную идейную доктрину. На уровне теории революционный синдикализм остался комплексом различных по своему происхождению идей. Вклад в этот комплекс внесли самые различные течения. Голландский синдикалист (и одновременно один из первых исследователей движения) Христиан Корнелиссен выделял среди активистов революционного синдикализма три группы: профсоюзных активистов, которые считали синдикализм «самодостаточным» помимо любой идеологии и заняли радикальные позиции под влиянием практики классовой борьбы; анархистов, увидевших в профсоюзном движении возможность перейти от агитации к делу; наконец, выходцев из социалистических партий и групп, надеявшихся вывести социализм из тупиков парламентаризма [36]. Анархисты, работавшие в профсоюзах и стремившиеся приблизить их к либертарным позициям, считали их не только органом борьбы рабочих за непосредственное улучшение их положения, но и тем институтом, который в ходе всеобщей стачки совершит социальную революцию, захватит управление экономикой и будет планировать производство и потребление в интересах всего общества. В 1909 г. два видных французских революционных синдикалиста Эмиль Пато и Эмиль Пужe опубликовали программную книгу «Как мы совершим революцию» [З7]. Они исходили из предположения, что профсоюзы в ходе революционной стачки экспроприируют капиталистическую собственность и превратятся в ассоциации производителей. Каждый из них займется реорганизацией производства и распределения в своей сфере. Профсоюзы, их территориальные и отраслевые федерации на всех уровнях (вплоть до общенационального конгресса и созданного им комитета) должны будут стать органами нового общества, принимающими и осушествляющими основные решения в сфере хозяйственной и социальной жизни: собирать статистику и обмениваться ею, координировать на этой основе производство и распределение и обеспечивать администрацию общественными процессами снизу вверх. Группам и ассоциациям территориального самоуправления жителей отводилась в этой схеме только вспомогательная роль организации местной жизни.
В разработках и рецептах революционных синдикалистов можно было, таким образом, обнаружить многие основные черты анархистской (либертарной) самоуправленческой альтернативы индустриально-капиталистическому обществу. Однако в некоторых принципиальных пунктах существовали расхождения. Прежде всего революционный синдикализм гораздо более позитивно относился к индустриальному прогрессу и индустриальным формам организации, чем анархо-коммунистическая доктрина. Анархизм отвергал не только капитализм, частную собственность и государство, но и централизацию общественной жизни, разделение и специализацию труда. Анархистские теоретики не возражали против профессиональных ассоциаций и объединений по интересам, но считали основой свободного общества будущего самоуправляющиеся, автономные территориальные коммуны, объединенные в федерации. Индустриальной централизации, производственной иерархии и специализации, фабричному деспотизму с его строжайшим разделением труда и функций на управленческие и исполнительские, с его культом производства и производительности анархо-коммунисты противопоставляли разрыв с логикой индустриализма: децентрализацию и разукрупнение промышленности, ее переориентацию на местные нужды, интеграцию промышленного и сельскохозяйственного, умственного и физического труда, максимально возможное самообеспечение коммун и регионов [38] Напротив, многие синдикалисты стремились к њлиянию на процесс труда на существующих предприятиях, а не к ликвидации системы крупной централизованной промышленности. Так, Х. Корнелиссен утверждал, что разделение труда имеет «большие преимущества» для наемного работника и будет способствовать его освобождению. В духе индустриалистского марксизма II Интернационала он заявлял, что ликвидация капиталистической собственности на средства производства отнюдь не означает, что все работники предприятия должны участвовать в управлении. Корнелиссен защиидал и сохранение института освобожденных функционеров — профсоюзной бюрократии [39].
Иными словами, часть анархистов, работавших в профсоюзах, склонялась к тому, чтобы считать синдикализм своего рода анархизмом нового, индустриального века. «Я — анархист, но анархия м ня не интересует», — заявил Э. Пуже [40].
Некоторые из анархистов в революционно-синдикалистском движении сознавали разрыв между анархистской социальной доктриноЙ и моделью иерархического централизованного производства, управляемого профсоюзами. Однако они утверждали, что такой «синдикалистский строй» хотя и не уничтожает еще государство, но при своей дальнейшей эволюции приведет к «полному проведению коммунистических принципов в экономических отношениях» и «к полному исчезновению» государства «вследствие... ненужности», то есть к анархии [41].
(Теория анархистского коммунизма исходила из того, что сразу же после социальной революции, уничтожающей частную собственность и государство, общество перейдет к коммунистической системе производства и распределения по принципу «от каждого по способностям, каждому по потребностям». В книге Пато и Пуже предлагался промежуточный, «коллективистский» вариант, близкий к тому, который в те годы отстаивали марксисты: коммунистическое распределение предметов первой необходимости и распределение «по труду» (по рабочим книжкам) всех остальных благ.
А Корнелиссен, подобно правым социал-демократам, утверждал, что в современную индустриальную эпоху, при росте взаимозависимости в мировой экономике самопроизводство невозможно и потому как цены, так и вознаграждение за труд в денежной форме неизбежны и в социалистическом обществе, по крайней мере, пока не наступило изобилие [42]»
Немалое число марксистов конца XIX — начала ХХ века, разочаровавшись в «старческой немощи» парламентского социализма и реформизма, увидели в революционном синдикализме способ оживить и спасти социализм. Синдикалистские «неомарксистские» теоретики (Жорж Сорель, Эдуард Берт, Юбер Лагардель во Франции, Артуро Лабриола, С. Леоне в Италии и т.д.) стремились вернуться к тем сторонам марксистского учения, которые критиковали государство и фабричный деспотизм и ориентировались на их ликвидацию. Однако их представление о мобилизующей роли насилия, об авангардно-элитарной функции «революционного меньшинства» в противовес «демократии числа» и, наконец, о мифах, в которые должен верить каждый участник движения, даже если ему не суждено в полной мере реализовать их (к таким мифам Сорель относил, например, синдикалистскую идею всеобщей стачки и Марксово учение о «катастрофической революции» [43]), коренным образом противоречили либертарным взглядам. Тем не менее работы этих авторов получили широкое распространение и во многих странах стали ассоциироваться с революционно-синдикалистским движением, оказав на его развитие существенное влияние.
Теоретики анархистского коммунизма (Петр Кропоткин, Эррико Малатеста и другие) утверждали, что в основе общественного развития лежит прогресс этических идей человечества, что капитализм является регрессивным строем, поскольку он подрывает социальную природу человека со свойственными ему началами взаимопомощи, а разделение на противоборствующие классы играет реакционную роль, тормозя саморализацию человеческой личности. Отсюда анархо-коммунисты выводили потребность в ликвидации классового разделения общества. Путь к этому они видели в сопротивлении угнетенных социальных слоев, но подчеркивали: «Анархистская революция, к которой мы стремимся, выходит далеко за интересы одного отдельного класса. Ее цель полное освобождение всего порабощенного в настоящее время человечества в тройном смысле слова — экономичсском, политическом и этическом» [44]. Напротив, революционный синдикализм заимствовал в марксизме представление о примате экономики и прогрессивности классовой борьбы в развитии общества. Он исходил из представлсния, будто развитие индустриального капитализма создаст экономическую и производственную основу для свободного общества, а борьба пролетариата за свои классовые интересы необходимым образом приводит его к свержению капитализма. Отсюда проистекали организационные и программные взгляды революционных синдикалистов, нашедшие отражение прежде всего в «Амьенской хартии» — документе, принятом конгрессом французской ВКТ в Амьене в 1906 г. Хотя в хартии был зафиксирован компромисс между различными течениями, составлявшими французскую профсоюзную конфедерацию, она оказала решающее воздействие на рабочее движение многих стран именно как декларация принципов революционного синдикализма.
Согласно этому документу, ВКТ имела не идейную, а чисто классовую основу, объединяя «вне какой бы то ни было политической школы» всех трудящихся, осознавших необходимость «борьбы для уничтожения наемного труда и капитала». Документ заявлял о признании массовой борьбы на экономической почве «против любых форм эксплуатации и угнетения». Провозглашалось, что синдикализм имеет двойную задачу: вести борьбу за немедленное улучшение положения рабочего масса и одновременно подготовлять «полное, всецелое освобождение» посредством «экспроприации капиталистов» в ходе всеобщей стачки, так что профсоюзу (синдикату) надлежало в будущем стать «группою производства и распределения продуктов», «основой социальной переорганизации». Что касается политических партий, идейных тенденций, религиозных течений и т.д., то трудящимся предлагалось, вступая в профсоюз, оставить свои специфические убеждения за его пределами во имя единства класса. За ними признавалось, впрочем, право бороться за свои идеи вне профсоюза [45].
Таким образом, по сравнению с коммунистическим анархизмом, революционный синдикализм представлял собой лишь частичный, непоследовательный и противоречивый разрыв с индустриально-капиталистической системой. В этом следует искать объяснение того факта, что в анархистских кругах новое движение зачастую было воспринято критически. Правда, Кропоткин одним из первых выступил за работу анархистов в профсоюзах [46] и даже написал предисловие к упомянутой программной книге Пато и Пупке, подчеркивая ее близость к анархизму в вопросах рабочей самоорганизации и самоуправления [47]. Но далеко не все анархисты отнеслись к революционному синдикализму с симпатией. Острые oпоры об отношении к синдикализму вспыхнули на конгрессе анархистов в Амстердаме в августе 1907 г., созванном, не в последнюю очередь, благодаря усилиям голландского синдикалиста Корнелиссена. Французский делегат Пьер Монатг, активист ВКТ, подчеркиват общность позиций и взаимовлияние анархизма и СИНДИКАЛИЗМА, настаивал на том, что синдикализм, «провозглашенный Амьенским конгрессом 1906 г.», самодостаточен. Он представил его как своего рода обновление анархистской цели, «концепции движения и революции». Ряд других участников конгресса подверг критике идею «самодостаточности» синдикализма. Так, чешский анархист Карел Вогрыжек заявил, что синдикализм может быть лишь средством, инструментом анархистской пропаганды, но не целью. Корнелиссен доказывал, что анархистам следует поддерживать не любой синдикализм и не любое прямое действие, а только «революционные по своей цели». Но наиболее резко выступил против позиции Монатга итальянский анархист Малатеста. Он также поддержал работу анархистов в профсоюзах, но отвел им, как и рабочему движению как таковому, роль одного из средств революционной борьбы. Малатеста не отрицал, что профсоюзы могут дать в будущем «группы, способные взять в свои руки управление производством», однако считал, что в первую очередь они созданы и существуют как инструмент отстаивания групповых материальных требований в рамках существующего общества. Он оспаривал идею, что солидарность между трудящимися может вырасти из общих экономических массовых интересов, поскольку устремления тех или иных групп вполне можно удоњлетворить за счет других. Зато, полагал он, между пролетариями возможна «этическая солидарность» — на основе общего идеала. Малатеста отрицал возможность того, что всеобщая стачка сама по себе заменит социальную революцию: прекращение работы может послужить началом революции, но не заменой восстания и экспроприации. Наконец, он призвал анархистов «пробудить» профсоюзы к анархистскому идеалу. В то же самое время он отверг идею особых, чисто революционных профсоюзов и высказался за единые, «абсолютно нейтральные» рабочие союзы [48]. Однако уже на Амстердамском конгрессе А. Дюнуа высказал идею, близкую к будущему анархо-синдикализму, — «рабочего анархизма», который должен заменить абстрактный и чисто литературный «чистый анархизм» [49]. В созданное на конгрессе бюро анархистского Интернационала вошли также синдикалисты (русский Александр Шапиро и англичанин Джон Тернер) и симпатизировавший синдикализму немецкий анархист Рудольф Роккер. Однако уже в конце 1911 г. бюро прекратило свою работу [50])
Несмотря на критику революционного синдикализма в анархистских кругах, новое течение оказало значительное воздействие и на анархистское рабочее движение в тех странах, где оно существовало со времени Первого Интернационала (в Испании), или там, где оно возникло позднее (например, в Латинской Америке).
В Испании атономные рабочие общества Барселоны, находившиеся под влиянием анархистов, в 1907 г. создали федерацию «Рабочая солидарность», провозгласив цель заменить капиталистический строй «рабочей организацией, превращенной в социальный строй труда». Деятельность федерации вскоре распространилась на всю Каталонию — наиболее развитую промышленную область страны. В 1909 г. она смогла провести в Барселоне всеобщую стачку протеста против колониальной войны в Марокко, жестоко подавленную войсками («трагическая неделя»). Аналогичные организации стали возникать и в других регионах. Импульсом для роста движения стал пример французской ВКТ. В октябре — ноябре 1910 г. на конгрессе в Барселоне было создано общеиспанское рабочее объединение — Национальная конфедерация труда (НКТ). Организационная структура НКТ строилась по образцу ВКТ, рабочие общества были преобразованы в профсоюзы («синдикаты»). Принятые резолюции и решения отражали попытку своеобразного синтеза между анархизмом и революционным синдикализмом. Наряду с положениями, близкими к синдикалистским позициям (такими, как необходимость борьбы за частичные улучшения, 8-часовой рабочий день, фиксированный минимум зарплаты, принятие методов прямого действия и всеобщей революционной стачки), постановления конгресса НКТ содержали формулы, которые гораздо более решительно отвергали политику и партии и продолжали традиции анархистского движения. Испанские анархосиндикалисты вновь взяли на вооружение девиз Первого Интернационала («Освобождение трудящихся — дело самих трудящихся»). Они заявили, что синдикализм — это не самоцель, а средство организовать революционную всеобщую стачку и достичь «полного освобождения трудящихся путем революционной экспроприации буржуазии», что необходимо распространять среди людей новые «ИДИ-СИЛЫ», формулы радикального социального обноњления (то есть анархизма). В 1911 г. НКТ насчитывала уже 30 тысяч членов. Она смогла организовать крупные стачки в Мадриде, Бильбао, Севшье, Хересе-де-ла-фронтера, Малаге, Таррасе, всеобщую забастовку в Сарагосе и, наконец, всеобщую революционную стачку против войны в Марокко (осень 191 г.), стачку 100 тысяч текстильщиков, всеобщую забастовку в Валенсии (март 1914 г.) и т.д. В 1911 г. НКТ была запрещена и оставалась в подполье до 1914 г. [51].
Активно работали в профсоюзном движении анархисты таких латиноамериканских стран, как Мексика, Куба, Бразилия [52]. Наибольшее развитие получил анархизм в рабочем движении Аргентины и Уругвая. В Аргентине в создании первых рабочих организаций принимали участие Малатеста и другие видные анархисты. В 1901 г. возникла общенациональная рабочая федерация (с 1904 г. — Аргентинская региональная рабочая федерация — ФОРА). Уже через год после создания из нее ушли социал-демократы, а в 1905 г. конгресс ФОРА рекомендовал всем своим членам пропагандировать среди рабочих «экономические и философские принципы анархистского коммунизма». Тем самым аргентинская организация трудящихся отвергла не только концепцию «самодостаточности» синдикализма, но и идею «нейтральных» профсоюзов (как французских революционных синдикалистов, так и Малатесты). ФОРА организовала ряд всеобщих забастовок и стачку квартиросъемщиков (1907 г.) [53]. «Надо сказать, что анархистское движение здесь — единственное во всем мире, — писал в 1907 г. один из корреспондентов европейских либертарных газет, — поскольку здесь почти все рабочие — анархисты [54]. Под влиянием ФОРА возникла и Уругвайская региональная рабочая федерация (ФОРУ).
Стремительнос распространение революционно-синдикалистского и анархистского рабочего движения по всему миру привело к установлению контактов между организациями и попыткам создания интернационального объединения радикальных профсоюзов. В августе 1907 г. во время анархистского конгресса в Амстердаме состоялась встреча синдикалистов из разных стран. По предложению Свободного объединения немецких профсоюзов было решено приступить к изданию «Международного бюллетеня синдикалистского движения» на четырех языках, чтобы способствовать развитию связей между синдикалистскими движениями. Бюллетень выпускался в Париже, его редактором был Корнелиссен. Издание финансировалось синдикалистами Нидерландов, Германии, Чехии, Швеции и Франции, периодическую поддержку ОКаЗЫВШ1И американские ИРМ [55].
Низовые активисты революционно-синдикалистских организаций Нидерландов, Германии и Франции неоднократно призывали французскую ВКТ созвать международный профсоюзный конгресс с участием нс только реформистских, но и революционных союзов. Некоторые французские синдикалисты высказывались за преимущсственное развитие связей с революционно-синдикалистскими организациями, однако руководство ВКТ воздерживалось от этого во имя сохранения единства движения. ВКТ вошла во всемирное объединение профсоюзов под эгидой социал-демократов и реформистов — «Международный секретариат национальных профцентров». Она бойкотировала организованные им конференции в 1905 и 1907 годах, поскольку немецкие профсоюзы воспрепятствовали включению в повестку дня предложений о всеобщей стачке и антимилитаризме, но с 1909 г. стала участвовать в последующих встречах, безуспешно добиваясь их превращения в полномочные конгрессы делегатов. Объединение РеВОЛЮЦИОННО-СИНдИКШIИСТсКИХ сил продоткалось теперь без ВКТ [56].
С новыми предложениями в этом духе выступили 6-й конгресс ИРМ ( 191 1 г.), синдикалистские профобъединения Италии, Германии и Нидерландов [57]. В конечном счете инициативу проведения международного форума взяла на себя британская Индустриальная лига синдикалистского образования. В конфсрснции должны были принять участие «революционные рабочие, организованные в независимые профсоюзы», отвергающис подчинение политическим партиям, «активисты», а не «функционеры». Подготовительный комитст созвал международный синдикалистский конгресс в Лондоне в сентябре — октябре 1913 г. [58].
Заседания проходили в Холборн-холле. Были представлены делегаты от Свободного объединения немецких профсоюзов, аргентинской ФОРА и синдикалистской «Аргентинской региональной рабочей конфедерации» (КОРА), Бразильской рабочей конфедерации, профсоюзные организации Бельгии, Кубы, Франции, Испании, Нидерландов, Британии, Итальянский синдикальный союз и ряд местных профорганизаций Италии, шведское профобъединение САК, представлявшее также синдикалистов Норвегии и Дании. В качестве наблюдателя присутствовал представитель ИРМ. Секретарем конгресса был избран Корнелиссен, переводчиком — русский анархо-синдикалист Александр Шапиро. Обсуждались вопросы интернационального сотрудничества, теории и тактики, антимилитаристской и антивоенной работы, рабочей эмиграции и т.д. В ходе заседаний проявились серьезные разногласия между теми, кто, подобно итальянскому делегату Альчесте Де Амбрису, пытался смягчить антигосударствсннические и антикапиталистические моменты предложенных резолюций и не допустить создания нового профсоюзного Интернационала во избежание «раскола рабочего класса», и сторонниками более последовательной революционной линии. В конечном счете конгресс принял декларацию принципов, в которой были закреплены основные положения революционного синдикализма: отвергались «капиталистическос рабство и государственное угнетение», провозглашались «классовая борьба» как неизбежное следствие частной собственности и солидарность. В документе содержались призывы к созданию независимых производственных союзов на базе свободной ассоциации, как для борьбы за повседневные нужды трудящихся, так и шля свержения капиталистической системы и государства. Утверждалось, что рабочие организации должны преодолеть разделение, вызванное «политическими и религиозными различиями». В декларации предусматривалось, что профсоюзы станут органами соЦИШIИЗаЦИИ собственности и управления средствами производства в интересах всего общества. В качестве методов признавалось прямое действие. Наконец, конгресс сделал решительный шаг к созданию нового синдикалистского Интернационала: он призвал к международной солидарности и учредил Международный синдикалистский информационный комитет для координации связи и сотрудничества, подготовки новых конгрессов и т.д. Функции комитета возлагались на нидерландский НСТ, хотя Де Амбрис выражи недовольство этим обстоятельством и предлагал разместить этот орган в Парижс (фактически под эгидой ВКТ). Комитет в составе Геррита ван Эркеля (председателя), Томаса Маркманна (секретаря), А.Й. Хоозе (казначея), .М.А. ван дер Хаге и Ф. Древеса официально приступил к работе с января 1914 г. [59].
Дальнейшему объединению рабочих анархистов и революционных синдикалистов помешала начавшаяся через несколько месяцев Первая мировая война. Она продемонстрировала всю противоречивость и непоследовательность революционно-синдикалистской альтернативы.
Революционные синдикалисты в период Первой мировой войны
Я не стану упрекать Конфедеральное бюро за то, что оно нс начало всеобщую стачку перед лицом мобилизации, нет! Мы были бессильны, и одни, и другие; волна прошла и унесла нас.
Пьер Монатт, французский революционный синдикалист [60].
Первая мировая война стала серьезным испытанием для интернационалистской и антимилитаристской позиции, провозглашснной синдикалистами. Одни из них (Александр Беркман, Антонио Бернардо, В. Гарсия, Шапиро, Билл Шатов) подписали вместе с Малатсстой и Эммой Голдмен манифест против войны, осудив сс как захватническую с обеих сторон. Они заявили о намерении «вызвать восстание и организовать революцию» [61]. Другие (как Корнслиссен) поддержали позицию Кропоткина, Жана Грава, Шарля Малато и ряда других видных анархистов, вставших на сторону Антанты, поскольку они сочли германский империализм «большим злом».
Упадок революционного синдикализма во Франции наметился еще персд войной. Прогресс индустриализации принес с собой временную стабилизацию уровня жизни и некоторый рост заработков, забастовки приобрели более умеренный характер, возросла тяга рабочих и профсоюзов к РEШЕНИЮ проблем посредством переговоров. Лидеры ВКТ (генеральный секретарь Леон Жуо, Монатг и другие) призывали в большей мере учитывать реалии индустриального развития. «После 1910 г. идеологические притязания революционных синдикалистов и реальное поведение рабочих в самой ВКТ стали все болс расходиться... Указующий в будущее амьснский компромисс ничего нс давал» [62]. Начало войны усугубило кризис французского ре- волюционного синдикализма. Конфедеральное бюро ВКТ не провозгласило всеобщую стачку против войны, как это планировалось, но призвало «защищать нацию». В годы войны представители ВКТ сотрудничали в различных смешанных комиссиях, созданных государством. В то же время в организации возникла антивоенная оппозиция во главе с Альфонсом Меррхеймом и Монатгом, группировавШаЯСЯ с 1915 г. вокруг газеты «Ви увриер» («Рабочая жизнь»). На следующий год левыс революционные синдикалисты образовали «Комитет синдикалистской защиты», который, несмотря на резко антивоенн•ию позицию, ссылаясь на «Амьенскую хартию», добивался большей независимости от левых социалистов — противников войны [63]. В 1917 г. комитет поддерживал стачечное движение рабочих, выступавших против ухудшения условий их жизни и против интенсификации труда.
В Италии вопрос об отношении к войне вызвал раскол в УСИ. Группа во главе с генеральным секретарем А. Де Амбрисом выступила за участие в войне в расчете на то, что это способствует «рестраны (позиция, получившая название «революционного интервентизма»). Однако большинство членов и организаций УСИ не поддержало их. Новым генеральным секретарем был избран Армандо Борги. В 1915 г. профобъединение подтвердило идею всеобщей стачки против войны, хотя не имело практической возможности се осуществить. Сторонники «интсрвентизма» были исключены из рядов союза [64] .
Активную борьбу против вступления в войну развернули амсриканские синдикалисты из ИРМ, что вызвало бешеную травлю и преследования со стороны властей и националистов. В 1915 г. был казнен видный активист ИРМ, певец Джо Хилл, в 1916 г. в атмосфере националистической истерии полиция застрелила 5 членов профсоюза, в 1917 г. 1200 членов ИРМ были депортированы в пустыню Нью-Мексико в связи со стачкой шахтеров Аризоны. Тем нс менес ИРМ удавалось успешно помогать крупным забастовкам в Хитлснде (Калифорния, 1915 г.), Мссаби-рэндж (Миннесота, 1916 г.). Весной 1917 г. организованные ИРМ рабочие волнения и саботаж нанесли значительный ущерб отраслям, жизненно важным для ведения войны, — деревообрабатывающей и медной промышленности. Между 1916 и 1917 годами число членов ИРМ возросло с 40 до 75 тысяч, а к концу лета 1917 г. составляло, по разным данным, от 125 до 250 тысяч [65].
В Германии синдикалистское движение вскоре после начала войны было практически парализовано, СОНП и сго пресса запрещены. В Великобритании также не отмечалась какая-либо активная работа.
(Чем дольше продолжалась война, тем хуже становилась жизнь трудящихся. Во многих странах вспыхивали забастовки, голодные бунты. Активное участие в них принимали анархисты и синдикалисты. Во Франции в мас 1918 г. конгресс революционных синдикалистов объявил всеобщую революционную стачку против войны. В выступлении особенно активную роль сыграли металлисты Луары и Парижского региона, военной промышленности был нанесен существенный ущерб. Движение было подавлено, активисты отправлены на фронт, лидер «Комитета синдикалистской защиты» Рэймон Перика осужден за государственную измену [бб])
В Испании (нейтральной, но экономически втянутой в войну) в 1916 г. рабочие повсеместно протестовали против удорожания жизни; страна была парализована. НКТ подписала с социалистическим Всеобщим союзом трудящихся пакт о «революционном альянсе». В мас — июне 1917 г. Испания стояла на пороге РСВОЛЮЦИИ. В августе вспыхнула всеобщая стачка, принявшая невиданные до тех пор масштабы и сопровождавшаяся вооруженной борьбой. После многодневной борьбы выступление было подавлсно [67].
В Португалии протесты против роста цен и безработицы постоянно выливались в акты сопротивления, зачастую стихийныс. В сентябрс 1914 г. ВСПЫХНУЛИ волнения в Лиссабонс, появились первые убитые. Весной 1915 г. безработные захватили и разрушили министерство продовольствия. Бунты и разгромы сменялись стачками, организованными профсоюзами. К 1917 г. революционные синдикалисты добились полного преобладания в Национальном рабочем союзе, оттсснив социалистов.
Оправившись после первого шока, анархисты и революционныс синдикалисты попытались восстановить регулярные международные контакты. В 1915 г. в испанском регионе Галисия был организован интернациональный антимилитаристский конгресс. Он собрал не только многих видных испанских рабочих анархистов (Анхель Пестанья, М. Андреу, Ф. Миранда, Л. Боуса, Эусебио Карбо и др.), но и делегатов из Португалии (А. Кинтанилья, М. Ж. ди Соуза), Франции, Англии, Италии, Бразилии, Аргентины и Кубы. На встрече обсуждался вопрос о международной всеобщей стачке. Встреча сыграла также важную роль в восстаноњлении испанской НКТ, слабленной репрессиями [68]. В декабре 1916 г. НСТ нейтральной Голландии призвал рабочие союзы всех стран собраться на всемирный конгресс революционного синдикализма, но идея так и не была осуществлена до конца войны [69].
Неспособность рабочих организаций предотвратить мировую войну, бессилие «нейтрального» синдикализма и рост революционных настроений среди трудящихся масс делали все более настоятельным перемены в самом синдикалистском движении. «Великая война смела хартию нейтрального синдикализма», — отмечал позднее Шапиро [70]. Многим активистам становилось ясно, что одного только синдикализма недостаточно, что необходимо соединить самоорганизованное рабочее движение и прямое действие с четкими революционными идеями.

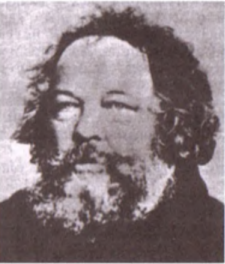


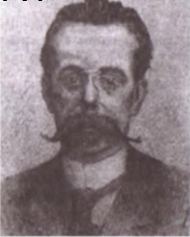
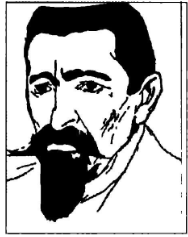
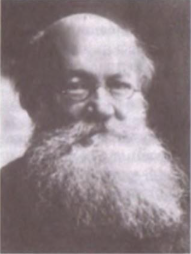
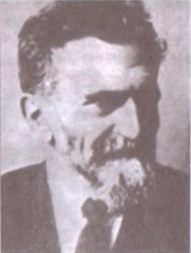
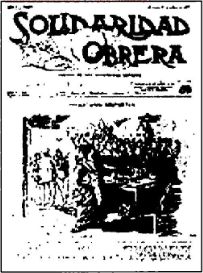
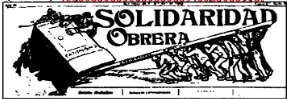
Нет комментариев