Глава 8. АНАРХИЗМ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В 1923—1930 ГОДАХ
Мы верим, что революция в Японии будет делом коллективного действия, основанного на движении трудящихся... Мы с нетерпением ждем революции, которая будет сознательно совершена всем народом. Путь, ведущий к уничтожению эксплуатации и угнетения, к свободе, равенству и процветанию, — это путь субъективного осуществления в ходе революции союза трудящихся, их вольной федерации. Если осуществится подобная федерация рабочих союзов, поселений и предприятий — значит, осуществится и революция.
Японская анархистская газета «Кокусёку сэйнен», 1926 г. [1].
Анархистские группы существовали в самых различных странах Азии. Однако лишь в восточноазиатских странах они смогли наложить существенный отпечаток на рабочее движение в период до Второй мировой войны. В Японии пути анархистов и марксистских социалистов разошлись еще до 1914 г., а в 1920-х гг. японские либертарии выступили с радикальными и оригинальными теориями, бросившими вызов не только авторитарным социалистическим воззрениям, но и самой индустриально-капиталистической цивилизации. Им удавалось с большим или меньшим успехом отстаивать идейную и социальную самостоятельность своего движения до тех пор, пока оно не пало жертвой жестоких преследований со стороны государственной власти. В Китае после первых успехов анархисты, напротив, вскоре утратили общественную независимость и оказались размолоты между жерновами преобладавших политических сил — гоминьдана, с одной стороны, и коммунистов, с другой. В иных восточноазиатских странах положение оказалось еще более неблагоприятным для либертариев [2].
Анархизм и синдикализм в Японии 1920-х годов
Провал конференции японских профсоюзов в 1922 г. привел к известной перегруппировке сил в рабочем движении. Особенно пострадала близкая к анархо-синдикалистам Лига рабочих союзов. Ее организация в Осаке самораспустилась, и от нее уцелел лишь союз металлистов с 500 членами. Из Токийской лиги рабочих союзов вышли союзы кораблестроителей, часовщиков и трамвайщиков. Однако сильно сократились и ряды профсоюзов федерации «Содомэй», которая все больше оказывалась под влиянием компартии. К середине 1923 г., по данным, которые были приведены в отчете японских коммунистов в Профинтерн, в районе Канто (Токио и окрестностей) действовали девять профсоюзов «Содомэй» с 3 тысячами членов, Федерация механиков из шести союзов с 1,5 тысячами членов, Лига рабочих союзов (два профсоюза печатников с 400 членами) и семь независимых союзов с 3 тысячами членов. В районе Кансаи (в Осака и окрестностей) существовали 10 профсоюзов «Содомэй» с 6 тысячами членов, союз рабочих арсенала «Кодзё кай» с 6 тысячами членов (в начале 1923 г. раскололся надвое) и союз металлистов с 500 членами). В начале года прекратилось издание анархистской рабочей газеты «Родо ундо».
Тем не менсе организационные перестановки нс привели к общему изменению в расстановке сил. Анархистские взгляды попрежнему пользовались широкой популярностью среди рабочих. Весной 1923 г. японский синдикалист Э. К. Нобусима сообщал в письме в МАТ, что анархисты обладают влиянием в токийских профсоюзах и издают ежемесячную газету «Кумиай ундо» («Профсоюзное движение») [3]. Либертарии называли другую численность симпатизировавших им рабочих организаций. По их утверждению, близки к анархо-синдикалистскому Интернационалу были федерация рабочих-металлистов Токио (3,5 тысячи рабочих), профсоюз рабочих Сибауры (2,5 тысячи членов) и федерация печатников («Нихон инсацуко рэнго кай», 1200 членов), объединившая обе организации токийских печатников. Секретариат МАТ в докладе II конгрессу Интернационала сообщал, что эти союзы намеревались вступить в МАТ [4].
В Токио и Осаке на собрания, организуемые синдикалистами, приходили тысячи рабочих, голосовавших за резолюции с осуждением коммунистов и «желтых» профсоюзов. Анархосиндикалисты сыграли активную роль в поддержке ряда значительных забастовочных выступлений. Так, в мае—июнс 1923
г. они организовали помощь стачке работников вагонной фабрики Хираока в Токио, состоявших в федерации металлистов. В ходе борьбы были выдвинуты требования роспуска местного «желтого» профсоюза и увольнения двух мастеров — членов этого союза. В попытке подавить стачку администрация уволила 1 7 рабочих. Синдикалисты обвиняли коммунистов и связанную с ними верхушку профцентра в сотрудничестве с предпринимателями и полицией ради подавления забастовки [5].
Японские анархисты и анархо-синдикалисты поддерживали активные связи с товарищами и единомышленниками за рубежом. В 1922 г. их представитель Осуги Сакаэ направился в Европу для участия в Международном анархистском конгрессе в Берлине. Весной 1923 г. он находился во Франции и 1 мая должен был выступать на рабочем собрании в парижском пригороде Сен-Дени. Он был выслан французским правительством и вернулся в Японию летом 1923 г. [6].
После «великого землетрясения», от которого пострадал район Канто в сентябре 1923 г., полиция воспользовалась волнениями, порожденными катастрофой (142 тысячи человек погибли или пропали без вести), чтобы нанести удар по революционным активистам, особенно анархистам. 15 радикальных активистов профсоюзного движения были арестованы, а затем убиты жандармами 4 сентября. Через несколько дней Осуги Сакаэ, которого Секретариат МАТ называл «нашим самым талантливым представителем в Японии» [7], его подруга Ито Ноэ и ее 6-летний племянник Татибана Саити были арестованы и 16 сентября убиты теми же жандармами. Погибли 35-летний Хирасава (бывший секретарь Японской федерации рабочих-металлистов, исключенный за симпатии к анархо-синдикализму) и более 20 других анархистов. Сразу после землетрясения были арестованы 16 членов японо-корейской анархистской группы «Футэй-ся»; двое из них (Пак Ель и Фумико Канэко) были в марте 1926 г. приговорены к смерти по ложному обвинению в намерении убить императора. Позднее приговор был заменен на пожизненное заключение [8].
На террор и репрессии японские анархисты пытались ответить покушениями. 27 декабря 1923 г. анархист Нанба Даисукэ попытался убить принца-регента, чтобы отомстить за Котоку Сюсуя, Осуги Сакаэ и Ито Ноэ, но промахнулся. Он был арестован, осужден на смерть и казнен. 1 сентября 1924 г. в знак мссти за Осуги Сакаэ член анархистской рабочей организации «Родо ундо-ся» Вада Хисатаро стрелял в генерала Фукуду Масатаро, но был арестован. Около дома генерала было взорвано несколько бомб, изготовленных Мураки и Фурутой. После этого ряд членов организации был арестован. В 1925 г. Вада и трое его товарищей были осуждены за покушение и подготовку «массового террора»: Вада был приговорен к пожизненному заключению (в 1925 г. написал «Перед лицом смертной казни», покончил с собой в тюрьме 20 февраля 1928 г.), Фурута Даидзиро — к смертной казни, Рурата — к 12, а Тютани — к 5 годам тюремного заключения. Другая группа «Общество гильотины» (основано в 1922 г.), также участвовавшая в этом деле, а также в нападениях на банки, тоже была разбита. Ее члены во главе с Фурутой убили банковского клерка. Полиция схватила сначала восемь активистов группы, а затем и Фуруту, который был осужден и казнен вместе с Вадой. В 1924 г. другой член группы Накахама Тэцу и его товарищи организовали нападение на президента компании «Канэбо», но их удалось арестовать. Накахаму приговорили к смертной казни; девять других активистов были приговорены к длительному тюремному заключению [9].
Однако анархистское движение быстро оправилось. Продолжали действовать анархистские рабочие союзы, которые оказывали ожесточенное сопротивление попыткам Амстердамского Интернационала расширить свое влияние на японские профсоюзы (в частности, через посредство привлечения «Содомэй» и других организаций к работе международной конференции Лиги Наций по труду в Женеве). В письме, направленном 10 февраля 1924 г. лидерам Международной федерации профсоюзов Л. Жуо, С. Мертенсу и Ж. Удегесту в ответ на их послание в ноябре 1923 г., Федерация рабочих союзов механиков Токио, Рабочий союз электрических и механических заводов Сибаура и Федерация печатников заявили, что считают бессмысленным свое участие в конференциях «вместе с вождями желтых рабочих лиг, с крупными капиталистами и политиками — социалистами и капиталистами». Они отказывались «вырабатывать на этих заседаниях недостойные резолюции, бессильные заявления, чтобы выразить таким образом чаяния и стремления трудящихся в тех границах, которые не затрагивают привилегий капиталистов и правителей». Назвав вождей Амстердамского Интернационала «изменниками рабочего класса», штрейкбрехерами и защитниками капиталистической системы и государства, японские рабочие оргаНИЗаЦИИ, заявлявшие, что они представляют «девять десятых организованных трудящихся Токио и часть организованных рабочих Киото и Осака», подтвердили свою анархистскую ориентацию: «...Мы стремимся низложить капиталистический индустриальный строй и построить общество без государства, — говорилось в письме. — Таким образом, в этом отношении мы весьма далеки от тех целей, которые преследуют международная конференция труда и ваш Амстердамский Интернационал».
В послании утверждалось, что японские анархистские рабочие союзы пока «не примыкают ни к одному из трех существующих Интернационалов, ни к Амстердамскому, ни к Берлинскому, ни к Московскому» и будут поддерживать международные связи лишь с таким Интернационалом, «который явится коренным выразителем революционного духа рабочего класса, будет стоять совершенно в стороне от всех политических партий, даже от партии коммунистической, и будет основан на принципе: ”Освобождение трудящихся есть дело самих трудящихся"» [10].
1 мая 1924 г. в Токио собралась 20-тысячная рабочая демонстрация: две трети ее участников шли под черными, а одна треть — под красными знаменами. Демонстранты требовали 8-часового рабочего дня и пели революционные песни. Полиция запретила пение и попыталась арестовать некоторых манифестантов, но рабочие отбили их и продолжили шествие [10].
В авкусте того же года анархо-синдикалисты организовали стачку в токийской типографии с требованиями повышения зарплаты и улучшения условий труда. На предприятие была введена полиция. На второй день забастовки 60 бастовавших рабочих и множество их сторонников собрались на демонстрацию к типографии и подняли черное знамя анархо-синдикалистской федерации печатников («Инсацуко рэнго кай»). В ходе столкновения массы демонстрантов с вооруженной полицией были арестованы и избиты 10 человек, в том числе работавший в типографии Нобусима. Рабочие избрали новое руководство стачкой и продолжили забастовку [11].
В 1924 г. японские анархисты и анархо-синдикалисты перешли к объединению находившихся под их влиянием профсоюзов. Этому предшествовало некоторое изменение в расстановке сил в рабочем движении. Так, союз кораблестроителей Токио, объединивший работников верфи Исикавадзима, после землетрясения стал все больше отходить от анархо-синдикализма, а затем перешел под контроль коммунистов и вступил в «СодомэйЫ [11]. Токийская федерация механиков, объединявшая в 1925 г. пять профсоюзов рабочих-мсталлистов численностью 2820 человек (позднее к ней примкнули 500 рабочих предприятий по пошиву одежды), постепенно эволюционировала от анархо-синдикалистских к общедемократическим настроениям [12]. В свою очередь, анархисты привлекли к себе новые союзы и категории рабочих [13].
21 сентября 1924 г. в Токио был проведен учредительный конгресс «Федерации рабочих союзов региона Канто» («Канто родо кумиай рэнго кай»). В нее вошли пять профсоюзов: электромеханики с фабрики «Сибаура», уволенные после землетрясения 1923 г., рабочие, вышедшие в марте 1924 г. из профсоюза механиков, рабочие автомобильной промышленности, кондитеры Токио и организация «Кинсэй». Федерация приняла декларацию в анархистском духе. В ней указывалось, что, пока существует власть непроизводящего класса и руководство реформистских политиков, классовые противоречия будут сохраняться, и потому основой деятельности федерации является массовая борьба. Декларация отвергала участие в парламентских выборах, создание политических партий и борьбу за завоевание политической власти, так как эта тактика, по мнению японских рабочих, привела бы только к сохранению власти нетрудового масса: «Поэтому мы не присоединяемся к парламентскому движению, которое никогда не сможет освободить рабочий класс от рабства». В документе провозглашались принципы интернационализма и антимилитаризма: «Индустриальное общество не делится границами между странами. Границами разделены государства, и они служат причиной милитаризма», — заявляли японские анархо-синдикалисты.
Федерация союзов Канто выступила за союз с работниками сельского хозяйства и в духе анархо-коммунизма подчеркивала, что проблема деревни может быть разрешена только социальной революцией и разрушением централистской индустриальной системы: «Города различным образом эксплуатируют деревни. Это происходит не только в нынешнем капиталистическом обществе. В том или ином несправедливом виде это положение сохранится и при централистском коллективистском городе. Мы — противники парламентского движения и самой политики. Мы не возлагаем никакой надежды на систему централизма, но стремимся к полному освобождению рабочего класса. Поэтому мы должны вместе с сельскохозяйственными работниками бороться с гегемонией городов. Освобождение рабочего масса — не дело только городских рабочих; необходимо установить связь с объединениями работников сельского хозяйства [15].
2 ноября 1924 г. был создан объединенный союз печатников Токио. Он возник в результате слияния обоих союзов печатников — «Синьюкай» и «Сэйсинкай». Обе организации входили во Всеяпонскую федерацию печатников и накопили значительный опыт рабочей борьбы. Федерация печатников Токио насчитывала семь профессиональных групп; в ней было сильно влияние анархистов. К осени 1925 г. на либертарных позициях стояли: Федерация профсоюзов печатников Токио (3 тысячи членов), профсоюзная организация предприятий Сибаура (2 тысячи членов), Федерация рабочих союзов региона Канто (700 членов), Свободная рабочая федерация (1 тысяча членов), профсоюз корейских рабочих Токио и др. [16]. Либертарии разворачивали работу и среди крестьян. В 1925 г. Като Кадзуо, Наканиси Иносукэ и другие анархисты приняли участие в организации Автономного общества крестьян («Номин дзити Кай»). Японские анархо-синдикалисты намеревались принять участие во II конгрессе МАТ в 1925 г., но их делегат Нобусима был, как уже говорилось выше, арестован в связи с забастовкои [17].
Анархо-синдикалистская тактика прямого действия все больше распространялась среди японских трудящихся. Так, 2—4 ноября 1924 г. водители трамваев Токио (профсоюз «Дзитсикай») практиковали замедление скорости движения трамваев (так называемые «дни безопасности»), чтобы заставить администрацию удовлетворить свои требования [18].
Анархисты и их сторонники в рабочем движении (механики, печатники и др.) приняли участие в движении протеста против закона «об охране общественного порядка» в начале l925 г. Он преследовал цель подавить радикальные движения в стране и предусматривал запрет организаций и движений, которые преследовали цель изменения политики государства и отвергали частную собственность. В выступлениях протеста участвовали также приверженцы коммунистов из «Содомэй» и ряд других профсоюзов [19] Была даже вновь предпринята попытка наладить взаимодействие между левыми союзами. Так, 16 января 1925 г. представители 12 организаций с более чем 30 тысячами членов договорились об образовании Совета рабочих союзов региона Канто («Канто родо кумиай кайги»). В него вошли как профсоюзы, входившие в «Содомэй» и находившиеся под влиянием коммунистов и их союзников, так и анархистские союзы печатников и федерация союзов Канто, рабочие предприятий Сибаура, федерация механиков и независимые профсоюзы. Участники «Совета» выражали намерение разработать линию совместных действий «в рамках соблюдения автономии входящих в него союзов», договорились о взносах, сформировали Центральный комитет и Исполком. Они единодушно постановили вести борьбу против закона «об охране порядка», организуя уличные демонстрации, распространяя памфлеты и листовки и даже оказывая давление на членов парламента [20]. Однако в апреле 1925 г. закон был утвержден парламентом.
В 1925 г. в «Содомэй» произошел раскол. Прокоммунистические профсоюзы были исключены из федерации и образовали новый профцентр — Совет профсоюзов Японии («Хиогикай»). После этого соотношение сил в профсоюзном движении выглядело следующим образом. Всего в японских рабочих союзах и объединениях насчитывалось около 200 тысяч трудящихся. Из них в 48 профсоюзах «Содомэй» состояли 14,1 тысячи, в 31 профсоюзе «Хиогикай» — 14,3 тысячи. Тысячи рабочих шли за анархо-синдикалистами. Более 37 тысяч человек состояли в отдельных отраслевых федерациях и профсоюзах, в которых преобладала общедемократическая ориентация (включая федерацию механиков с 2,8 тыс. членов). Наконец, организации, ориентированные в значительной мере на сотрудничество между трудом и капиталом, объединяли не менее 52 тысяч членов, из которых почти 42 тысячи приходились на федерацию моряков [21].
Японские анархисты вели упорную борьбу с попытками коммунистов установить контроль над рабочим движением. Так, в декабре 1925 г. они ворвались в зал в Токио, в котором проходил учредительный съезд Рабоче-крестьянской партии, и разбросали листовки. В них говорилось: «Мы никогда не потерпим никакого политического партийного движения пролетариата, но намерены полностью разрушить его». Произошли физические столкновения [22]. Демонстрация анархистов против образования партии привела в конечном счете к созданию «Лиги черной молодежи», о присоединении к которой объявили 17 анархистских групп в районе Канто и их сторонники из рабочих союзов. Печатный орган лиги «Кокусёку сэйнэн» («Черная молодежь») был с самого начала запрещен. Нс менее жестко анархисты боролись и с реформизмом [2З].
В январе 1926 г. анархистские организации Японии официально объединились в «Лигу черной молодежи» («Кокусёку сэйнэн рэнмей», «Кокурэн»). На ее учредительный конгресс в Токио прибыли 700 человек от 24 групп, включая семь профсоюзов (прежде всего печатников). Бастионы «Кокурэн» располагались в Канто, но она распространялась на всю страну, даже на Тайвань и Корею. Название «молодежь» нс должно вводить в заблуждение: его можно понимать как «новое начало» или «новая группа, переживающая становление». Фактически организация объединяла большую часть анархистов той эпохи.
Учредительный конгресс «Кокурэн» утвердил шесть лозунгов: Освобождение трудящихся будет делом самих трудящихся; Мы требуем либертарного федерализма; Разрушим любое политическое движение; разоблачим любую пролетарскую политическую партию; Искореним любой профсоюзный корпоративизм; Добьемся отмены закона об охране общественного порядка [24].
Вскоре после создания федерации 31 января 1926 г. в токийском районе Сиба состоялось первое пропагандистское собрание. Полиция окружила помещение и запретила почти все выступления. После собрания состоялась анархистская демонстрация по центральной улице Пандза: манифестанты пели революционные песни и несли черные флаги. В более чем 20 магазинах были выбиты стекла. В результате 40 анархистов были арестованы [25].
В том же 1926 г. оформились и региональные анархистские федерации: Федерация черного флага Кансай («Кансай курохата рэнмэй») и Лига черной молодежи Центральной Японии («Тюбу кокусёку сэйнэн рэнмэй»).
Анархисты из «Кокурэн» активно участвовали в профсоюзной борьбе и сыграли видную роль в ходе многих стачек (на трамваях «Кэйсэй» в марте 1926 г., на фирме «Хитачи камэари дэнки», где бастовали 600 человек в сентябре — октябре 1926 г., на фабрике музыкальных инструментов «Хамамацу» в апреле—августе 1925 г., где в течение 105 дней бастовало более 1200 человек, на фирме «Нихон гакки» в 1926 г. и др.).
К весне 1927 г. в «Кокурэн» входили 48 организаций. Лига издавала ежемесячную газету «Черная молодежь», журналы и газеты «Черный циклон», «Освобожденный фронт», «Черный список», «Народная газета», «Черная буря», «Кокусёку сэнсэн» («Черный фронт», апрель 1926 — февраль 1931 г.), «Курохата» («Черное знамя», с января 1930 г.). Члены оргаНИиЦИИ занимались активной пропагандой идей анархизма и социальной революции срес. ди рабочих и крестьян. Эмблемой лиги было черное знамя, избранное для Toro, чтобы отличить анархистов от большевиков, «символ восстания, разрушения и созидания» [26].
Создание лиги придало стимул и организации японского анархистского рабочего движения. В мае 1926 г. при ее участии была образована Всеяпонская либертарная федерация профсоюзов («Дзэнкоку родо кумиай дзию рэнгокай», или «Дзэнкоку дзирэн»). На ее учредительном конгрессе в Токио 400 делегатов представляли 25 профсоюзов со всей страны с общим числом 8400 членов. В 1927 г. оно достигло 15 тысяч [27]. Это была одна из самых активных, хотя и небольшая часть рабочего движения [28].
В «Дзэнкоку дзирэн» вошли: Свободная федерации рабочих профсоюзов Канто (времсннные работники, печатники Токио, Иокогама, Дзёмо, газетные рабочие Токио и Сидзуоки, механики, текстильщики, арендаторы Сайтамы, местный союз Сидзуоки), Свободная федерация рабочих профсоюзов Кансая (временные работники, печатники Киото и Осаки, механики), Свободная феДеРаЦИЯ рабочих профсоюзов Тюгоку (Окаяма) (механики, текстильщики, рабочис каучуковой промышленности), Свободная федерация рабочих профсоюзов Хиросимы (временные работники Хиросимы, Куре, рабочие каучуковой промышленности, печатНики), а также печатники Хоккайдо (в Хакаодате и Саппоро). Крупнейшей организацией в федерации был токийский союз печатников с пятью тысячами членов.
После своего создания «Дзэнкоку дзирэн» стала быстро расти и включила в себя новые профсоюзы (по меньшей мере, 14) в новых секторах (корейских временных рабочих, токийских газовиков, работников фирмы «Хитачи», пищевиков Токио, рыбаков Ваидзуми и т.д.) и в новых регионах (Иокогаме, Сэнсю, Кобё, Асахикаве и др.) [29]. К весне 1927 г. в нес входили четыре профсоюзные федерации и 28 отдельных профсоюзов. «Дзэнкоку дзирэн» издавала ежемесячную газету «Либертарная федерация» («Дзию рэнго») на 12 страницах. Крупнейшим отрядом трудящихся, находившимся под влиянием анархистов, были печатники; их федерация также издавала ежемесячную газету. Продолжала действовать и старейшая анархистская рабочая организация — «Рабочее движение» («Родо ундо ся»), возобновившая в 1927 г. выпуск ежемесячного 8-страничного журнала «Родо ундо» под руководством Ивасы и Кондо. Она издала 10 томов произведений Осуги тиражом в 2 тыс. экземпляров [30].
Хартия, утвержденная конгрессом «Дзэнкоку дзирэн» в 1926 г., гласила:
«Мы считаем борьбу классов основой движения за освобождение рабочих и арендаторов.
* Мы отвергаем любое политическое движение и настаивасм исключительно на экономическом действии.
* Мы одобряем либертарный федерализм, организованный по отраслям, и отвергаем централизованный авторитаризм.
* Мы выступаем против империалистической агрессии и призываем к международной солидарности рабочего класса» [31].
Анархисты стремились способствовать организации не только городских рабочих, но и крестьянства. В 1927 г. по инициативе «Лиги черной молодежи» была образована Ассоциация движения за сельскохозяйственные поселения с печатным органом «Косакунин» («Крестьянин-арендатор»). Автономное общество крестьян («Номин дзити кай») сформировало общенациональную конфедерацик), объединившую 243 отделения по всей стране с 6,3 тысячами членов. В марте 1927 г. была образована Федерация крестьянского движения («Носон ундо рэнмэн»). Издавалась газета «Крестьянин». Чтобы пропагандировать новый образ жизни, Исикава Сансиро основал в 1927 г. «Общество совместного обучения» («Кё гаку ся»). Он предлагал интеллигенции на своем примере «работать в поле в хорошую погоду и читать дома в плохую» [32]. Все три федерации — «Кокурэн», «Дзэнкоку дзирэн» и крестьянская — работали в тесном и гармоничном контакте;
Экономический подъем 1925—1926 годов не привел к улучшению материального положения наемных тружеников. В 1926 г. произошло 728 трудовых конфликтов, в 1926 г. — 1 159 конфликтов с участием 125 894 человек, в 1927 г. — 1012 конфликтов с участием 80 489 человек. Столкновения между бастующими и полицией стали обычным явлением [34]. На этом фоне на 1926—1927 годы приходится рост активности «Дзэнкоку дзирэн». Были организованы стачка на заводе «Хитачи» в Камэйдо (сентябрь—октябрь 1926 г.), забастовка печатников и др. [35]. 1 июля 1926 г. около трех тысяч рабочих приняли участие в митинге памяти Бакунина. Полиция мешала ораторам говорить, но как только она арестовывала одного выступавшего, на смену ему выходил следующий. Всего выступало до 60 человек. Акции анархистов нередко сопровождались насильственными столкновениями с коммунистами [36].
Активисты движения разъезжали по стране, организуя повсюду собрания рабочих и крестьян, пропагандируя социальную революцию и бесклассовое общество. Часто происходили стычки с полицией. Стачки нередко сопровождались насилием, актами саботажа. Власти отвечали на активизацию анархистского движения репрессиями . Так, на Хоккайдо несколько человек были обвинены в «оскорблении величества» [37].
Анархисты Японии занимались активной издательской деятельность [38]. Весной 1927 г. сообщалось об издании произведений Исикавы («Рассказ о рабочей организации», «Рассказ о синдикализме», «Экономическое и политическое движения»), Кропоткина («К молодежи», «Научные основы анархизма», «Анархизм», «Этика»), Бакунина («Бог и государство»), Герцена («Былое и думы»), Осуги («Поражение русской революции»), Симонаки («Размышления о революции», «Философия труда»), Ивасы («Так отвечают анархисты»), а также «Мнение противников политической партии», «Рабочее движение и движение народных масс», «Воззвание к железнодорожникам», «История анархистского движения в России» и нелегальные «Евангелие часа», «Закон, авторитет и государство», т.д.-38 В 1927 г. Иваса, Исикава, Ямага и другие выступали с серией лекций в Национальном университете рабочего движения Кован.
Японские анархисты из «Лиги черной молодежи» и «Дзэнкоку дзирэн» участвовали в 1927 г. в выступлениях международной солидарности, организовали кампании против итальянского фашизма, в защиту Сакко и Ванцетти, выступали против отправки японской армии в Китай и т.д. [39]. 20 апреля 1927 г. в Токио состоялся 4-й съезд Федерации печатников Токио; делегаты приняли решение о бойкоте итальянских товаров и резолюцию о необходимости создания «Совета анархо-синдикалистских профсоюзов Дальнего Востока» [4О].
С 1927 г. в японском анархистском движении стал назревать раскол между анархо-коммунистами и синдикалистами. «Кокурэн» резко осудила посылку «Дзэнкоку дзирэн» в мае 1927 г. делегации на организованный Профинтерном конгресс профсоюзов Тихоокеанского региона, который прошел в Ханькоу (Китай)“. «Это больше, чем мы в состоянии вытерпеть, — объясняли члены ”Кокурэн" в отчете III конгрессу МАТ. — Мы, приверженцы ”Лиги черной молодежи”, вместе с другими товарищами заявили, что у нас нет ничего общего с ”Красным Интернационалом профсоюзов“ и что ”Свободная федерация профсоюзов Японии“ [Дзэнкоку дзирэн] отвергает конгресс в Ханькоу. Даже в ”Лиге черной молодежи нашлись некоторые, хотя и немногочисленные товарищи, которые предпочитали поддержать этот конгресс, хотя красная мистификация уже была раскрыта» [42].
Синдикалисты из группы «Черное знамя», ушедшие из «Кокурэн», создали собственную газету «Хан сэйто ундо» («Беспартийное движение»). Острую полемику вызвало издание в июле 1927 г. брошюры Ивасы Сакутаро «Так отвечают анархисты», поскольку в ней отрицалась теория массовой борьбы, что было посягательством на святыни. Анархо-синдикалист Катамити возразил ему в резких тонах в «дзию рэнго» от 5 августа 1927 г. В свою очередь, Мидзунума Тацуо ответил на это в следующем номере от 5 сентября 1927 г. Он объяснил, что не нападает на классовую борьбу, но отвергает ее превращение в теорию, объясняющую и сводящую к ней все социальные явления в упрощенном взгляде на антагонизм между капиталом и трудом. Он поставил вопрос об арендаторстве в деревне и подверг критике чересчур узкое представление о пролетариате как исиючительно индустриальном и составляющем не более 1070 трудящихся:
«Борьба классов, на которую опирается либертарный федерализм, настаивает не только на передаче собственности на средства производства от капиталистов трудящимся, как утверждает товарищ Катамити. Она должна быть изначальным средством для того, чтобы идти дальше и осуществить действительно свободное и эгалитарное общество без классов, в котором будет ликвидирована всякая социальная эксплуатация» [43].
Объясняя свое видение причин раскола, секретари «Кокурэн» и крестьянской федерации писали в отчете III конгрессу МАТ: «...В Свободной федерации профсоюзов Японии [Дзэнкоку дзирэн| состояло все больше членов (и одновременно всех возможных направлений). К тому же часть членов «Свободной федерации профсоюзов» и «Союза черной молодежи» [Кокурэн] считала развитие синдикализма наиболее действенным и правильным средством осуществления анархизма. Они думали, что самое необходимое — это большое число членов профсоюзов; они переоценивали так называемую «повседневную классовую борьбу», некоторые из них внедрили даже большевистскую теорию и тактику и в конечном счете стали заметно реформистскими и оппортунистическими... Иными словами, начались дискуссии на тему, признать ли нам в качестве реально выдвинутой цели синдикализм или анархизм (анархо-коммунизм, но ни в коeм случае не анархо-синдикализм)». Анархокоммунисты обвинили своих противников в том, что они — «псевдо-анархисты», которые исходят из марксистских теорий классовой борьбы, концентрации капитала и историко-диалектичсского материализма, считают такие взгляды «истинным анархизмом», а их, анархо-коммунистов, — «утопистами». «Веря в наш анархо-коммунизм, мы без колебания исключили этих псевдо-анархистов из наших рядов», — писали члены «Кокурэн» [44].
На съезде «Дзэнкоку дзирэн» в ноябре 1927 г. в Токио почти все время заняло обсуждение коммунистического проникновения в профсоюзы Осаки. В то же самое время напряженность между анархистами и синдикалистами росла.
19 февраля 1928 г. Союз печатников Токио на 5-м съезде внес изменения в статуты, порвав с «Амьенской хартией» и синдикализмом. На съезде «Дзэнкоку дзирэн» в марте 1928 г. в Токио печатники потребовали заменить пункт 4-й хартии следующей формулировкой: «Мы принимаем либертарный федерализм как основу движения за освобождение рабочих и крестьян». Профсоюз временных рабочих Токио выступил против. Он предложил текст, которыЙ настаивал на отказе от централизма и поддержке либертарного федерализма, но сохранял принцип классовой борьбы: «Мы принимаем классовую борьбу как основу движения за освобождение рабочих и крестьян» [45].
После долгих часов горячих дебатов, полных волнений, оскорблений и грубых шуток, дело завершилось расколом. Синдикалистская тенденция ушла из «Дзэнкоку дзирэн». В апреле 1929 г. на две тенденции раскололся и профсоюз печатников Токио» [46].
Весной 1928 г. японские анархисты сообщали в МАТ о том, что готовится издание произведений Кропоткина (начало выходить в том же году), и о борьбе между анархистами («анархо-синдикалистами») и «оппортунистическими синдикалистами» («чистыми син В письме в Интернационал в 1929 г. они информировали о росте рядов «Дзэнкоку дзирэн» после съезда в марте 1928 г., об увеличении тиража газеты «Либертарная федерация» и о создании новых местных групп в Корее, на Тайване, Хоккайдо и т.д. Раскол между анархистами и синдикалистами, происшедший в 1928 г., авторы письма охарактеризовали как «разделение между марксистами и анархистами» [47]. В это время анархо-коммунистическая «Дзэнкоку дзирэн» еще рассматривалась как дружественная организация МАТ в Японии [48]. В последующие годы, однако, произошла переориентация контактов на синдикалистов.
Основными теоретиками японского анархо-коммунизма СТиИ Хатта Сюдзё и Иваса Сакутаро.
Хатта Сюдзё 0886—1934), блестящий оратор и неутомимый пропагандист, разработал основы новой теории, опиравшейся на труды Кропоткина. Многие элементы его анализа, представлений о будущем обществе и критики чистого синдикализма напоминают взгляды аргентинских рабочих анархистов. Но японские анархо-коммунисты пошли дальше, доведя эти положения до логического завершения.
Подобно теоретикам ФОРА, Хапа отвергал синдикализм как идейно-нейтральное движение и как отдельную идеологию. В брошюре «Обсуждение синдикализма» он отдавал ему должное как тенденции в рабочем движении, которая выступила против политического оппортунизма. Однако нигде — от чартизма в Англии до русской революции — синдикализм не смог предотвратить подчинение политикам. Хатта ссылался также на высказывания Малатесты на анархистском конгрессе в Амстердаме в 1907 г. и на позицию украинской группы « Набат» в период Русской революции. С другой стороны, попытавшись развить собственную идеологию, синдикалисты создали гибрид, в котором смешивались анархизм и марксизм:
«Поскольку синдикализм не является особой, чистой идеологией, он должен опираться на другие идеологии. Ответом на вопрос, какая идеология лежит в основе синдикализма, по моему мнению, может быть только утверждение, что это комбинация анархизма и марксизма. Иными словами, синдикализм — это не что иное, как особенный в своем роде гибрид» [49].
Хатта считал, что анархизм и марксизм, как в области философии, так и политики, диаметрально противоположны. В связи с этим синдикализм подвержен врожденным колебаниям, его характерная черта состоит в том, что синдикалисты неизбежно начинают эволюционировать в сторону одной или другой из этих взаимоисключающих идеологий, на которые он опирается. Более того, синдикализм унаследовал от марксизма множество ключевых положений (например, теорию классовой борьбы), поэтому он расположен скорее склониться в сторону марксизма, а не анархизма.
Как и ФОРА, японские анархо-коммунисты отвергали абсолютизацию массовой борьбы и попытку представить ес в качестве единственной движущей силы истории. В брошюре «Так отвечают анархисты» (1927) Иваса Сакутаро писал: «История человечества — это борьба классов. Анархисты этого не отрицают. Но это еще не вся история. Иногда это движение консервативное по сути, компромисс или, скорее, решение на основе прошлого. Иногда это реформистское движение, для которого освобождение всего человечества лишено смысла. Следовательно, она не может предвидеть прогрессивные этапы будущего». «История человечества — это история борьбы классов. Тем не менее для анархистов революция — не война классов» [50]. Революция вырастает не из экономических противоречий капитализма и не из материальных интересов классов, а из стремления к освобождению человека и ликвидации классов вообще. «Если мы поймем... что классовая борьба и революция — это разные вещи, то вынуждены будем сказать, что было бы большой ошибкой заявлять, как это делают синдикалисты, что революция осуществится с помощью массовой борьбы, — подчеркивал Хата. — даже если с помощью массовой борьбы произойдет изменение общества, это не будет означать, что произошла настоящая революция» [51].
Как и ФОРА, японские анархо-коммунисты критиковали синдикализм за то, что он воспроизводит индустриально-капиталистическую систему организации производства и общества в целом. По их мнению, он принял разделение общества на группы в зависимости от вида выполняемого труда. Согласно Хате, воспроизводство в синдикатах форм организации, которые сами по себе являются продуктом капиталистического разделения труда, а также стремление организовать будущее общество на основе структур, вырастающих из синдикатов, привели бы к тому, что нынешнее разделение труда (а вместе с ним и система правления) сохранилось бы. Хатта утверждал: «Синдикализм заимствует капиталистический способ производства, а также сохраняет систему крупных фабрик, и прежде всего сохраняет разделение труда и способ хозяйственной организации, который избрал своей основой производство» [52].
Хатта настаивал на том, что разделение труда и его венец механизация лишают трудящегося всякой ответственности и требуют координирующей и руководящей власти (позднее она получила название технобюрократии), что несовместимо с принципами либертарного коммунизма, определенными Кропоткиным. Если после всеобщей стачки восторжествует профсоюз, то он всего лишь воспроизвсдет экономическое, а следовательно, и политическое разделение труда. Следовательно, сейчас же станет необходима новая властная организация 53 . Иными словами, система профсоюзов-синдикатов вырастает из капиталистического способа производства и порождает движение, организация которого является зеркальным отражением индустриальных структур, возникших при капитализме. Вот почему эта система не в состоянии разрешить коренные проблемы капитализма. Капитализм и синдикализм (равно как и большевизм) «скроены из одного и того же куска материи» [54]
Хатта предсказывал, что если устранить капиталистических хозяев и передать шахты — шахтерам, домны — сталелитейщикам и т.д., то противоречия между отраслями производства и отдельными группами рабочих сохранятся. А значит, потребуется некая форма арбитража или органа по разрешению конфликтов между этими секторами и группами. Это приведет к появлению нового государства и правительства. По мнению Хаты, «в обществе, основанном на разделении труда, те, кто участвуют в жизненно важном производстве (образуя основу производства), будут иметь больше власти над механизмом координации, чем тe, кто участвуют в других видах производства. Поэтому будет существовать реальная опасность возникновения пассов» [55].
Японские анархо-коммунисты утверждали, что синдикальная бюрократия, опираясь на рабочую аристократию, стремится попросту встать на место капиталистов в качестве нового господствующего слоя. В брошюре «Так отвечают анархисты» Иваса утверждал: «Они (синдикалисты) не отличаются от прежних горных бандитов. Их движение, то есть классовая борьба, по существу, не порывает фундаментально с капиталистической системой эксплуатации и угнетения. Оно сотрудничает с капитализмом, оно заключает компромисс с ним, это в действительности реформистское консервативное движение, которое продолжает эксплуатацию и угнетение. Таким образом, оно не может освободить все общество» [56]. В 1931 г. Иваса опубликовал брошюру под названием «О теории бандитизма рабочих профсоюзов». Он снова использовал метафору банды, чтобы продемонстрировать наличие родства между обычным синдикализмом и капиталистическим оассом. Глава банды всегда имеет соперника, который хотел бы занять его место. И борьба может быть суровой. Класс, даже рабочий, который думает только о своих собственных интересах, также может превратиться в масс правящий. Иными словами, когда главарь банды (капиталист) изгоняется и заменяется его приближенными (обычным рабочим движением), порядок присвоения (классовая структура) изменяется, но эксплуататорская природа (грабительские действия) сохраняется. В свою очередь, Хатта в 1929 г. выпустил работу «Крах массовой борьбы».
Одновременно с критикой синдикализма японские анархо-коммунисты критиковали и планы организации нового общества в виде системы рабочих Советов. Хатта видел в Советах проявление капиталистической формы организации производства, что, по его мнению, приводило к заимствованию основ, на которые опирается власть. Поскольку как в 1905 г., так и в последующие годы Советы стихийно возникали на рабочих местах, как и синдикаты, они воспроизводили капиталистическое разделение труда — характерную черту организации промышленности при капитализме. Хатта утверждал: «Советы являются административной машиной, которая создается для того, чтобы рабочие — как производители — контролировали общество. Те, кто хотят создать такую систему, принимают капиталистическое разделение труда».
Хатта полностью отвергал «партийные Советы», такие как большевистская система государственной власти. Но он заявлял, что «вольные Советы» или «массовые Советы» имели бы еще больше власти, чем какие-либо иные. По его мнению, если бы Советы стали руководить производством, то те члены общества, которые не участвуют непосредственно в процессе изготовления благ, подвергались бы в такой системе дискриминации. Точно так же те, кто трудится в отраслях, играющих меньшую роль (к примеру, в сельском хозяйстве), оказались бы в зависимости от власти тех, кто связан с отраслями, имеющими ключевое значение (например, промышленности) Он утверждал: «Как бы ни были экономически ориентированы Советы, остается очевидным, что их создание всегда будет связано с одновременным появлением власти». В связи с этим Хатта критиковал тех анархистов, которые позитивно относились к Советам. Он писал: «Слово ”советы” оглупило российских анархистов в период революции. Те, которые, как Александр Беркман (американский анархист, автор популярной книги об анархистском коммунизме. — В.Д.), использовали определение «вольные Советы», еще более способствовали советизации [56].
Японские анархо-коммунисты полагали, что структура будущего свободного строя не может соответствовать структуре существующего, авторитарного и капиталистического общества. Он должен будет преодолеть индустриализм, пагубное современное разделение труда и опираться на иную концепцию, соединяющую потребление и производство, причем с упором на потребление. Ее базовой единицей должен стать не профессиональный или отраслевой профсоюз, а самообеспечивающаяся автономная коммуна, соединяющая промышленность и сельское хозяйство. В этом отношении Хатта и его товарищи высказывались гораздо более определенно, чем аргентинская ФОРА, заявлявшая, что она рекомендует анархистский коммунизм, но не предрешает формы будущей организации общества.
Характерно, что взгляды и аргументы анархо-коммунистов в Японии 20—30-х годов оказались гораздо популярнее, чем синдикалистов. С одной стороны, как отмечал исследователь японского анархизма Джон Крамп, анархо-коммунизм «давал убедительное объяснение угнетению, от которого страдало так много людей, и одновременно отвечал их надеждам на новую жизнь... С точки зрения отчаянно бедных батраков, составлявших в тот период основную массу населения страны, и немногочисленных фабричных рабочих, причины этого были легко понятны. Когда анархо-коммунисты вели речь о превращении нищих деревушек в процветающие, самообеспечивающиеся коммуны, их доводы были гораздо ближе батракам-крестьянам, чем преимущественно урбанистический, индустриализированный и профсоюзный подход анархо-синдикалистов» [58].
В то же самое время идеи анархо-коммунистов были широко популярны и среди квалифицированных городских рабочих. Один токийский рабочий-печатник написал в 1926 г. статью «Покинем города», опубликованную в газете «Дзию РЭНГО». Он призывал рабочих не отбивать у капиталистов современные города со всей их экономикой и инфраструктурой, а восстать против хозяев и перенести свои промышленные навыки в деревню, чтобы обогатить деревенскую жизнь и достичь единства с крестьянами. Тем не менее, подобно аргентинским анархистам из ФОРА, японские анархо-коммунисты продолжали делать упор на либертарное профсоюзное движение.
После раскола обе ветви японского либертарного рабочего движения пошли собственным путем. Анархо-коммунистическая «Дзэнкоку дзирэн», несмотря на выход синдикалистского крыла, продолжала расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы. Входившие в нее профсоюзы часто или на ожесточенные конфликты с хозяевами по вопросам заработной платы и условий труда. Они участвовали в ряде крупных выступлений, например в борьбе 1300 рабочих против сверхурочного труда и урезания зарплаты на заводах Сибаура компании Мицуи и в американской компании «Дженерал электрик» в 1930 г. В 1931 г. число членов «Дзэнкоку дзирэн» достигло 16 300 [59].
Реорганизовывались и анархистские организации. В 1930 г. обновилась «Лига черной молодежи» Центральной Японии, а в Кансаи и Западном Хонсю в результате реорганизации была образована Федерация молодых анархистов с теоретическим органом «Курохата» («Черный флаг»). В том же году вышло «полное» собрание сочинений Михаила Бакунина, а Иваса выпустил работу «Роль анархистов в освобождении» [60].
Синдикалисты, ушедшие из либертарного профобъединения, также постепенно объединялись. В апреле 1929 г. было решено создать Федеральный либертарный совет профсоюзов [61], организацию, известную также как «Конференция за свободную ассоциацию японских рабочих союзов» («Нихон родо кумиай дзию рэнго киогикай»). Печатным органом ее стала «Родося синбун» («Рабочая газета»). Исикава издавал в 1929—1934 годах журнал «Динамик». Однако уже в 1930 г. «Конференция» распалась и была реорганизована как Общенациональная конференция свободно конфедерированных групп («Дзию рэнго дантаи дзэнкоку») [62].
В июле 1930 г. синдикалисты столичного региона оформились во Всеобщий рабочий союз («Канто Тибо Иппон Родося кумиай») и стали издавать ежемесячную газету «Кокусёку роно симбун». Они распространяли листовки по анархизму, за свободный федерализм, против централизма, за прямое экономическое действие, против чисто политического движения, против империализма, за освобождение масс в колониях. Организация строилась на основе групп, создаваемых на предприятиях, и местных секций. Высшим органом союза признавался конгресс. Для повышения сознательности рабочих организация проводила «кружки учебы» и «чайные вечеринки» [64].
«Всеобщий рабочий союз» входил в МАТ. Его группы действовали прежде всего в Токио и Осаке, а также в Корсе. В Кобе и Тюбу действовали самостоятельные синдикалистские группы. По данным МАТ, в организации насчитывалось 5 тысяч членов — металлурги, печатники, рыбаки, сельскохозяйственные рабочие и т.д. Местные группы издавали различные газеты и журналы» [65].
Китай: анархисты, ГОМИНЬ№НОВЦЫ, коммунисты «игра втроем»
Анархо-синдикалистские организации и союзы в Китае действовали в крупнейших городах и промышленных центрах страны. В Гуанчжоу в период 1920—1923 годов действовали рабочие объединения и союзы различной направленности, и анархистское течение, как сообщали в Профинтерн китайские коммунисты, обладало «весьма большой латентной силой». Рабочие, находившиеся под воздействием анархистов, объединялись в Общество взаимопомощи рабочих (ОВР) Некоторые анархисты работали также во Всеобщем рабочем союзе Гуанчжоу (Кантона), а также в «нейтральных» профсоюзах. В 1923—1924 годах ОВР постепенно распалось и примыкавшие к нему рабочие союзы стали независимыми или присоединились к Федерации кантонских рабочих союзов. В 1924 г. по инициативе Гоминьдана и коммунистов было предпринято объединение профсоюзов Гуанчжоу в Союз рабочих делегатов, в которое вошли и организации, прежде примыкавшие к ОВР. Однако уже в конце 1924 г., в условиях обострения политической борьбы в провинции Гуандун, в профобъединении началось размежевание. В октябре, в период антигоминьдановского мятежа, поднятого купечеством Гуанчжоу, из Союз покинул анархистский союз парикмахеров. Позднее из профцентра, оставшегося под влиянием коммунистов, вышли также Всеобщий рабочий союз и Союз механиков, в которых также имелись некоторые анархисты» [66].
С 1923 г. в рабочем движении Китая стало расти влияние коммунистов, опиравшихся на союз с Гоминьданом. Компартии удалось добиться преобладания на Втором национальном конгрессе труда (профсоюзов), который прошел в Шанхае в 1925 г. Некоторая часть китайских анархистов пошла на сотрудничество с коммунистами, другие присоединились к Гоминьдану. Третьи пытались организовать анархо-синдикалистское движение, центром которого стал Шанхаи [67].
Один из лидеров разгромленного мастями Общества трудящихся Хунани, который, как и другие анархисты из этой организации, укрылся в Шанхае, основал там «Шанхайское бюро Общества трудящихся Хунани», ставшее центром притяжения для рассеянных активистов. Вместе с другими анархистами Шанхая, в особенности издававшими «Китайский вестник», бюро сблизилось с иными, некоммунистическими профсоюзами города, в числе которых были и довольно умеренные, в надежде, что это позволит анархо-синдикалистам сохранить свою автономию [68]. 8 марта 1924 г. была создана Федерация профсоюзов Шанхая, включившая в свой состав 24 местных профсоюза. В манифесте федерации говорилось, что все люди «должны трудиться» и «иметь право на жизнь», но такое положение невозможно в существующем обществе, разделенном на классы неработающих паразитов и тяжело работающих, эксплуатируемых тружеников. Последние не могут, таким образом, удовлетворить ни материальные, ни духовно-культурные свои потребности. «Если мы хотим защитить свою жизнь, то этого нельзя сделать индивидуально и в одиночку: у рабочих есть общий интерес, и они должны защищаться. Такова главная причина, по которой мы создали нашу федерацию, — говорилось в документе... — Рабочие имеют общий экономический интерес, с одной стороны, и общий идеал нового общества, с другой. Наша федерация опирается на оба эти принципа». Федерация провозглашала намерение вести «борьбу за улучшение... материального положения и развитие... духовных способностей» работников, «способствовать продолжению образования рабочих, завоевать более высокую зарплату, более короткое рабочее время и т.д.», а в будущем — «создать мир производителей, мир труда». При этом подчеркивалось, что рабочая организация «должна быть федералистской, децентрализованной», поскольку ей «не нужны бесполезные вожди». Федерация высказывалась «против всех капиталистов и всех правительств», равно как и «против всех так называемых социалистов». «Что бы мы ни делали, мы должны делать это сами, — говорилось в декларации. — Мы абсолютно независимы от всех партий; мы надеемся с нашей федерацией прийти к образованию всеобщего объединения профсоюзов всех рабочих организаций Китая». Федерация издавала газету «Вестник труда», которая выходила сперва три раза в мссяц, а затем еженедельно [69]. Весной 1925 г. сообщалось, что издание газеты в Шанхае было запрещено и перенесено в Гуанчжоу [7О].
Представители федерации собирались принять участие во II конгрессе МАТ в 1925 г., но этим планами помешала гражданская война в Китае [71].
В связи с намерением компартии созвать 2-й Всекитайский съезд профсоюзов (май 1925 г.), либертарные рабочие организации Шанхая выпустили воззвание, в котором предостерегали трудящихся от диктатуры коммунистов. В документе подчеркивалось значение Кронштадтского восстания 1921 г. против большевистского режима в России: «Для рабочего класса восстание Кронштадта было действительной пролетарской революцией». Трагедия КронШТИТа не должна повториться в Китае. «Освобождение рабочих дело самих рабочих!» Документ подписали профсоюз столяров, федерация текстильных рабочих Шанхая, союз рабочих — ветеранов войны, федерация китайских печатников, объединение железнодорожников линии Шанхай—Нанкин, профсоюз маляров, профсоюз рабочих Аньхой в Шанхае, союз служащих почтовых перевозок, союз служащих гостиниц Шанхая, профсоюз сапожников Шанхая, «объединение друзей Дон- Те», профсоюз красильщиков шелка, объединение служащих ресторанов Хуа-Ян, объединение прядилен Шанхая, объединение парикмахеров Шанхая, федерация рабочих производителей чернил и туши, объединение отбельщиков, объединение механиков Ван-Шин, федерация электромехаников, объединение толкачей транспорта (рикш) Шанхая, федерация строительных рабочих Шанхая, «Синдикалистская молодежь», объединение работников чайных Шанхая, объединение шахтеров Дон-Те, секция Китайской федерации переплетчиков в Шанхае, рабочее объединение У-Пэй в Шанхае, объединение моряков, федерация портных Шанхая, объединение рабочих Цян-Пэй, союз столяров-мебельщиков, объединение рабочих Чэ- Цянь в Шанхае, союз столяров Хуай-Тай в Шанхае, объединение взаимопомощи рабочих Аньхой, федерация профсоюзов Цзянсу в Шанхае, объединение взаимопомощи рабочих Цзянси в Шанхае [72].
После репрессий в отношении китайских рабочих японской фабрики в Шанхае и расстрела полицией антиимпериалистической студенческой демонстрации протеста 30 мая 1925 г., либертарные рабочие организации города приняли активное участие во всеобщей забастовке протеста. Волна стачечного движения продолжалась до сентября. Федерация профсоюзов выпустила манифест к рабочим мира, в котором напомнила, что китайский «народ угнетается международным империализмом и капитализмом», лишен свободы и влачит тяжелое существование. Теперь угнетенные пробудились, «должны объединиться и потребовать своих прав и свободы». Китайские либертарии подчеркивали, что рабочие ведут борьбу против империализма, но не являются националистами: «Мы, китайские рабочие, боремся за благосостояние и свободу всех людей против варварского международного империализма и капитализма. Это вопрос жизни и смерти всего человечества. Это ни в коей мере не движение против иностранцев, не вопрос дигиоматии. Мы не полагаемся ни на какое правительство; даже если бы и можно было достичь успеха дипломатическим путем, этот успех не был бы нашим. Мы, рабочие, не имеем ничего общего с этими планами правительства Мы считаем, что империалистическое угнетение не может быть уничтожено с помощью дипломатической возни. Наше экономическое сопротивление обретет мощь только благодаря объединению сил рабочих». Федерация призвала организованных рабочих всего мира оказать помощь китайскому пролетариату: «Рабочие всех стран мира! Поддерживайте с нами постоянную связь. Давайте создадим великий союз пролетариата всего мира, чтобы уничтожить варварскую эксплуатацию и политическое угнетение и добиться свободы и благосостояния для всего человечества» [73] Волна забастовок в Шанхае пошла на убыль в конце августа 1925 г. , после того как коммунистические лидеры договорились о возобновлении работы на японских, а затем и английских предприятиях.
Федерация профсоюзов Шанхая противостояла находившемуся под контролем коммунистов Всеобщему профсоюзу труда. В федерацию входили около 50 профсоюзов с 50 тысячами членов. Однако она не была чисто анархо-синдикалистской, в ней состояли и сторонники Гоминьдана, недовольные преобладанием коммунистов. Когда гоминьдановцы завладели властью, они потеряли интерес к сохранению массового движения. Они установили полный контроль над Федерацией профсоюзов Шанхая? [74].
Гражданская война между генералами Севера и южным правительством Гоминьдана сильно осложняла деятельность либертарного движения. Обе стороны жестоко подавляли анархистское и анархо-синдикалистское движение, и, по оценкс китайских либертариев, «нет никакой выгоды от того, что победу одержит та или иная военная сила», поскольку все они выступают за частную собственность, капитализм и военную диктатуру. Анархисты жаловались на нехватку финансовых средств. тсм не менее они продолжали усилия по объединению и просвещению трудящихся [75]. Зимой 1926 г. анархисты и анархо-синдикалисты из провинций Сычуань, Хубэй, Хунань, Луанси и других объединились в «Федерацию народной борьбы» (ФНБ) (или «Федерацию народного оружия»). В организацию вошла и Анархистская федерация Китая. Резиденцией исполкома был избран центр китайского рабочего движения — Шанхай [76].
В январе 1926 г. ФНБ, охарактеризованная китайскими анархистами как «пролетарская организация с либертарно-синдикалистской основой», опубликовала манифест к китайскому пролетариату в связи с четвертой годовщиной убийства властями видных хунаньских анархо-синдикалистов Хуан Ая и Пан Жэньцюаня. Она осудила все власти и политические силы, ведущис борьбу за власть над страной. «Партия Гоминьдан и вместе с ней коммунисты, или большевики, участвуют в позорном походе против либертарного рабочего движения, — говорилось в заявлении. — Они обманывают народные массы и проводят тактику захвата организаций. Одни хотят национальной революции, а другие становятся под сень коммунистичсского партийного флага, чтобы создать ”диктатуру пролетариата”. В действительности эта диктатура будет подавлять пролетариат железной рукой». Коммунисты обвинялись в том, что они предают Китай Советской России, накапливают имущество, срывают стачки и т.д. Манифест заканчивался призывом к вооружению рабочих и девизом: «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих» [77].
«Федерация народной борьбы» пропагандировала в Китае цели и методы борьбы МАТ. Она призывала Европу посылать в Китай пропагандистские материапы [78]. К моменту 111 конгресса анархосиндикалистского Интернационала ФНБ рассматривалась им как дружественная организация [79]. Главным печатным органом федерации стала издававшаяся с 1926 г. в Шанхае (вначале еженедельная) газета «Народная борьба» («Народное оружие»). Ее девятый номер (весна 1927 г.) был выпущен большим тиражом. В нсм содержались: критический анализ событий в стране, материал «Кропоткин о русской революции», статья Лю Чэня «Сексуальное освобождение и анархистская революция», перевод анархо-коммунистического манифеста Новомирского, обзор положения в мире [80]. Кроме того, ФНБ выпускала в Шанхае «Черный прибой». В нем освещались, в частности, проблемы международного рабочего движения. В третьем номере, вышедшем к вeснe 1927 г., содержались: призыв к рабочему классу мира выступить против империалистической интервенции и отправки иностранных войск в Китай, оценка победы Гоминьдана как ничего нс дающей трудящимся, как обмана народа, статья о возрождении анархистской молодежи, призыв присылать материалы по адресу Лю Чэньбо [81]. Наконец, Лю Чэнь и Лю Чэнь издавали небольшой листок «Черное знамя». Вeсной 1927 г. сообщалось о подготовке его третьего номера. Кроме того, шанхайское анархистское издательство «Народный колокол» выпустило в 1936 г. первый том («Хлеб и воля») из запланированного полного собрания сочинений Кропоткина. Вышла также книга Б.П. «Критика марксизма». Весной 1927 г. сообщалось об издании сборника переводов, включавшего «Современную анархию» и «Социальную технику как тактику» Удо Алле [82].
Данные об участии анархистов в стачках и восстаниях в Шанхае в начале 1927 г. противоречивы [83]. С поражением февральского 1927 г. восстания в Шанхае в городе развернулась новая волна репрессий против рабочего движения, которую анархисты оценили как «белый террор» [84]. К гоминьдановской власти анархо-синдикалисты отнеслись отрицательно. После раскола Гоминьдана на «правое» и «левое» крыло весной—летом 1927 г. Анархистская федерация молодежи Китая, возникшая на основе ФНБ [85], выпустила обращение к рабочим всего мира, заявив, что китайская революция находится под угрозой: «белый капитализм», «красный большевизм» и Гоминьдан угнетают народ и пытаются взять под контроль действия пролетариата. Оба крыла Гоминьдана стремятся к установлению диктатуры, хотя «левая» фракция и заявляет о признании классовой борьбы. В обращении сообщалось о том, что за три месяца до этого по приказу нанкинского правогоминьдановского правительства Чан Кайши были казнены члены секции ФНБ в Сучжоу. В провинции Хунань был арестован как «большевик» анархист Линь Пэй, работавший в профсоюзе сельскохозяйственных рабочих «Ка Хо Сянь». Когда возмущенные крестьяне потребовали его освобождения, гоминьдановцы открыли огонь, убив двух и ранив 68 человек. Линь Пэй был казнен. Анархисты заявили, что исключили из своих рядов ряд бывших товарищей, которые выступили за сотрудничество с «революционным правительством» Гоминьдана [86].
В конце 1920-х годов китайские и корейские антиавторитарные организации продолжали попытки вести работу в Шанхае. Они провели акции протеста в связи с делом Сакко и Ванцепи, призвали к бойкоту американских учреждений [87]. В 1928 г. анархистское движение в Китае уже было на спаде. Лю Чэньбо сообщал в МАТ, что в стране осталось лишь небольшое количество анархо-коммунистических организаций. Среди них были Анархистская федерация молодежи в Шанхае, Анархистская федерация Востока, образованная в Шанхае китайскими, корейскими, японскими и другими азиатскими анархистами, а также Союз черной молодежи Китая. Последняя из этих групп выпускала газету «Черная молодежь», а в конце 1928 г. подготовила первый номер бюллетеня «Черные новости», в котором содержались: статья о положении в Китае и засилье милитаристов, осуждение бывших анархистов, входящих в руководство Гоминьдана, манифест союза по случаю 2-го съезда Гоминьдана с призывом к свержению гоминьдановского правительства и к борьбе со всеми централистскими партиями, включая большевиков, а также еще один манифест союза, направленный против империализма и обманной политики США. Бывшие анархисты, пошедшие на соглашение с властями, издавали журнал «Революция» [88]. После 1928 г. регулярная связь между МАТ и китайскими анархистами была утрачена. В 1930 г. китайский анархист Мау сообщал европейским корреспондентам, что в мае несколько либсртариев (в том числе редактор газеты «Рабочая молодежь») были арестованы в связи с подготовкой ими первомайских выступлений. Из-за репрессий прекратила выходить газета Федерации пролетарской молодежи Северного Китая «Пролетарий». Китайские анархисты призывали европейских товарищей спасти арестованных [89].
Оказавшись в ситуации союза, а затем (с 1927 г.) противоборства между Гоминьданом и компартией, либертарное движение в Китае окончательно раскололось. Приверженцы чистой линии не желали вмешиваться в происходящую борьбу за власть. В период 1925—1927 годов они заявляли, что альянс между КПК и Гоминьданом против иностранного капитала не ставит под вопрос сущность системы, напротив, Гоминьдан пользуется поддержкой национальной буржуазии, а КПК выступает за государственный капитализм. Прагматики считали, напротив, что надвигается народная революция, и в ней следует участвовать и по возможности попытаться оказать на нее влияние. С другой стороны, часть анархистов, пошедшая за Ли Шицзэном и У Чжихуэем, связала себя с Гоминьданом, считая его революционной силой в противовес как военным диктаторам Севера страны, так и коммунистам. Эти деятели заняли ответственные посты в руководстве гоминьдановского режима. Они пытались представить правление Гоминьдана как переходный период на пути к анархизму [90]. Большинство анархистов резко критиковали политику союза с Гоминьданом или присоединение к компартии. Они обвиняли «политиков» в предательстве, но имели уже весьма мало возможностей для общественной деятельности [91].
Другие страны Азии
Наконец, следует упомянуть о том, что в ряде азиатских стран в 1920-х годах существовали анархистские и синдикалистские группы, возникшие в той или иной мере под влиянием единомышленников в Японии и Китае.
В Корее на анархистские позиции перешла часть НаЦИОналистов во главе с известным лидером Син Чхэхо, который в 1923 г. написал в эмиграции «Манифест корейской революции». Эти круги рассчитывали достичь независимости Кореи с помощью анархистской революции [92]. Подобные взгляды получили распространение в эмигрантских корейских анархистских организациях в Китае (Корейской анархистской федерации в Китае, Восточной анархистской федерации, движении «Синминбу» и Корейской народной ассоциации в Маньчжурии, Корейской молодежной лиге Южного Китая и т.д.). С другой стороны, анархизм распространился среди многочислснных корейских рабочих в Японии, где под воздействием анархистов этой страны в движении стал делаться упор не на национализм, а на классовую борьбу и сотрудничество с японским рабочим движением. Сблизившись с Осуги Сакаэ и другими либертариями, корейские анархисты (Пак Ель и др.) создали в Японии первые организации: «Общество черного течения» (1921 г.), «Ассоциацию черного товарищества» (1923 г.) и рабочий союз — «Черную рабочую ассоциацию» (1923 г.). Сильно пострадав от репрессий после «великого землетрясения» 1923 г. (Пак Иол и многие его товарищи были арсстованы и обвинены в заговоре), корейское анархистское движение в Японии быстро оправилось и приняло самое активное участис в деятельности японских либсртарных организаций (включая «Лигу черной молодежи»). Одновременно корейцы создали собственные группы и профсоюзы: «Общество черного движения» (1926 г.), Восточный рабочий союз (1926 г.), Союз свободных рабочих ( 1927 г.), «Лигу свободной молодежи» (1928 г.), «Союз черного товарищества» (1928 г.), Черную рабочую ассоциацию (1928 г.), «Лигу анархистской молодежи» в Осаке (1930 г.), Восточную рабочую федерацию (1930 г.), «Лигу рабочих черного знамени» (1930 г.) и т.д. [93].
В самой Корее, находившейся под колониальной властью Японищ анархисты работали в первых профсоюзах, которые входили в существовавшее в 1920—1922 годах профобъединение — Корейскос общество трудовой взаимопомощи, в отделения японских профсоюзов и т.д. Либсртарии пользовались влиянием среди грузчиков Пусанского порта, которые в сентябре 1921 г. выступили инициаторами первой всеобщей забастовки в городе. С середины 1920-х годов в Корее возникали анархистские группы, которые появлялись и действовали под влиянием либертарного движения в Японии, а отчасти и в связи с ним (например, с «Лигой черной молодежи»). Так в различных городах и районах страны были созданы «Лига черного знамени» (1924— 1925 гг.), «Лига истины и братства» (или «Союз истинных друзей», 1925— 1927 гг.). «Лига черных друзей», «Группа свободы» (Ичхон, 1929 г.), «Анархистское движенис Чечжудо» ( 1927—1930 гг.), «Общество черной борьбы» (Пхёнан) и т.д. В 1930 г. образовалась общенациональная Корейская анархокоммунистическая федерация. Почти все группы анархистов не только занимались пропагандой и выпускали свои издания, но также организовывали профсоюзы и действовали в рабочем движении. Так, в Вонсане «Лига инстинктивного братства» возглавляла Всеобщий союз рабочих города, а в созданную в 1927 г. на Севере Кореи «Ассоциацию черного товарищества» («Черное общество») вошли, в том числе, Союз чернорабочих Хванджу, Всеобщий рабочий союз Пхеньяна и другие организации трудящихся. Корейское анархистское движение подвергалось непрекращающимся преследованиям со стороны колониальных властей: группы раскрывались, подполье уничтожала полиция, активистов арестовывали и отдавали под суд. К 1931 г. организации анархистов в Корее были разгромлены [94].
На острове Тайвань, который также являлся владением Японии, анархистское движение в 1920-х годах также развивалось под сильным влиянием либертариев метрополии. В 1919 г. анархист Ю Гинфан, который поддерживал контакты с японскими единомышленники, встал во главс народного восстания, жестоко подавленного колониальными властями. В декабрe 1926 г. учившийся прежде в Японии Фан Пэнлян, Лянь Вэн и японский анархист Ити Кодзава создали на острове местную организацию анархокоммунистической «Федерации (Лиги) черной молодежи». Она развернула широкую пропаганду либертарных идей, проводила сотни публичных собраний и лекций, которые посстили десятки тысяч людей. ноября 1929 г. вернувшийся из Японии Чан Вэйсянь основал «Общество взаимной помощи рабочих Тайваня» — прообраз анархо-синдикалистской организации. Однако движение было быстро разгромлено: уже в феврале 1927 г. имели место первые массовые аресты активистов федерации, а в августе 1931 г. члены общества взаимной помощи были обвинены в нелегальном хранении оружия, за чем последовала вторая мощная волна арестов [95].
Активно действовали анархисты среди китайского населения в Юго-Восточной Азии. В Гонконге в 1926 г. работал Союз механиков, который придерживался синдикалистской ориентации и объединял до 60 тысяч членов. Организация имела отделения таюке в Малайе, Нидерландской Индии и на Филиппинах [96].
Малайя с 1910-х годов была перевалочным пунктом доставки китайской анархистской литературы, в Сингапуре возниии анархистские группы и общества. В начале 1920-х годов в Малайе и НиДерланДской Индии действовала группа «Истина», издавшая более 10 тыс. экземпляров брошюр по анархизму. В ответ на пропагандистскую деятельность колониальные власти выслали из Сингапура, с Явы и Суматры наиболее активных агитаторов [97]. В Сингапуре в 1920-х годах существовали левые профсоюзы, которые организовали первые крупные забастовки. В порту и на предприятиях проходили многочисленные стачки и демонстрации под лозунгами: «Долой капиталистов, владельцев фабрик и заводов!», «Долой британский Центром левых и радикальных настроений были китайские школы, которые властям удалось поставить под контроль только в начале 1930-х годов. Анархистское движение было наиболее сильным среди китайцев в городских районах колонии Стрейтс-Сетльментса и в более развитых малайских государствах. Однако оно выдохлось после неудачного покушения в Пинанге на обернатора Стрейтс-Сетльмснтса и взрыва бомбы в китайском районе. После 1925 г. анархистское влияние сошло на нет [98]. Преобладающим влиянием среди китайского населения Малайи стал пользоваться Гоминьдан, а с 1930 г. — коммунистическая партия [99].
Либертарные идеи распространялись также в небольших кружках индонезийских студентов, находившихся под влиянием анархистского движения в Голландии [100].
Имеются сведения о существовании в 1920—1930-х годах отдельных вьетнамских, индийских, филиппинских и других анархистов и анархистских групп — в самих этих странах и в эмиграции [101]. В марте 1928 г. на конференции в Нанкине была учреждена даже «Восточная анархистская федерация» («Лига анархистов Востока») с участием либертариев из Кореи, Китая, Японии, Тайваня, Филиппин, Индии и Вьетнама. Она просуществовала до 1930 г. и фактичсски работала в качестве международного органа связи между эмигрантами, боровшимися за независимость азиатских стран, и призывая «пролетариат мира, особенно восточных колоний» объединиться против «международного капиталистического империализмаЫ [102]. Но никакой информацией относительно анархо-синдикш1исТСкИХ инициатив во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии в 1923 — середине 1930-х годов автор не располагает.

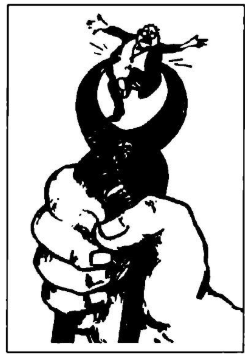

Нет комментариев