Глава 2. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ И ПОСЛЕВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЛНА В ЕВРОПЕ (1918—1923)
...Лишь вернос понимание массами подлинных целей революции ведет к успеху. Только претворение их представлений в действительность ими самими гарантирует, что новая жизнь будет развиваться в правильном направлении. С другой стороны, отсутствие такого понимания и подготовки ведет к неминуемому поражению либо от рук реакции, либо вследствие... теорий мнимых друзей из политических партий.
Апександр Беркман,
«Азбука коммунистического анархизма», 1929 г. [1].
Всемирная революционная волна, начавшаяся в 1917 г. в России, постепенно захватила и другие страны. Анархисты и синдикалисты приняли в ней самое активное участие, зачастую шли в первых рядах революционных выступлений [2]. Российские анархо-синдикалисты пользовались ощутимым влиянием в фабрично-заводских комитетах и отдельных рабочих профсоюзах. В конце 1917 — начале 1918 г. им удалось организовать на платформе Индустриальных рабочих мира 25—30 тысяч шахтеров Дебальцево (Донбасс), добиться признания среди горнорабочих Черемхово в Сибири, портовиков и цементников Кубани и Новороссийска, железнодорожников, работников парфюмерной промышленности и других отраслей. В 1918 г. анархо-синдикалистов поддерживали рабочие пекарен Москвы, Харькова и Киева, почтово-телерафные работники Петрограда, трудящиеся речного транспорта Поволжья и т.д. Некоторые из этих организаций были разгромлены «белыми», другие нейтрализованы большевистскими властями с помощью политики укрупнения профсоюзов и прямых репрессий против активистов. В результате, если на первом всероссийском съезде профсоюзов (1918 г.) синдикалистские и максималистские делегаты представляли около 88 тысяч рабочих, то на втором съезде (1919 г.) — около 53 тысяч, а на третьем (1920 г.) — свыше 35 тысяч. Попытки части синдикалистов приступить к созданию независимой от режима Всеобщей конфедерации труда были пресечены. К 1922 г. созданные анархо-синдикалистами союзы были распущены, а печатные издания закрыты [3]. Ведущие активисты движения были арестованы: Всеволод Волин, Арон Барон, Марк Мрачный и другие анархисты и синдикалисты на Украине, участвовавшие в Махновском движении, — в декабре 1920 г., Григорий Максимов — в марте 1921 г. и т.д. В январе 1922 г., после десятидневной голодовки протеста в Таганской тюрьме в 1921 г. и протестов зарубежных делегаций, прибывших в Москву в связи с первым конгрессом Профинтерна, Волин, Максимов, Мрачный и некоторые из их товарищей были высланы из Советской России [4]. Другой видный российский анархо-синдикалист, Александр Шапиро, подвергся аресту со стороны большевистских властей после возвращения с синдикалистской конференции в Берлине летом 1922 г. После многочисленных протестов из-за рубежа его также депортировали из страны.
Всемирный общественный подъем, начало которому положила Русская революция, массовая самоорганизация трудящихся придали новый импульс либертарному рабочему движению. Идея Советов — не как государственного органа партийного представительства, а как инструмента беспартийной самоорганизации и самоуправления трудящихся на производстве и по месту жительства — заняла прочное место в системе воззрений анархистов и синдикалистов [5]. Большинство либертариев былоувлечено событиями в России, увидели в них скорее то, что им хотелось видеть, а не то, что было на самом деле. По словам Малатесты, они понимали под диктатурой пролетариата не систему власти, а «революционное действие, с помощью которого рабочие завладевают землей и средствами труда и пытаются строить общество, где нет места для масса, эксплуатирующего и угнетающего производителей. В этом случае «диктатура пролетариата» означала бы диктатуру всех и не была бы уже диктатурой, подобно тому, как правительство всех не есть уже правительство в авторитарном, историческом и практическом смысле слова», — утверждал старый анархист [6]. Часть либертариев стала заявлять, что большевистская система «диктатуры пролетариата» — это некий промежуточный этап на пути к анархистской организации общества (феномен «анархо-большевизма»). Понадобились годы, чтобы анархисты и синдикалисты поняли, что за «властью Советов» в России скрывается новая партийно-государственная машина.
Оказавшись в сердцевине революционных событий в различных странах мира, революционные синдикалисты принуждены были в то же самое время принимать стратеги кое решение о международной реорганизации рабочего движения В июле — августе 1919 г. на конгрессе в Амстердаме было образовано Международное объединение профсоюзов, находившихся под влиянием социал-демократии. Оно получило название Амстердамского Интернационала профсоюзов. Революционные синдикалисты считали эту организацию реформистской, и присоединение к ней было для них исключено. Со своей стороны, российские большевики и коммунистические партии других стран учреди в марте 1919 г. Коммунистический Интернационњл, а в июле 1920 г. — и собственное международное профобъединение — Красный Интернационал профсоюзов (Профинтерн, или Московский Интернационал профсоюзов). В него планировалось привлечь и революционно-синдикалистские соты. Теперь революционным синдикалистам предстояло определить: примкнуть к новой международной организации, выступившей под лозунгами социалистической революции, или искать собственный путь.
Анархо-синдикалисты в Германской революции
Берлинские синдикалисты с самого начала приняли активное участие в движении «революционных старост», которое в ноябре 1918 г. организовало вооруженное революционное выступление рабочих. «Именно синдикалисты, наряду с социал-демократами, открыто 9 ноября выставили своих людей, чтобы вывести военных из казарм, рабочих от станков, женщин и девушек из фабрик», — вспоминал Ф. Катер. Синдикалисты Берлина были первыми на баррикадах. Особенно активны были деревообделочники. Казалось, «синдикализм будет осуществлен мановением руки» [7]. Но, как полагали синдикалисты позднее, рабочих погубило отсутствие конкретных представлений о социалистическом обществе и путях его достижения [8].
В Рейнской области и Вестфалии небольшие синдикалистские группы (50 человек в Мюльгейме, 5—6 в Хамборне и т.д.) возглавили революционные выступления рабочих шахтеров Хамборнского и Хаммского бассейнов, сталелитейщиков и УГОЛЬЩИКОВ Мюльгейма в Руре. Берлинские члены СОНП восстановили связи с Руром и под влиянием общего подъема движения вновь активизировалась Административная комиссия, а 14 декабря 1918 г. начал выходить новый печатный орган — «Дер Синдикалист». В различных городах воссоздавались или создавались новые организации СОНП. Рассылались агитаторы по всей стране. 28 декабря 1918 г. состоялась конференция профобъединения, избравшая новую Административную комиссию в составе Ф. Катера, Макса Винклера, Карла Хаффнера и Франца Барвича [9].
Когда в конце 1918 г. СОНП возобновило свою легальную работу, в нем насчитывалось около 60 тысяч членов [10]. На территориях, оккупированных по условиям перемирия войсками Антанты, деятельность синдикалистов была ограничена: газеты и брошюры были запрещены, а заседания могли проводиться только с разрешения властей.
За первый год после революции 1918 г приход СОНП превысил 169 тысяч марок, расходы — 166 тысяч марок. Средства направлялись прежде всего в фонды поддержки заключенных, прессы, агитационный, забастовочный, на счета для ссуд и литературы. Собранные деньги позволили организации вести активную работу: поддерживать забастовки щеточников Ной-Руппина, металлистов Мангейма, Артерна и Берлина, строителей Дортмунда, рабочих Нюрнберга, Магдебурга, Дуйсбурга (длилась не менее 10 недель), Тюрингии, Крефельда. Многие стачки поддерживались за счет местных средств, прежде всего крупные выступления металлистов Берлина и Мангейма, строителей и трамвайщиков Мюльхайма, трудящихся Бремена и Тюрингии [11].
Чаще всего синдикалистские организации, оставаясь меньшинством в трудовых коллективах, не были достаточно сильны для того, чтобы самостоятельно проводить забастовки. Им приходилось участвовать в стачках, инициированных централистскими профсоюзами.
Синдикалисты активно издавали и распространяли свою литературу. Тираж газеты «Дер Синдикалист» увеличился с 10 тысяч до 50 тысяч в мае—июне 1919 г. Преследования и запреты синдикалистской печати в Рейнской и Рурской областях, в Вестфалии вынудили издавать дополнительно «Дер Пионир», затем — информационный листок и циркуляр. СОНП опубликовала ряд брошюр («Чего хотят синдикалисты» Фрица Эртера, «Сокращение рождаемости», «Два вопроса», «Организованное действие», «Неорганизованное действие», «Единая зарплата», «Эмиль Пуже», «Победа», «Макс Багинский», «Дефицит», «Нет оружию», «Закон и авторитет», «Коммунистическое строительство синдикализмла», «Хлеб и Воля» и «Историческая роль государства» П. Кропожина и т.д.) тиражом от 5 до 30 тысяч экземпляров [12].
Действия синдикалистов встречали сильные репрессии со стороны властей. Например, в Мюльгсйме в январе 1919 г. военные власти задержали ряд видных активистов. Там же 5 апреля 1919 г. во время собрания рабочих доверенных лиц были арестованы 155 человек, в течение недели последовали новые аресты, и почти все структуры СОНП были разгромлены (их работу удалось возобновить лишь к концу года). В мае—июне 1919 г. в Рурской области были осуждены тысячи членов СОНП. Имелись случаи арестов и осуждения распространителей синдикалистской литературы [13]. «Каждый из нас, кто работает на Западе Германии и более или менее известен, — говорил представитель агитационной комиссии из Рейнской области и Вестфалии Карл Виндхофф, — должен каждый день рассчитывать на то, что его вытащат из постели или что он не вернется из агитационной поездки»! [14].
Всего на поддержку арестованных в Мюльгейме организация истратила от 52 тысяч до 70 тысяч марок, в Хамборне — более 40 тысяч на специальной конференции была образована Центральная комиссия поддержки для всего Рейнско-Вестфальского региона; она собрала 75 тысяч марок. Почти 23 тысяч марок было выделено в помощь арестованным из центральной каccы [15].
Практически с самого начала встал вопрос о взаимоотношениях синдикалистов с политическими партиями. С социал-демократами существовала изначальная вражда. Что касается коммунистов, то многие из них первоначально присоединились к синдикалистскому движению. Затем компартия стала ориентироваться на создание «Рабочих союзов» на основе фабричных организаций. Но уже в течение 1919 г. среди коммунистов наметилась линия на работу в социал-демократических профсоюзах. К концу 1919 г. активисты СОНП сетовали на то, что в коммунистической прессе разворачивается систематическая кампания против синдикализма [16].
Ряды синдикалистского движения продолжали расти за счет присоединения к нему отдельных «Рабочих союзов». Так, 15—16 сентября 1919 г. в Дюссельдорфе состоялась объединительная конференция профсоюзов Рейнской области и Вестфалии; 105 делегатов от СОНП, Всеобщих рабочих союзов Эссена и Дюссельдорфа, Союза горняков и Всеобщего рабочего объединения постановили образовать «Свободный рабочий союз» и утвердили принципы, которые были основаны на решениях 7-го (1906 г.) и 9-го (1910 г.) конгрессов СОНП [17]. Однако объединение проходило отнюдь не гладко. Многие из рабочих, вышедших из рядов централистских профсоюзов и вошедших в новую организацию, не считали себя синдикалистами. «Мы не перешли всецело в синдикализм, но слились вместе... — подчеркивал позднее делегат от Дюссельдорфа Хаберманн на 12-м конгрессе СОНП. — Если мы сегодня скажем, что полностью перешли к синдикалистам, то подавляющая масса этих членов исчезнет, и этого мы хотим избежать...» [18]. Лидерам СОНП пришлось пообещать партнерам воздержаться от слишком широкого использования термина «синдикализм». Было решено, что члены объединения смогут состоять в различных левых партиях [19].
В конце 1919 г. синдикалистское движение бурно развивалось. Сообщилось, что среди шахтеров Рура каждую неделю возникала новая группа. В округе Дортмунд, несмотря на сохранявшееся осадное положение, имелось около 40 местных объединений. В округе Оберхаузен синдикалистская организация шахтеров увеличилась в 1919 г. с 240 до 1400 человек. В маленьком промышленном городе Зёммсрда в Тюрингии, где жило около 7 тысяч человек, после агитационноЙ поездки анархо-синдикалиста Рудольфа Роккера рабочие в массовом порядке присоединились к синдикалистской организации, которая к концу 1919 г. насчитывала 2 тысячи членов. Но развитие было не всюду равномерным. К примеру, в Саксонии организации действовали лишь в районе Дрездена, велась работа среди железнодорожников [20].
(На 12-м конгрессе СОНП (Берлин, 27—30 декабря 1919 г.) 109 делегатов представляли 111675 члeнов; кроме того, не были представлены еще 5794 члена. Присутствовали также члены Административной комиссии, представители агитационной комиссии и синдикалистской молодежи [21].
Одним из важнейших вопросов стало официальное признание синдикализма. Ряд делегатов, особенно из Дюссельдорфа, возражал против использования этого термина. Представитель 12-тысячной организации металлистов Хаберманчн, работник коммунального сектора Бруно Винклер считали сго непонятным рабочим и даже отталкивающим многих из них. Винклер призвал «исключить из наших рядов партийную политику и представлять чисто рабочие интересы»; для пропаганды либертарных идей он предлагал использовать анархистские группы и их газету «дер Фрайе арбайтер». «...Слово ”синдикализм” мы никогда не будем пропагандировать», — заявил он и . Еще дальше пошел Альберт Крон от союза рабочих разных профессий и строителей Дюссельдорфа; он выступил против конфронтации с левыми партиями, заявив, что спор с ними идет лишь о лучших путях к социализму и конгресс должен призвать к сотрудничеству с ними 23 Однако представители Мангейма, Саксонии, Оберхаузена, Кёльна, Зёммерды (Тюрингия), Берлина, Мюнхена высказались за то, чтобы организация открыто провозгласила себя синдикалистской и против уступок в вопросах об ориентации и тактики [24]. Делегат Херманн Зоннтаг из Зёммерды подчеркнул необходимость конкретно поставить вопрос о том, как проводить социализацию на месте в случае революции. Завершая споры, Ф. Катер заявил: «Большинство наших товарищей не может даже представить себе, как можно требовать от синдикалистского конгресса, чтобы он спрятал слово ”синдикализм” за занавесом. Большинство горды тем, что они наконец пришли к тому, чтобы открыто заявить всему миру: мы в Германии — нс просто синдикалисты, но призншти своими международные синдикалистские принципы. Синдикализм — это не немецкий продукт, он интернационален, это термин для сплочения всех вольных социалистов, всех антиавторитарных коммунистов» [25].
В конечном счете дюссельдорфские делегаты предложили, чтобы общая организация приняла название «Свободный рабочий союз», согласованное на конференции в сентябре, прибавив в качестве дополнения: «синдикалисты». Административная комиссия также поддержала это предложение, и оно было принято большинством голосов (против голосовали лишь 12 делегатов). Таким образом, СОНП было официально переименовано в «Свободный рабочий союз Германии (синдикалисты)» (ФАУД) [26].
Но, объявив о своем отрицательном отношении к институту политических партий, синдикалисты еще не требовали, чтобы каждый член движения порвал с ними. «Нашей организацией является организация экономической борьбы, — заявил на конгрессе Р. Роккер. — Если тот или иной товарищ считает для себя необходимым присоединиться к какой-либо политической партии, это может быть его личным делом. Как организация, мы не имеем с политическими партиями ничего общего».
Определенные споры по вопросам тактики вызвало и участие берлинских лидеров СОНП в составлении и распространении в начале декабря 1919 г. воззвания к «друзьям республиканской свободы без различия партий» с призывом защитить республику от угрозы военного монархического путча и провести в случае мятежа всеобщую стачку. Член Административной комиссии М. Винклер предложил делегатам одобрить это воззвание и постановить, что в случае выступления реакции должна быть провозглашена всеобщая стачка по всей стране. В его поддержку выступили берлинские маляры Роберт Бут и Рихард Шрёдер, представитель Нюрнберга Генрих Шмолль, Ф. Катер. Они исходили из того, что республика имеет свои преимущества перед монархией, «является прогрессом» и ее следует защищать «всеми средствами». Против этого были металлисты из Берлина Рихард Эстрайх и из Мангейма Иоханнес Фрай, которые заявили, что «республика имела не преимущества, а недостатки» и что «правительство нам безразлично». Кровельщик из Мангейма Георг Попп и берлинский маляр Ганс Рюгг расставили акценты несколько иначе: борьба должна вестись не в поддержку правительства, а именно против реакции; важна сама по себе идея всеобщей стачки, синдикалисты должны поддерживать эту форму борьбы, а когда она начнется — способствовать захвату средств производства трудящимися. Он осудил призыв к «ненасильственной» всеобщей стачке. В конечном счете предложение М. Винњлера было принято значительным большинством (против 5 голосов) [28]. Позднее делегация берлинских металлистов потребовала внести в декларацию принципов положение о том, что «синдикалисты в определенных акциях взаимодействуют с другими революционными движениями». Однако в конце концов от этого отказались, сочтя, что в предложен ном проекте это выражено достаточно ясно. «Если возникнет необходимость соединения всех революционных элементов для противостояния попыткам контрреволюционеров, — пояснил Рудольф Роккер, — то и мы, синдикалисты, не останемся в стороне и будем идти плечом к ПЛСЧУ с теми, кто придерживается доброй воли, пока наши пути идут вместе, не отказываясь при этом от нашей самостоятельности» [29].
В рамках решений по тактическим вопросам конгресс утвердил «резолюцию о стачках», закрепив систему выплаты пособий бастующим и предназначенных с этой целью взносов. Оговаривались размеры таких пособий: они выплачивались с четвертого дня забастовки и не должны были превышать пятикратную сумму еженедельных взносов в день. По настоянию делегатов конгресса была подтверждена принципиальная ориентация на самостоятельное ведение и финансирование борьбы отдельными организациями; лишь в случае исчерпания собственных средств надлежало обращаться в местную рабочую биржу и одновременно в отраслевую федерацию. (Первоначально предполагалось, что помощь должна оказывать прежде всего рабочая биржа, но делегаты из Дюссельдорфа ссылались на решения сентябрьской конференции, где эта роль отводилась отраслевым федерациям.) Характерно, что некоторые (как горшечник из Берлина Роберт Прамшюфер) вообще возражали против выплаты пособия бастующим, заявляя: «Нам нужны не гроши членов, а их личности для осуществления социальной революции». Однако резолюция была принята большинством (против было подано лишь 13 голосов [30]).
Из других важных тактических решений конгресса следует отметить принятие резолюции с осуждением сдельной системы оплаты труда как закрепляющей разделение труда и конкуренцию между самими работниками, утверждение постановления о создании при каждой рабочей бирже комиссии, которая должна была изучить возможности социализации всех отраслей общественной жизни на месте. В связи с принятием закона, превращавшего фабрично-заводские советы в официальные органы рабочего представительства на производстве («производственные советы»), конгресс заявил, что намерен бороться с ним, как и с другими законами государства, служащими укреплению капитализма и государства. Тем не менее резолюция разрешала членам ФАУД на местах в зависимости от конкретных условий и надобностей участвовать в выборах в такие советы и сотрудничать в них в рамках синдикалистских принципов. Даннос решение было принято большинством против двух голосов. Шахтер из Дортмунда Николаус Мюльхаузен заявил, что его окружная конференция Поддержала участие в выборах в производственныс советы лишь там, где синдикалисты имеют большинство [31].
Отдельно стоял на повестке дня вопрос о работе с женщинами и молодежью. Конгресс рекомендовал местным союзам проявить инициативу по вовлечению в движение женщин, причем не только работниц, но также домохозяек, служанок и т.д. Что касается молодежи, то Р. Роккер предложил возложить работу с нсй на местные рабочие биржи и создать на местах «особые молодежные организации... чтобы положить начало воспитанию молодежи в духе синдикализма и вольного социализма». Эта идея была принята, но вызвала, однако, резкие возражения лидера анархистского молодежного движения Эрнста Фридриха: он заявил, что такая федерация уже существует и объединяет 40 местных групп. Только в Зёммерде в ней состояли 120 членов. Однако Фридрих находился в остром конфликте с берлинскими синдикалистами, обвинявшими его в отказе дать отчет об использовании оказанной ему помощи. Нс желавший конфликта Роккер подчеркнул, что резолюция не направлена против федерации и с ней необходимо сотрудничать [32].
Однако наряду с тактическими вопросами немецким синдикалистам предстояло определить свои общие идейные, теоретические и организационные позиции.
Руководство СОНП поручило написание проекта Декларации принципов известному немецкому анархисту Рудольфу Роккеру, имевшему большой опыт работы в профсоюзном движении. Эту декларацию можно считать одним из первых документов собственно анархо-синдикализма. Она открывалась анализом капиталистического общества, которое, по мнению немецких синдикалистов, основывалось на двух монопольных правах: на обладание (собственности) и на власть (государстве). В самой постановке вопроса заметно влияние анархо-коммунистического положения о том, что естественным образом «все принадлежит всем» и все вопросы должны решаться соответственно всеми теми, кого они касаются. Присвоение монопольного права распоряжаться чем-либо и принимать решения в обществе анархисты считали социальной узурпацией.
Монопольное сосредоточение земли и других средств производства в руках немногих дает им возможность и средства господствовать над трудящимися и эксплуатировать их труд. Экономика нацелена не на удовлетворение потребностей людей, а на получение прибыли привилегированными слоями. Производители общественных благ не могут распоряжаться плодами и результатами своего труда, но вынуждены работать на господствующее меньшинство, получая от него зарплату. Так формируются два класса с противоположными интересами, и только в ходе упорной борьбы с пассом капиталистов трудящиеся могут сплотиться как производители, обрести сознание и покончить с несправедливыми, насильственными отношениями в обществе [33].
Если в оценке экономического строя и классового характера капиталистического общества позиции Роккера и марксистов были сравнительно близки“ [34], тем не менее уже здесь бросается в глаза существенная разница в расстановке акцентов. Анархо-синдикалисты отказывались признать историческую «прогрессивность» капитализма и подчеркивали, напротив, что он идет к деградации человеческой личности. При этом они опирались на теорию Кропоткина о естественных, присущих человеку этических началах солидарности и взаимопомощи и обвиняли капитализм в их разрушении. «Разделение общества на классы и жестокая борьба "всех против всех”, эти характерные признаки капиталистического строя, одновременно оказывают пагубное воздействие на характер и моральное чувство человека, способствуют их деградации, оттесняя на задний план бесценные свойства взаимопомощи и солидарной общности, то драгоценное наследство, которое человечество сохранило от ранних периодов своего развития, и заменяя их болезненными, антисоциальными чертами и привычками...» — подчеркивалось в декларации.
Не менее разительным было расхождение анархо-синдикал истов и марксистов в вопросе об историческом месте, роли и предназначении государства. Либертарии отказывались видеть в государстве всего лишь простое орудие экономически господствующих классов, которое можно было использовать и в созидательных целях. «Хотя государство... в первую очередь стало продуктом частной монополии и классового разделения, но, раз возникнув, оно всеми средствами хитрости и насилия работает ради сохранения монополии и классовых различий и, следовательно, ради увековечения экономического и социального порабощения широких народных масс; оно выросло в процессе своего развития в гигантский институт эксплуатации всего человечества», — подчеркивалось в Декларации принципов синдикализма [35].
Рудольф Роккер, подобно «классикам» анархизма, видел историю человечества как противостояние двух принципов, начал или тенденций авторитарно-централистской или свободно-федералистской. Позднее в докладе на 14-м конгрессе ФАУД в Эрфурте (ноябрь 1922 г.) он развил этот взгляд, проследив разворачивание этих тенденций на протяжении эволюции европейских обществ. «Есть две формы социального общежития, — объяснял он. Бывает общежитие, облик которого диктуется людям сверху вниз какой-либо центральной властью. И бывает Общежитие, которое свободно развивается снизу вверх и находит свою естественную основу в общих интересах людей и в узах их взаимной солидарности» [36]. Выражением первой формы служат закон, централизованное государство и власть немногих; выражением второй — свободное соглашение, федерализм, общественное самоуправление, самодеятельность и творческая инициатива людей. Роккер подверг критике централистскую систему за умертвление личной инициативы, лишение человека всякой ответственности и превращение его в придаток огромной машины господства, структуры, искусственно созданной сверху. Государство «заинтересовано в том, чтобы взять под свой контроль все области человеческой деятельности, подчинить шаблону совесть, дух, способности человека»; индивид для него — всего лишь «колесико, винтик в огромном механизме», — говорил он. Такой механизм никогда не сможет служить делу освобождения. В отличие от централизма, этого «единства театра марионеток», «федерализм — это единство в силе... единство, которое опирается на общность интересов, солидарность и убеждения людей» [37].
Отрицая государство и политическую власть, анархо-синдикалисты негативно относились и к борьбе за ее завоевание, то есть к политической деятельности, участию в государственных институтах, парламентах и т.д. «Мы, синдикалисты, отказываемся признавать какие-либо экономические и политические институты подавления, принимая в них участие», — писал Фриц Эртер в брошюре, излагавшей взгляды немецких синдикалистов [38]. Согласно Декларации принципов, они отвергали «принципиально любую форму парламентской деятельности, любое сотрудничество в законодательных органах». Вместе с государством анархо-синдикалисты отрицали «все искусственно проведенные политические и национальные границы», принцип национального единства и милитаризм. Они считали национализм «религией современного государства», признавая в то же время лишь «различия региональной природы» и право каждой народной группы на то, чтобы «иметь возможность решать свои дела и удовлетворять специфические культурные потребности в солидарном согласии со всеми другими группами и народными объединениями» [39].
СВ противовес монополии на обладание и принятие решений анархо-синдикалисты провозгласили в качестве цели «вольный, то есть безгосударственный коммунизм», основанный на социализации земли, орудий труда, сырья и всех социальных богатств, реорганизации экономической жизни по принципу «Каждый по своим способностям, каждому по его потребностям!». Они считали социализм «вопросом культуры» и экономики, который могут осуществить только сами народные массы в ходе творческой, созидательной деятельности. Национализация же могла привести, с их точки зрения, лишь к государственному капитализму, «худшей форме эксплуатации» [40])
«Синдикалисты, — указывалось в Декларации принципов, стоят на почве прямого действия и поддерживают все устремления и любую борьбу народа, которые не противоречат их целям...» Их задача — просвещать и сплотить трудящихся с целью ведения экономической борьбы, находящей свое высшее выражение в социальной всеобщей стачке» [41]. В отношении методов борьбы в Декларации не говорилось ничего более конкретного, но в различных выступлениях анархо-синдикалисты подчеркивали, что основными для них являются экономические средства прямого действия. «В центральных профобъединениях стачка служит последним средством, когда все мирные способы исчерпаны, — объяснял М. Винклер. — У синдикалистов стачка и ссть среДспшо» борьбы [42]. Роккер коснулся и отношения синдикалистов к вопросу о насилии. Он полагал, что традиционное вооруженное восстание вряд ли может привести к победе революции: «Тот, кто верит, что при нынешнем состоянии современной военной техники может повести примитивно вооруженную массу против высокодисциплининованного врага, вооруженного самым современным оружием, тот поступает попросту безумно и бессовестно и сможет добиться лишь одного — кровавой бани». Но, осуждая путчи, Роккер в то же самое время отстаивал право на самооборону, на ответное насилие как средство самозащиты, отвергая, таким образом, чистый пацифизм [43].
Построение социализма, с точки зрения синдикалистов, не могло быть делом политической партии, но лишь организации самих трудящихся как производителей. Такой организацией, одновременно экономической и культурно-идейной, в соответствии с Декларацией, были революционные профсоюзы, орган в одно и то же время экономической борьбы и борьбы за социализм. В существующем обществе, объяснял Роккер, «синдикалисты должны не столько обращать внимание на организацию больших масс; главным вопросом следует считать просвещение членов с тем, чтобы они смогли действовать в надлежащий момент. Революции всегда начинали меньшинства, используя данные обстоятельства. Синдикалисты должны и хотят быть ударным отрядом социальной революции» [44].
Анархо-синдикализм видел «в профсоюзе не преходящий продукт капиталистического общества, а ячейку будущей социалистической экономической организации». Профсоюзы должны были уже в рамках существующего общества строиться так, чтобы в момент революции приступить к созданию нового строя. Отраслевым союзам, их местным органам и отделениям на предприятиях предстояло взять под свое управление от имени общества «все наличные средства производства, сырье и т.д.» и наладить работу и снабжение предприятий. Местные объединения профсоюзов всех отраслей и специальностей (рабочие биржи) призваны были в настоящее время координировать межпрофессиональную деятельность и вести революционную пропаганду, а в случае революции — превратиться «в своего рода местное статистическое бюро», взять в свои руки управление жильем, продовольствием и т.д., организовать потребление и т.д. С помощью общенациональной федерации бирж можно было бы затем наладить экономическое планирование снизу вверх в масштабе страны. «Иными словами: организация предприятий и мастерских производственными советами; организация производства в целом промышленными и сельскохозяйствснными союзами: организация потребления рабочими биржами» [45]. Кроме того, подчеркивал Роккер, предстоит не просто взять в свои руки управление существующими предприятиями, но реорганизовать всю структуру производства [46].
(Анархо-синдикалисты категорически отвергли упреки со стороны социалистов-государствснников в том, что они якобы намерены передать предприятия и отрасли в собственность отдельный трудовым коллективам и профсоюзам с тем, чтобы те хозяйствовали на свой страх и риск, ради собственной выгоды и не считаясь с интересами и пожеланиями других. «Следует прежде всего сказать, — подчеркивал Роккер, — что подобный ”синдикализм” существует исключительно в головах наших противников; именно синдикалисты — наиболее выраженные и убежденные представители коммунизма, чего нельзя сказать о тех, кто сегодня использует это имя в качестве партийной этикетки» [47].
На конгрессе возникла дискуссия о «диктатуре пролетариата». Этот термин все еще пользовался известной популярностью среди синдикалистов. Делегаты из Магдебурга, Шёнебска и Гроссоттерслебсна потребовали обсуждения этого вопроса. Роккср призвал в связи с этим различать два понимания «диктатуры пролетариата»: с одной стороны, «вмешательство государственной власти через посредство определенной партии», с другой — «волеизъявление пролетариата в час его победы». Первое, заявил он, синдикалисты отвергают, как противники государства, против второго им возразить нечего. Представитель Магдебурга объяснил, что, говоря о диктатуре пролетариата, имел в виду то, о чем сказал Роккер, и снял внесенное предложение. Но сторонник коммунистов, делегат союза различных профессий и строителей из Дюссельдорфа Альберт Крон выступил в роли оппонента Роккера. Он защищал диктатуру пролетарского «авангарда» и взятие политической власти, ссылаясь на то, что «немецкий пролетариат в целом еще недостаточно созрел». В ответ Роккер заявил, что он категорически против любой идеи «воспитательной диктатуры», поскольку та никогда не сможет ни убедить людей, ни приучить их быть свободными. Другие делегаты из Дюссельдорфа не поддержали Крона. В итоге предложенный Роккером проект декларации принципов был принят при поименном голосовании всеми, кроме самого Крона [48].
Организационная структура ФАУД была закреплена в документе под названием «Программные основы». Согласно ему в объединенис могли входить только профсоюзы, признающие классовую борьбу и противоположность интересов предпринимателей и рабочего масса. Вводилась единая система членских взносов. ФАУД состоял из отраслевых федераций, а также МЕСТНЫХ и фабричных организаций (при отсутствии отраслевых). На местах создавались отраслевые или профессиональные, а при наличии небольшого числа членов — межпрофессиональные союзы. Местные отраслевые и профессиональные союзы соединялись в общенациональные федерации, но сохраняли автономию и собственные статуты, не противоречащие статутам и принципам ФАУД. Все союзы, расположенные в одной местности, соединялись в «картель» — рабочую биржу; все биржи одного региона (провинции и т.д.) соединялись в «агитационные округа», проводили конференции и формировали агитационную комиссию. Исполнительные органы федераций и бирж образовывали «рабочее сообщество» [49] В задачи федераций входило в перспективе «взять производство во всех отношениях в свои руки, организовать добычу и доставку сырья и содействовать доставке готовых товаров к местам потребления» [50]. Местная рабочая биржа («биржа труда») финансировалась местными союзами. Эта организация должна была обсуждать и решать общие местные проблемы, заниматься культурной, образовательной и агитационной работой, развивать дух солидарности. В будущем обществе, по мнению синдикалистов, на несложилась задача выявления потребностей населения, составления заказов, которые должны были доводиться до производителей, и организации распределения готовых изделий. Местные биржи затем объединялись в окружные и провинциальные. Предполагалось создать в будущем общенациональную Рабочую биржу) [51]
Таким образом, ФАУД имел классическую революционно-синдикалистскую двойную структуру профессиональноотраслевую и территориальную.
При обсуждении федеративного принципа организации на 12-м конгрессе возникли споры. Представитель Кёльна Пстер Хеккер заявил, что его коллеги «принципиально» отвергают «профессиональную федерацию, поскольку при такой форме организации умерщвляется синдикалистский дух и развивается профессиональное чванство». Он выступил за полную автономию местных групп. Однако эта идея была отвергнута, и принцип федераций принят [52].
Высшим представительным органом ФА УД, согласно «Программным основам», был конгресс, на который собирались делегаты от федераций и отдельных местных организаций; он должен был созываться нс реже одного раза в два года. В профобъединении не было центрального руководящего органа с директивными полномочиями. Высшей исполнительной инстанцией признавалась располагавшаяся в Берлине Административная комиссия из девяти человек, призванная «распространять устно и письменно идеи синдикализма и углублять их, поддерживать организационную связность ФАУД» и координировать оказание солидарной помощи в случае забастовок, конфликтов, управлять денежными средствами ФАУД, издавать печатный орган «Дер Синдикалист», распространять книги и брошюры. Комиссия избиралась конгрессом. 12-й конгресс по настоянию берлинских делегатов постановил, что лишь три из девяти членов комиссии (председатель, кассир и редактор газеты) должны быть освобожденными работниками. Создавалась также комиссия по печати. 12-й конгресс избрал председателем АК Ф. Катера, кассиром Ф. Барвича, редактором Винтера [54].
Общим итогом 12-го конгресса ФАУД и принятых им решений было решительное размежевание немецкого синдикалистского движения с большевизмом и его переход на позиции анархо-синдикализма. Подтвердив приверженность революционно-синдикалистским принципам, оно в то же самое время открыто соединшю их с анархистской целью — разрушением государства и созданием общества вольного коммунизма.
К..В революционных событиях 1920 г. немецкие анархо-синдикаисты часто оказывались в самых первых рядах. Во время реакционного капповского путча в марте отделения ФАУД возглавили стачку и борьбу с мятежниками во многих городах страны. В ряде районов забастовка переросла в революционное рабочее восстание.
Синдикалисты участвовали в Советах Эссена, Мюльгейма, Оберхаузена, Дуйсбурга, Динслакена, Дортмунда. В Мюльгейме и Хамборне фабричные Советы, по предложению ФАУД взяли в свои руки («социализировали») заводы Тиссена [54]. Число членов ФАУД среди бойцов «Красной армии» Рура составляло до 4570 [55]. В промышленность городе Зёммерда, где большинство рабочих после поездки туда Роккера входило в ФАУД, синдикалисты и левые коммунисты провозгласили Советскую республику [56]. Административная комиссия ФАУД осудила «крайние» действия местных организаций, заявив, что «вооруженное действие не может быть подходящим средством для того, чтобы побороть вооруженное насилие» [57]. Восстание рабочих Рура было подавлено. Позиция лидеров ФАУД вызвала сильное негодование «на местах». Стали раздаваться требования включить пункт о применении насильственных методов борьбы в Декларацию ПРИНЦИПОВ организации [58] форажения 1920 г. привели к некоторому ослаблению движения. Число членов союза сократилось до 100 561 в 1921 г. [59] 13-й конгресс ФАУД в Дюссельдорфе (9—14 октября 1921 г.) ужесточил отношение немецких анархо-синдикалистов к политическим партиям. «Все существующие политические партии, подчеркивалось в принятой резолюции, — стоят на позиции завоевания политической власти в государстве... Опыт показал, что любая партия, добившаяся обладания властью, неминуемо действует статично и, как следствие, реакционно». Напротив, ФАУД стоит «на почве антиавторитарного социализма, предпосылкой которого является ликвидация любой политической власти» и на почве федерализма. Он «рассматривает экономические организации всех производителей», исполненных «духом солидарности» и взаимной помощи, «в качестве фундамента нового общества». «В соответствии с этим, провозглашала резолюция, — члены синдикалистской организации не могут принадлежать к политической партии» [60]. Таким образом, ФАИ впервые в практике европейского синликализма запретил членам патипшчески партий членство в синдикалистских рабочих союзах.
В соответствии с одобренной линией на сохранение независимости от большевизма, на передний план в международной деятельности ФАУД выступала идея сплочения революционно-синдикалистских сил. 12-й конгресс поручил Административной комиссии совместно с Правлением Нидерландского секретариата труда подготовить проведение в 1920 г. международного синдикалистского конгресса и создание синдикалистского Интернационала [61]. Конференция ФАУД в марте 1921 г. в Берлине постановила 32 голосами против девяти избрать делегатов на конгресс Профинтерна в Москве для действий по созданию синдикалистского Интернационала в рамках выработанных принципов, но провести референдум среди членов по вопросу о том, следует ли им ехать в Москву. Однако участие в референдуме оказалось крайне низким: высказались всего 108 организаций с 25561 членом. Из них за посылку делегатов высказались 6165 человек, против — 7321, и 12075 воздержались. Многие организации ограничились простым заяњлением о том, что они разделяют позицию Административной комиссии или что они выступают против отправки представителей [62]. В течение 1921 г. анархо-синдикалисты усилили критику создаваемого большевиками Профинтерна.
Коммунисты с возмущением сообщали в Москву о том, что на конгресс Немецкого союза моряков в Гамбурге в ноябре 1921 г. был специально приглашен Роккер, которому удалось повести «за собой большинство на этом конгрeсс». В итоге была принята резолюция, отвергавшая участие в Профинтерне и призывавшая к созданию отдельной революционной международной организации моряков [63].
В начале 1922 г. была предпринята, вероятно, последняя попытка договориться о сотрудничестве левых рабочих организаций Германии. 14 февраля в Бохуме состоялась конференция революционных профессиональных и рабочих союзов, в которой приняли участие «Союз работников физического и умственного труда» (ориентировался на Коммунистическую партию Германии), ФАУД, всеобщий рабочий союз (ВРС, находился под влиянием Коммунистической рабочей партии Германии) и лево-коммунистический ВРС — «Единая организация». Участники постановили образовать «единый фронт» борьбы против классового сотрудничества при сохранении каждой организацией своих принципов и тактической самостоятельности. Однако вскоре ВРС объявил о расторжении соглашения как противоречащего программе его партии [64].
Несмотря на официальное решение о недопустимости участия своих членов в политических партиях, на местах ситуация в первый период могла выглядеть иначе. Так, в мае 1922 г. германские коммунисты из Рура жаловались в Профинтерн на то, что синдикалисты из ФАУД «имеют настоящие ячейки в КПГ». «Здесь имеются местные группы, в которых председателем является синдикалист, — писали они.
Это, конечно, неприемлемое положение». В Мюльгейме ФАУД и ориентировавшийся на коммунистов «Союз работников физического и умственного труда» выпустили к маю листовку, осуждающую КПГ за участие в общей демонстрации с социал-демократами и социал-демократическими профсоюзами. «Это стало возможным лишь потому, что большая часть функционеров КПГ состоит в ФАУД», — сообщал из Бохума коммунист Б. Экард [65]. Потребовалось время, прежде чем между синдикалистами и коммунистами произошло окончательное размежевание.
Период 1921—1922 годов стал временем организационного укрепления немецкого анархо-синдикалистского движения. действовали отраслевые федерации в строительстве, горнодобывающей, лесной промышленности, металлургии, на транспорте, создавались рабочие биржи там, где их прежде не было. 4—5 июня 1922 г. была организована общенациональная конференция бирж в Эрфурте, собравшая представителей 35 таких картелей, которые включали 204 профсоюза, то есть примерно половину всего ФАУД. Участники сформулировали задачи бирж: им следовало в первую очередь вести агитацию и пропаганду, заниматься обучением и просвещением членов, организовывать и проводить совместные акции всех входящих в них профсоюзов, готовить меры по осуществлению экономической организации будущего общества, привлекать женщин в синдикалистское движение и работать с молодежью. Внутри отдельных бирж создавались комиссии по отдельным вопросам и направлениям деятельности. Предусматривалось проведение конференций, на которых рабочие биржи могли бы обмениваться опытом и решать общие проблемы [бб].
На 14-м конгрессе ФАУД в Эрфурте (19—22 ноября 1922 г.) делегаты приняли резолюцию «Методы прямого действия в революционной классовой борьбе», расширив таким образом соответствующие положения Декларации принципов синдикализма. Охарактеризовав прямое действие как самостоятельную борьбу рабочих за собственносе освобождение, делегаты выделили такие ее формы, как частичные и мелкие забастовки (средства достижения лучших условий труда и жизни, «подготовительная школа» всеобщей стачки), пассивное сопротивление на предприятии, работа со строгим соблюдением всех правил и инструкций, обструкция (замедление темпов работы), саботаж как форма «экономического террора», бойкот и штемпелевание товара специальным профсоюзным клеймом, адресованным покупателю, демонстрации, антимилитаристская борьба и, наконец, «социальная всеобщая стачка» как «начало революции». Такая стачка, указывалось в резолюции, «означает не только пассивное бездействие всех трудящихся, но и выступление всего производящего населения за создание новой формы общества». В решении подчеркивалось, что участие в любых государственных органах и институтах противоречит методу прямого действия. В качестве таких органов рассматривались и производственные советы, созданные в соответствии с законодательством. При обсуждении этого пункта ряд делегатов высказал свое возражение, и резолюция была принята лишь с оговоркой, что она не означает исключения тех, кто участвует в выборах в производственные советы [67]. Конгресс официально переименовал ФА УД (синдикалисты) в ФАУД (анархо-синдикалисты).
(В 1922 г, согласно данным «Словаря по общественно-политическим наукам», в ФАУД состояли 168,7 тысячи членов [68]. Правда, один из лидеров профобъединения Герхард Вартенбург (КВ. Герхард) утверждал позднее, что уже к 1922 г. число членов сократилось до 80 тысяч [69].
В идейном отношении в ФАУД в этот период царило брожение. «В эти нестабильные времена и мог родиться лозунг о смертельном кризисе капитализма“ — лозунг, который в большой мере господствовал в агитации и тактических ориентирах ФАУД, — вспоминал Вартенбург. — В остальном мир идей ФАУД был таким же диким и путаным, как и вся эпоха. Всеобщая стачка, восстание, будущие задачи бирж труда, идеи реформы жизни, индивидуализма, поселений, мистики — все перемешивалось в пестром мелькании. Особенно плохо дело обстояло, кажется, на Дюссельдорфском конгрессе 1921 г.; следующий (конгресс) в Эрфурте принес уже некоторое прояснение. Но то здесь, то там все еще появлялись Христы и шарлатаны и туманили товарищам головы». Роккер, Катер, Барвич и другие пытались в ходе своих агитационных туров прояснить направление действий, но речь все еще шла больше о принципиальных моментах; актуальные тактические и организационные вопросы оставались пока на втором плане. ФАУД «не умел еще освободить свои ряды от неясных элементов». Зарубежные организации собирали значительные суммы для немецкого движения [70].
«Мы спорим о тысяче самых ничтожных вещей и множим повторения на повторения, — сетовал Роккер на 14-м конгрессе ФАУД в Эрфурте в 1922 г. — Мы изливаем свою желчь и называем это принципом и еще удивляемся, когда подобное поведение лишает лучших из нас желания работать» [71]. На этом конгрессе было представлено более 70 тысяч членов [72].
Сложными оставались отношения немецкого анархо-синдикализма с собственно анархистскими организациями. В послевоенном СОНП было немало видных деятелей довоенного немецкого анархизма (Роккер, Фриц Кёстер, Фриц Эртер, Оскар Коль и др.), которые способствовали переходу этой организации с революционно-синдикалистских на анархо-синдикалистские позиции. Однако между «старыми синдикалистами» и анархистами в ФАУД шли споры о том, чем же все-таки в первую очередь должен быть союз — идейной организацией или социально-революционным профсоюзом? Сторонники развития анархизма как движения за новую культуру и новый образ жизни создавали различные аграрные коммуны и общины (такие как «Свободная земля» под Дюссельдорфом), но в руководстве ФАУД преобладало отрицательное отношение к таким инициативам [73].
Одновременно с оформлением анархо-синдикалистского движения немецкие анархисты создали после войны Федерацию коммунистичсских анархистов Германии (ФПГ), Декларация принципов которой в 1919 г. была также написана Рокксром. В 1922 г. в федерации имелось до 500 членов. Наиболее заметной фигурой в ФКАГ был берлинский металлист Рудольф Эстрайх, активно действовавший первые годы и в ФАУД. В октябре 1921 г. на 13-м конгрессе ФАУД редактором центрального органа союза «Дер Синдикалист» был избран анархист Ф. Кёстер, однако уже в марте 1922 г. Административная комиссия сместила его с этого поста за публикацию статей о коммунитарные поселениях. Союз берлинских металлистов под влиянием Эстрайха взял Кёстера под защиту и отказался уплачивать членские взносы в ФАУД, за чем последовало его исключение. Металлисты столицы стали ориентироваться на ФКАГ и печатать свои материалы в ее органе «Дер Фрайе арбайтер». С конца 1921 г. Эстрайх действовал в Рейнской области и возглавлял «окружную биржу правостороннего Дюссельдорфа». В мае l922 г. это течение развернуло кампанию против «бюрократизации ФАУД», протестуя против создания поста освобожденного председателя агитационной комиссии региона Рейнданд-Вестфалии и требуя передачи функций комиссии местным рабочим биржам. На 14-м конгрессе ФАУД Эстрайх вновь обрушился на «синдикалистскую фракцию» в ФАУД [74].
Острые споры продолжились на конгрессе ФКАГ в Берлине весной 1923 г. Помимо Роккера, сделавшего доклад на тему «Анархизм и национализм», выступали и другие видные анархисты. Эстрайх резко отзывался о синдикалистах, которые не имеют ничего общего с коммунистическим анархизмом, занимаются исключительно борьбой за экономические интересы работников и стремятся превратить синдикализм в «объединение по экономическим интересам, которое больше проявляет себя в стачках за зарплату и в сотрудничестве с централистскими профобъединениями, нежели в прямых действиях — оружии анархистов». Он призвал анархистов «перенести ЦEНТР... дeятсльности в анархистские организации». Он предложил соответствующий проект резолюции, в котором, правда, содержалась оговорка: анархистам следует отказаться от создания собственных организаций «повсюду там, где возможно сотрудничество с синдикалистскими товарищами в духе анархизма». Берлинские анархисты пошли еще дальше, настаивая на повсеместном создании отдельных анархистских групп. Наоборот, другие делегаты добивались более тесного сотрудничества между анархистами и синдикалистами, а также участия анархо-коммунистов как в ФПГ, так и в ФАУД, который благодаря «своему федералистскому устройству и принципиальной позиции превратился в носителя идей коммунистического анархизма в области классовой борьбы». Анархист Бютгнер из Лейпцига внес резолюцию, призывавшую всех коммунистических анархистов всеми силами работать в ФАУД и одновременно укреплять анархистские организации. В итоге конгресс одобрил оба проекта — Эстрайха и Бюттнера. (Было принято также решение о создании поста освобожденного редактора газеты «Дер Фрайс арбайтер», что далось многим делегатам «с тяжелым сердцем».) Все это не привело к улучшению отношений. Редакция газеты «Дер Синдикалист» обвинила Эстрайха в непонимании сущности синдикализма [75]. Антисиндикалистский анархизм сти объектом резкой критики [76]. Впоследствии в 1927 г. Р. Эстрайх был исключен из федерации металлистов ФАУД за «неоднократные действия, наносящие ущерб организации и имеющие нетоварищеский характер». В 1928 г. он (анархист!) даже подал в суд на Роккера, Рюдигера и др., обвинив их в «нанесении оскорбления» [77].
Еще одной темой споров в немецком анархо-синдикализме стал вопрос о применении насильственных форм борьбы. В одной из статей, опубликованных в органе ФАУД «Дер Синдикалист», признавалось: «У нас есть все — от сторонников абсолютного ненасилия до абсолютных приверженцев насилия» [78]. Некоторые возражали против метода вооруженной борьбы. считая его заведомо проигрышным для трудящихся. Так, авторитетный активист Фриц Эртер утверждал: «При противоборстве двух сторон, прибегающих к организованному насилию, победителем всегда выйдет та из них, которая ЛУЧШС вооружена, дисциплинированна и централизована. Это, в большей части случаев, господствующий класс, обладающий прекрасно обученной армией и самым превосходным вооружением... Не существует социализма, дорога к которому может быть открыта пулеметами» [79]. Вместо этого рабочим, по его мнению, следовало полагаться на всеобщую стачку. Подавление рабочего восстания в Руре в марте 1920 г. обострило споры о насилии в ФАУД. Круги, связанные с Административной комиссией, склонились в конечном счете к тому, чтобы рассматривать вопрос как чисто тактический. Они подчеркивали, что в принципе выступают против строительства и поддержания будущего свободного общества при помощи насилия, но допускали при этом использование насильственных методов в ходе социальной борьбы и революции [80]. Одновременно синдикалисты осуждали попытки коммунистов, вызвав восстание, «революционизировать» рабочий класс [81]. «Мы — противники фраз о насилии, за прекращение любого производства оружия и военной продукции и за разрушение имеющегося военного снаряжения во всех странах. Несмотря на это, мы сознаем, что при всеобщей стачке или иных боях между капитализмом и государством, с одной стороны, и пролетариатом, с другой, могут произойти акты насилия» [82]. Но и здесь в движении не было единства. Острая дискуссия в этой связи происходила, к примеру, на 13-м конгрессе ФАУД в октябре 1921 г. Лишь на 14-м конгрессе в ноябре 1922 г. была принята точная характеристика методов борьбы прямого действия — частичной стачки, «пассивного сопротивления» (работы строго «по ИНСТРУКЦИИ», замедление работы), саботажа (порчи изделий, разрушения машин в ситуации обострения классовой борьбы, демонстративного изготовления изделий более высокого качества, отказа от производства вредных товаров и от сдельщины), бойкота, демонстраций, антимилитаризма и всеобщей стачки как «пролога СОЦИАЛЬНОЙ революции». Особо подчеркивалось неучастие в любых государственных институтах и органах, хотя была сделана оговорка: участиe в официальных производственных советах нс рассматривалось как повод для автоматического исключения из организации [83].
В начале 1920-х годов начало оформляться молодежное анархистское и анархо-синдикалистское движение. Его базой стали группы «Свободной молодежи», отколовшиеся в 1919 г. от коммунистического молодежного движения, молодежные организации, созданные региональными «рабочими биржами» ФАУД и т.д. В этих группах «первоначально преобладали не столько элементы основательного знакомства с анархистской теорией, сколько...контркультурные стили поведения», «практиковались нудизм, а также свободомыслие», туризм, изучение эсперанто, культура отдыха и т.д. [84] В 1921 г. в Дюссельдорфе была созвана конференция молодежи, в которой приняли участие сторонники различных левых течений — левых коммунистов, синдикалистов, анархо-коммунистов, синдикалистов и т.д. Победу на ней одержали сторонники молодежного «анархизма как образа жизни», противники принятия четких статутов и декларации принципов. Сторонникам ФАУД удалось создать собственный организационный центр и созвать в 1922 г. в Эрфурте вторую конференцию, на которой была оформлена «Синдикалистско-анархистская молодежь», признавшая в качестве основы декларации ПРИНЦИПОВ Федерации коммунистических анархистов и ФАУД. Молодые анархисты и синдикалисты считали необходимым вступление в эти организации. 14-й конгресс ФАУД после споров между сторонниками автономной организации молодежи и ее организации в рамках ФАУД признал существование САМ [85].
Итальянские революционные синдикалисты в «Красные годы»
Русская революция 1917 г. придала новый импульс революционному классовому движению в Италии. Оно резко усилилось после окончания в ноябре 1918 г. Первой мировой войны
В марте 1919 г. в Дальмине-ди-Бсргамо произошел первый захват фабрики рабочими. Итальянский синдикальный союз (УСИ) уже летом 1919 г. возглавил стачечное движение. В июне синдикалисты организовали забастовку в Специи. На ее подавление были брошены силы карабинеров, что вызвало массовый взрыв протеста. Город оказался в руках демонстрантов и военных моряков, которые поддержали восставших. В ходе протестов против дороговизны в Сестри-Поненте были убиты два активиста УСИ — Феди Манлио и Репетто. Начали организовываться рабочие вооруженные группы («Красная гвардия»); учащались случаи бунтов в частях, посылаемых на усмирение народных выступлений.
24 июня 1919 г. Генеральный совет профсоюза металлургов УСИ на собрании в Болонье принял решение начать всеобщую кампанию за отмену единого устава предприятий. 20—21 июля, за 48 часов до намеченной всеобщей стачки, собравшийся в Болонье Исполком УСИ был арестован; его членов продержали в тюрьме 10 дней, но стачка состоялась. Аналогичные меры были предприняты против активистов УСИ в других крупных рабочих центрах. Поднималась волна крестьянских выступлений, которые сотрясали Юг и долину реки [86].
УСИ ориентировался в этот период на единый фронт с другими левыми и революционными организациями. С этой целью 24— 25 июня l919 г. в Болонье была организована встреча между представителями союза, социалистов-максималистов (будущих коммунистов), анархистов и различных профсоюзных сил [87]. На встрече в том же году в Риме УСИ предложил создать альянс для совместного наступательного и оборонительного действия [88]. Как объяснял позднее секретарь УСИ. Борги в докладе Учредительному конгрессу Международной ассоциации трудящихся в Берлине (1922), «именно в тот момент мы пытались осуществить единство действий левых ради революции, которая, как мы ощущали, близится и которую мы ожидали со дня на день, на что нам ответили презрительным и... научным отказом, сформулированным руководящими мыслителями марксизма, и формальным отказом их партии и их профсоюзов» [89].
В этой накаленной атмосфер 20—23 декабря 1919 г. в Парме проходил 3-й конгресс УСИ. В нем приняли участие делегаты от Палат труда (местных профсоюзных объединений) Болоньи, Модены, Пьяченцы, Сестри-Поненте, Сампьердарены, Вероны, Каррары, Тольмеццо, Пьомбино, Пизы, Вьяреджо, Терни, Бари, Чериньолы и Минервино-Мурдже, синдикальных союзов Милана, Брешии, Феррары, Турина, Ла-Специи и Флоренции, национальных синдикатов мсталлургов и шахтеров, моряков Фано и других местных союзов, представляла в общей сложности 300 тысяч трудящихся. Конгресс отверг стремление меньшинства к объединению с реформистской Всеобщей конфедерацией трудящихся (ВКТ). Секретарем УСИ был переизбран Армандо Борги, штабквартира союза перенесена из Болоньи в Милан. В секретариат вошли также Алибрандо Джованнетти из Национального профсоюза металлургов, один из наиболее компетентных профсоюзных кадров союза, и поэтесса Вирджилия Д'Андреа. Административный секретариат во главе с Джузеппе Сартини остался в Болонье [90].
УСИ поддержал идею захвата фабрик рабочими. 3-й конгресс провозгласил систему «автономных и вольных» Советов «антитезой государству». Советы должны были стать органом как оборонительного действия трудящихся, так и администрации будущего общества. УСИ поддержал инициативы рабочих по созданию фабричных Советов и призвал не допустить их реформистской «дегенерации» [91]. В первую очередь следовало препятствовать превращению Советов в орган «рабочего контроля», понимаемого как участие трудящихся в «управлении» капиталистическим производством. Им предстояло, по мнению синдикалистов, стать инструментом наблюдения за действиями администрации, «с точки зрения защиты прав и интересов трудящихся», а в момент революции и после нее — органом рабочего управления производством» [92].
Еще одним важным решением конгресса стала резолюция о присоединении УСИ к Коминтерну, в котором итальянские синдикалисты видели возрождение Первого Интернационала.
В 1920 г. УСИ принял активное участие в движении за рабочие Советы. В феврале в Сестри-Поненте по инициативе синдикалистского профсоюза металлургов ПРОИЗОШСЛ захват рабочими 5 фабрик. Захваты распространились на Дженовезато и Виареджо. На фабриках установилась организация в виде Советов, выполнявших волю внутренних общих собраний рабочих. В марте рабочие выступления охватили Турин и в апреле распространились на весь Пьемонт: в выступлениях участвовали батраки и рабочие. Произошли захваты фабрик в Неаполе. В Пьомбино рабочие, организованные в УСИ, подняли восстание в знак протеста против увольнения 1500 работников фирмы «ИЛ ЬВА» и завладели городом, подняв черно-красный флаг союза. После введения осадного положения выступление было подавлено [93].
Синдикалисты выступали также организаторами стачек батраков и сельскохозяйственных рабочих, антимилитаристских действий. В июне 1920 г. в Анконе вспыхнуло народное восстание, когда при поддержке местной Палаты труда солдаты отказались отправляться воевать в Албанию. Развернулась настоящая городская партизанская война: солдаты и население сражались против полиции и правительственных гвардейцев. Выступление удалось подавить лишь ценой огромных усилий; 500 человек были арестованы. Однако в результате Италия была вынуждена вывести войска из Албании [94].
Летом 1920 г. началась общенациональная стачка металлургов, требовавших заключения нового коллективного договора. 29 июля на собрании в Сестри УСИ подверг критике ограниченность забастовки, вызванной обструкцией со стороны предпринимателей, и призвал приступить ко «всеобщему захвату фабрик рабочими». Стачка стала прелюдией к захвату предприятий; это подтвердила национальная конференция УСИ в Специи 19 августа. 21 августа профсоюзы металлистов ВКТ (ФИОМ) и УСИ объявили о начале обструкции на предприятиях. 30 августа миланские промышленники объявили локаут; в ответ вооруженные рабочие захватили 300 фабрик. Затем захваты распространялись на всю Италию. «Красные гвардии» разместились на предприятиях, железнодорожники доставляли товары непосредственно со станций на захваченные фабрики. Предприятия продолжали работу, причем технические и административные функции и оборона были возложены на фабричные Советы.
7 сентября УСИ провел в Сампьердарене конференцию, открытую для всех профсоюзов Лигурии, вне зависимости от того, к какому профсоюзу они принадлежали. В конференции участвовали также профсоюзы железнодорожников, портовых рабочих и моряков. Существовали планы захвата рабочими порта Генуи и распространения революционного движения на все предприятия Лигурии. Однако делегация ВКТ на конференции (особенно туринский анархист Гарино) приложила все усилия для того, чтобы убедить делегатов отложить принятие решения до общенациональной профсоюзной конференции в Милане. Но на этот форум в Милане представителей УСИ нe допустили, и преобладавшие на ней социалисты и профсоюзные лидеры предпочли линию компромисса с правительством. 19 сентября представители правительства и ВКТ договорились о прекращении движения в обмен на некоторое повышение зарплат и согласие властей на расширение «контрольных» ФУНКЦИЙ рабочих представителей на предприятиях.
Несмотря на это, многие трудящиеся еще в течение недели продолжали оккупацию фабрик. В Сестри 21 сентября активисты УСИ призвали не покидать фабрику и нашли поддержку у всех рабочих. Однако в конечном итоге движение сошло на нет.
23 сентября премьер-министр Италии Джолитти попытался «смягчить» непримиримую линию революционных синдикалистов, предложив им направить своих представителей в комиссию, которая должна была подготовить закон о рабочем «контроле». Но ему не удалось уговорить УСИ, в котором насчитывалось уже 500 тысяч членов. Союз отверг предложение, заявив, что нс может быть никакого сотрудничества с системой эксплуатации. Тогда власти решили «обезглавить» профсоюз с помощью волны арестов, направленных против его Палат труда. Одновременно активизировались фашистские отряды, начавшие нападать на трудящихся.
Через 20 дней после окончания захвата фабрик члены Генерального совета УСИ, собравшиеся в Болонье, были арестованы и обвинены в покушении на безопасность государства. Крупные смы правительственных гвардейцев и карабинеров заняли улицы вокруг Палаты труда. Делегатов УСИ погрузили на грузовик, доставши в полицейское управление, а затем в тюрьму. Несмотря на репрессии, УСИ смог организовать в ответ уличные акции в поддержку жертв политического террора [95].
В начале марта 1921 г. после убийства двух рабочих на митинге миланские трудящиеся по призыву УСИ присоединились ко всеобщей стачке, продолжавшейся до 3 марта. 22 марта УСИ организовал новую всеобщую стачку протеста в поддержку своих арестованных членов. Выступление парализовало порт Генуи и многие центры Тосканы, Лигурии, Эмилии-Романьи, Марке и Пулии [96]. В 1921 г. синдикалисты призвали все пролетарские организации к сотрудничеству в борьбе против судебных процессов над участниками борьбы за захват предприятии [97].
Уже в 1920 г. Ленин пытался воздействовать на УСИ, чтобы поставить его под влияние коммунистов. Приглашенный в Москву секретарь УСИ Борги встретился с Лениным, но отказался заключить какое-либо соглашение, которое бы подчинило профсоюз контролю партии. По возвращении в Италию Борги был арестован за участие в движении захвата фабрик. Приверженцы компартии пытались взять в свои руки УСИ, использовать его (под предлогом профсоюзного объединения) для более удачной борьбы с реформистами и овладения ВКТ. Эта часть УСИ получала финансовую помощь от партии. Ее возглавил Джузеппе Ди Витторио (после Второй мировой войны возглавивший ориентированную на компартию ВИКТ). В мае 1921 г. два представителя этого течения (Ди Витторио и Анджело Фаджи) выступили на парламентских выборах, поставив тем самым под сомнение традиционную антигосударственную линию союза. В июле 1921 г. делегация УСИ отправилась на учредительный конгресс Профинтерна в Москву. Делегаты Дуилио Мари и Никола Вскки подписали пакт о «тесном сотрудничестве» между УСИ и компартией и о стремлении к профсоюзному единству с ВКТ. Они не имели на это никакого мандата со стороны Генерального совета УСИ, заседавшего в мае 1921 г. в Пьяченце; напротив, им следовало действовать в соответствии с предложенной Джованнепи «Декларацией принципов», в которой содержалась критика Профинтерна [98].
После возвращения в Италию делегат Никола ВикИ, лидер синдикалистов Вероны, представил отчет на заседании Исполкома профобъединения, рекомендуя ратифицировать присоединение к Московскому Интернационалу. А. Борги, разочаровавшийся в большевиках еще в период своего пребывания в Москве в 1920 г. и недавно освобожденный из заключения, выступил против ратификации вступления и пакта единства. Несмотря на сго сопротивление, Вскки удалось добиться публикации отчета делегации в печатном органе УСИ — газете «Герра ди классе» и созыва заседания Исполкома. На нем произошла острая дискуссия между Векки и Борги, никакого решения принято не было, и вопрос передали на рассмотрение Генерального совета УСИ. В ходе частной встречи оба лидера договорились о том, что ни один из них нс будет выступать на совете.
На заседании Генерального совета были непосредственно представлены 18 местных секций УСИ из 68, от имени большинства остальных выступали их секретари. Векки не присутствовал, как он утверждал, поскольку был вовлечен в тяжелую стачку в Порденоне, а Борги принял в работе совета самое активное участие и сумел добиться принятия тех решений, каких он и добивался. Участники заседания заявили, что не отвергают идею «рабочего единства» в принципе, но сочли, что возникшая в последние годы «пагубная атмосфера ненависти и партийного соперничества» не является «благоприятной для объединительных подходов». Условисм единства УСИ назвал исключение «всяких политических партий», ВЮ1ЮЧСНИе в него «всех профсоюзных фракций меньшинства» и невмешательство со стороны любой партии. Что касается вопроса об Интернационалах, то Генеральный совет подтвердил прежние решения, на основе которых в 1919 г. УСИ постановил присоединиться к Коминтерну, и стремление к «единству на широких основах Первого Интернационала», но отметил: «...отношения УСИ с Третьим Интернационалом останутся в состоянии духовного присоединения». пока он останется тем, что он есть, — объединением партий, а не революционных рабочих союзов [99]. В ходе заседания Генерального совета Борги ушел с поста секретаря УСИ, перешав его Джованнетги, который разделял его взгляды по основным вопросам.
Сторонники Профинтерна были недовольны решениями Генерального совета, которые Векки в письме в Профинтерн 26 ноября 1921 г. назвал «двусмысленными и противоречивыми». Он уверял, что последующие встречи с руководством Палат труда в Вероне, Пулии, Пьяченце, Парме, Милане, Каррарс и ряде других городов, представляющих 250 тысяч членов УСИ, выявили широкую поддержку членства в Профинтерне и «рабочего единства». Вскки и его ПРИВФЖСНЦЫ постановили оформить свою фракцию и добиваться скорейшего созыва конгресса УСИ, рассчитывая, что на нем, как он писал в Москву, руководство «перейдет в наши руки». Он просил Профинтерн о помощи, с тем чтобы начать издавать печатный орган, в котором рассчитывал вести соответствуюшую пропаганду [100]. Таким органом стало издание «И нтернационале» в Вероне.
Разногласия между сторонниками Профинтерна во главе с Векки и противниками большевизма во главе с Борги и Джованнетги нарастали. Первые созвали 29 января 1922 г. «национальный синдикалистский конвент» в Парме. На нем были представлены Палаты труда Вероны, Бассо-Вичентино, Монтаньяны, Пьяченцы, Терни, организация УСИ Пармы, все организации Апулии (за исключением Андрии). Как утверждал Векки, эту линию поддержали также синдикалисты из Каррары, Генуи и Нижней МОДСНЫ, а организации Болоньи воздержались по вопросу о вступлении в Профинтерн, но высказывались за «пролетарское единство» [1О1]. На конвенте было официально провозглашено создание «Революционно-синдикалистской фракции в УСИ» (РСФ): само название группировки должно было подчеркнуть ее притязание на защиту «подлинного» революционного синдикализма в противовес анархистам. Программа РСФ включала защиту и пропаганду принципов революционного синдикализма, подтверждение вступления УСИ в Профинтерн, достижение «пролетарского единства» на основе Московского пакта и поддержку «любых инициатив, направлснных на объединен ис РEВОЛЮЦИОННЫХ сил, стоящих на почве массовой борьбы». Фракция решительно осудила планы создания нового синдикалистского Интернационала. На конвенте были утверждены ПРОСКТЫ резолюций, которые она намеревалась внести на конгрессе УСИ [102]. Векки сообщал Профинтерну, что рассчитывает на поддержку организаций, объединяющих 250 тысяч членов УСИ, в то время как 100 тысяч (Тоскана, Турин и другие) поддерживают Борги, а 50 тысяч занимают нейтральную позицию, особенно в вопросе о присоединении к Московскому Интернационалу. Чтобы добиться победы своей линии на конгрессе, РСФ предложила изменить нормы голосования в УСИ на пропорциональные с тем, чтобы делегаты представляли не ОТДСЛЬНЫе местные организации и союзы, а определенное число членов. Но изменить соответствующим образом устав УСИ фракции не удалось [103]. Более того, реальность цифр, приводимых Векки, в тот момент уже вызывала существенное сомнение. Сам лидер РСФ признавал, что численность и активность членов УСИ существенно сократились из-за террора фашистов, разгромивших, в частности, организации в Апулии, Пьяченце и других районах, где было уже невозможно созвать местные собрания членов [104]. Итальянская компартия утверждала в конце декабря 1921 г., что в УСИ осталось не более 100 тысяч членов. Ее отношения с РСФ осложнялись попытками сторонников Векки убедить коммунистов выйти из ВКТ и присоединиться к сго фракции, чтобы усилить ee [105])
С 10 по 12 марта 1922 г. в Риме проходил 4-й съезд УСИ. Несмотря на климат репрессий и фашистские провокации, в нем приняли участие многие Палаты труда. Конгресс закрепил эволюцию итальянского профобъединения от довоенного революционного синдикализма к анархо-синдикализму.
Главным обсуждавшимся вопросом стала международная ориентация синдикалистского профобъединения. Предложенное Ченнини безусловное присоединение к Профинтерну было отклонено почти единогласно [106]. Фракция Н. Векки, поддержанная делегатами из Пулии, Венето, Пьяченцы и Пармы, которые, по собственным данным, представляли 10 тысяч членов УСИ, из тактических соображений обусловила вступление в Профинтсрн сохранением автономии национальных организаций при возможности сотрудничества по конкретным вопросам с «пролетарскими С резкой речью против Профинтерна выступил А. Борги. Он подчеркнул, что эта международная организация подчинена партиям, а контролирующий се Коминтерн имеет «правую» ориентацию на сотрудничество с социал-демократией. Анархистский союз Италии на своем съезде в Анконе, проходившем незадолго до конгресса УСИ, также решительно высказался против сотрудничества с компартией. В итоге резолюция Векки была отвергнута делегатами синдикалистского профобъединения. Ее поддержали всего 18 делегатов. Лишь выступление гостя из французской Унитарной всеобщей конфедерации труда Топи позвол ило нескол ько смягчить критические настроения в отношении Профинтерна 107.
В этих условиях Джованнетти внес поддержанную Борги резолюцию, в которой, несмотря на резкое осуждение «партийной исключительности» Профинтерна, его тесной связи с компартиями и подчинения им, не закрывал окончательно двери для присоединения к этому Интернационалу. Верный «принципа.м и методам антиполитического, антиавторитарного, антицентралистского революционного синдикализма», абсолютной автономии рабочих союзов по отношению к пол итическим группировкам, УСИ выдвинул следующие условия для вступления: «1. Прямое реВОЛЮЦИОННОе действие класса для ликвидации патроната и наемного труда; 2. Л юбая связь с Коммунистическим Интернационалом и всякой иной партией или иным политическим объединением исключена, полная профсоюзная автономия и независимость по отношению к этим организациям; 3. Из профсоюзного Интернационала исключаются профсоюзы или профсоюзные объединения большинства, которые входят в Амстердамский Интернационал, даже через посредство профессиональных федераций; 4. Сосредоточение деятельности и руководства профсоюзного Интернационала на проблемах и действиях, носящих международный характер; 5. Возможные временные соглашения с другими профсоюзными и политическими пролетарскими организациями могут быть установлены по обстоятельствам для осуществления определенных международных действий в интересах трудящегося класса». К этому списку было добавлено еще одно положение из другого проекта (Борги, Панчелли и Бьянки): следующий конгресс Профинтерна для обсуждения выдвинутых предложений должен был проводиться в Западной Европе, а Исполком Интернационала — размещаться вне России. Более детально разработать новые принципы предполагалось на международной конференции революционных профсоюзов, за которую выступала французская УВКТ. В случае отказа от условий, выдвинутых УСИ, Исполкому итальянского профобъединения поручалось договориться с синдикалистскими организациями мира об организации синдикалистского Интернационала. Эта резолюция была принята, получив поддержку 71 делегата [109].
Вторым вопросом, который обсуждался на конгрессе УСИ стало «единство пролетариата», то есть возможность организационного объединения с ВКТ. Избранные депутатами парламента Ди Витторио и Фаджи выступали за самороспуск синдикалистского профобъединения и вступление в ВКТ. Сторонники РСФ отстаивали объединение «на почве классовой борьбы» и создание «гранитного и мощного блока» для антикапиталистической борьбы и революции. Предполагалось образовать подготовительную комиссию для проведения объединительного конгресса на основе московских договоренностей между УСИ и коммунистами. Синдикалистские и анархистские делегаты из Каррары, а частично из Модены и Лигурии воздержались при голосовании за этот проект, резко против выступили анархо-синдикалисты и анархисты во главе с делегатами из Андрии. Предложение об объединении с ВКТ было отвергнуто, получив лишь 16 голосов. 60 делегатов конгресса поддержали проект резолюции, внесенный Гаэтане Джсрузи. Он подтверждал традиционную позицию синдикалистов: объединение рабочего масса может стать лишь результатом «честного и спонтанного согласия трудящихся масс» на основе классовой борьбы и прямого действия, без всякого вмешательства со стороны каких бы то ни было партий и политических групп. Возложив на «социал-реформистов» вину за срыв стремления пролетариата к единству, усилия по захвату гегемонии и сотрудничество с властью и классовым противником, конгресс провозгласил УСИ «единственной крупной организацией» рабочего движения, сохранившей классовую и революционную ориентацию. Любое объединение с другими профорганизациями, подчеркивалось в резолюции, возможно лишь на базе этих критериев. УСИ допускал лишь достижение с ВКТ или иными профсоюзами соглашений «по конкретным вопросам и для защиты свободы и пролетарских завоеваний»! [110].
Конгресс УСИ одобрил, по предложению Джованнетгиман реорганизации профобъединения на основе фабричных союзов и отраслевых объединений. Такое устройство, гласила резолюция, основано «на требованиях современной трудовой жизни и действительно создаст ядро рабочего производства и управления предприятием, которое призвано осуществить исторический процесс перехода от капиталистической формы производства к социальной...». Осуществление реорганизации было поручено местным Палатам труда [111].
Однако практически осуществить принятое решение УСИ уже не успел.
РСФ отказалась примириться с результатами конгресса и победой анархо-синдикалистов в УСИ, назвав сложившееся большинство «фиктивным». Она собиралась добиться созыва внеочередного съезда, но ес предложение было отвергнуто [112]. Представитель Профинтерна Андрес Нин инструктировал сторонников в Италии оставаться в УСИ, однако уже в мае 1922 г. Векки сообщал в Москву, что это пожелание неосуществимо. Руководимые коммунистами профсоюзы УСИ принимали постановления о выходе из синдикалистского профобъединения и вступлении в ВКТ. С согласия компартии руководство РСФ постановило созвать заседание и объявить о выходе из УСИ [113]. Вышли из синдикалистского профобъединения Палаты труда в Веронс (секретарь — Векки) и Бари (секретарь — Ди Витторио) [114]. В августе 1922 г. РСФ была преобразована в «Комитет синдикалистской защиты» (в противовес анархо-синдикалистам); организация просила Профинтерн выдслить ей в помощь 25 тысяч лир [115].
Ослабленный внутренним противоборством, УСИ должен был мобилизовать все свои силы в борьбе против наступления фашизма. С зимы — весны 1921 г. синдикалисты, как и другие левые, стали объектами вооруженных нападений со стороны фашистов, которые разрушали ПИTЫ труда и препятствовали деятельности профсоюзов и левых партий по всей стране [116]. Синдикалисты и анархисты отвечали на фашистское наступление пролетарским массовым действием, забастовками, но им не удалось одержать победу над фашистами, фактически поддержанными правящими кругами страны.
Перед лицом наступления фашистских отрядов УСИ приступил к организации сопротивления реакции — с помощью радикализации социальных конфликтов или с помощью оружия. В отличие от других партий и профсоюзов, УСИ применил методы прямого действия. Чтобы положить конец фашистской стратегии систематических нападений на различные территории в зонах с высокой антифашистской и массовой активностью, УСИ поддерживал создание вооруженного ополчения «народных смельчаков», которое отвергалось другими партиями и профсоюзами, и превращение своих основных Палат труда в миленькие крепости для как можно более длительного сопротивления атакам фашистских отрядов [117].
Весной — летом 1921 г. фашисты напали на Палаты труда в Лигурии, Тоскане и Эмилии. 27—28 февраля фашисты атаковали Палату труда УСИ в Специи, убив синдикалистского активиста Оливьери; в ходе второй атаки в мае здание было разрушено. В апреле подверглись арестам активисты УСИ в Генуе. По всей Лигурии хозяева в союзе с фашистами перешли в наступление, стремясь понизить зарплату. Трудящиеся, в первую очередь из УСИ оказывали сопротивление; 400 тысяч бастовали [118].
Упорная борьба развернулась в лигурийском оплоте УСИ — Сестри-Понентс, где после того, как анархист Аттилио Пароди убил фашиста М. Каваньяро, в мае 1921 г. начались вооруженные столкновения между фашистами, с одной стороны, и анархистами и синдикалистами, с другой. В июле 1921 г. фашистское нападение на Палату труда было отбито. В последующем синдикалист Анджело Фаджи подписал в этом городе пакт об «умиротворении» с фашистами, секретарь Палаты Негро, а также анархисты и коммунисты выступили против. Соглашение длилось недолго, и столкновения возобновились. Фашисты совершили нападения на синдикалистов Негро и Фаджи, а 21 января 1922 г. убили административного секретаря Палаты, анархиста и лидера местных «народных смельчаков» Чезаре Росси. Палата труда на некоторое время закрылась, затем открылась вновь и продолжала держаться до сентября 1922 г., несмотря на непрерывные стычки [119].
Помещение УСИ в Имоле в 1921 г. несколько раз подвергалось нападению фашистов (уже в 1920 г. они убили члена УСИ Лео Бьянкончини, который умер, обороняясь, и ранили активиста Примо Басси, приговоренного позднее к 20 годам тюрьмы). Фашисты убили нескольких членов УСИ, в том числе Винченцо Дзанелли, который перед смертью успел уничтожить своего убийцу — фашиста Нанни. В 1922 г. помещение УСИ в Имоле снова подверглось нападению фашистов, которые насмерть забили палками инвалида войны Раффаэле Виргульти. В Тоскане помещение УСИ во Флоренции подверглось нападению чернорубашечников, было разорено и захвачено. Активисты союза были арестованы и высланы. То же самое произошло с помещением УСИ в Лукке. Особенно жестокими были в 1921 г. фашистские репрессии против УСИ в Вальдарно. В Монастсро были убиты два члена УСИ, еще один — в Сандонато; Атгилио Сасси был арестован и умер в тюрьме. В Ареццо, где действовал многочисленный и боевой профсоюз металлургов УСИ, многие активисты были арестованы, в том числе секретарь союза Руджеро Туркини.
Во многих местностях Тосканы фашисты потерпели в 1921 г. тяжелые поражения в результате действий «народных смельчаков» (особенно в Сардине) [120].
В борьбе с фашистскими нападениями рабочие организации Италии попытались объединить свои усилия. Инициатором сотрудничества выступил независимый профсоюз железнодорожников, объединявший 100 из 150 тысяч работников отрасли и организовавший в июне 1920 г. мощную победоносную забастовку. Руководящую роль в этом профсоюзе имела коалиция синдикалистов, анархистов и социалистов, в оппозиции к нему стояли коммунисты, которых поддерживала примерно пятая часть железнодорожников [121]. В феврале 1922 г. на совещании в Риме представители Анархистского союза, Социалистической и Республиканской партий объявили о поддержке инициативы профсоюза железнодорожников и постановили оказать соответствующее влияние на профсоюзы, в которых состояли их члены [121]. Инициатива была поддержана и Итальянской федерацией трудящихся портов, руководящие позиции в которой занимали анархисты и республиканцы [123]. Затем последовали встречи представителей ВКТ, УСИ, Итальянского союза труда (ИСТ), профсоюза железнодорожников и федерации портовиков в Генуе и Риме. Участники достигли общего соглашения о создании Союза (альянса) труда с целью «защиты пролетариата» [124].
Союз труда был официально оформлен 19—21 февраля 1922 г. на встрече представителей «рабочих организаций, стоящих на почве классовой борьбы» (ВКТ, УСИ, ИСТ, профсоюза железнодорожников и Национальной федерации портовиков). Провозгласив «единство сил труда» в борьбе против капитализма за эмансипацию) пролетариата особенно необходимым в настоящий момент, когда реакционные силы пытаются насильственно разрушить рабочие объединения и союзы, участники Союза труда намеревались «противопоставить соединенным силам реакции коалицию пролетарских сил», добиваться восстановления гражданских прав и свобод и защиты «завоеваний рабочего масса». Для обеспечения «координации и дисциплины» в «оборонительных действиях» трудящихся формировался Национальный комитет, в который должны были войти пять делегатов от ВКТ и по два делегата от каждой из остальных организаций, вступивших в союз. Этому органу надлежало разработать практическую программу борьбы, «не исключая никаких средств профсоюзного действия, включая всеобщую стачку» [125].
Комментируя вступление УСИ в союз, комиссия, назначенная Исполкомом Итальянского синдикального союза (в составе А. Борги, Риккардо Саккони, Джузеппе Парусслли и Анджело Сбрана), заявила: для УСИ его присоединение к Союзу труда «имеет тот же самый характер, какой он всегда придавал такого рода коалициям». Цель состоит в том, чтобы добиться «сильного пролетариата, а не сильного правительства» и подчеркнуть значение «методов прямого действия пролетариата в защиту всех пролетарских свобод, которые никогда не станет защищать ни одна из фракций буржуазии». Комиссия приветствовала создание альянса как продолжение инициатив синдикалистов, но отметила особо, что УСИ не отказывается при этом ни от своих принципиальных, «классовых и революционных» позиций, ни от критики предшествующей политики социалистического и коммунистического крыла рабочего движения. В выпущенном заявлении вновь содержался упрек в адрес компартии. Синдикалисты обвиняли ее в стремлении монополизировать дело «пролетарского единства» и приписать им его подрыв. УСИ, отмечалось в документе, выступает за «единство в действии и при сохранении независимости от любой партийной гегемонии», в то время как коммунисты осуждают всякое движение, не находящееся под их собственным руководством. Не требуя от других участников альянса согласия с синдикалистскими идеями и методами, УСИ обещал сотрудничать с ними в совместных оборонительных, а в будущем — и наступательных действиях [126].
Однако образование Союза труда не помогло остановить фашистский террор. Нерешительность и умеренность лидеров союза вызывала негодование анархистов. Газета Анархистского союза «Уманита нова» апреля 1922 г. назвала его «ненужным альянсом» [127]. Часто анархистам и синдикалистам приходилось бороться с противником самостоятельно. В Пьомбино УСИ организовал боевое антифашистское сопротивление, которое в течение нескольких месяцев одерживало победы, отбивая фашистские атаки. Палата труда синдикалистов превратилась в настоящую крепость, а батальоны «народных смельчаков», почти полностью состоявшие из членов УСИ и анархистов, отбивали многочисленные попытки фашистов вступить в Пьомбино, переходя даже в контрнаступление и захватив на несколько дней контроль над городом. Были произведены аресты фашистов, а правительственные гвардейцы, пришедшие на помощь фашистам, были разгромлены и разоружены. Новое наступление фашистов и гвардейцев сопровождалось массовыми облавами; 200 членов УСИ были арестованы, активист Джузеппе Морелли убит. Но атака была остановлена перед Палатой труда, где активисты УСИ смогли переформироваться и рассеяли фашистов, которых с трудом спасли правительственные силы. В апреле 1922 г. фашисты снова попытались захватить Пьомбино, но опять натолкнулись на столкновения с «народными смельчаками» и вооруженными трудящимися из УСИ. 12 июня 1922 г. под предлогом убийства фашистского студента в Пьо.мбино нахлынули многочисленные силы фашистов, карабинеров и гвардейцев. Город был оккупирован, но Палата труда продолжала сопротивление. Чтобы сломить его, понадобилось провести сотню атак; бои, повлекшие за собой множество жертв, продолжались полтора дня, пока синдикалисты не вынуждены были покинуть город. Секретарь Джулио Баккони и другие активисты умерли в изгнании.
В мае 1922 г. фашисты вместе с правительственными силами и карабинерами захватили Палату труда в Карраре. Многие члены УСИ были арестованы, некоторые активисты эмигрировали. В 1922 г. фашисты активизировались в Ливорно. Были убиты деятели Итальянского синдикального союза Джизберти Катарси и Филиппо Филиппетги, пытавшийся дать фашистам отпор с оружием в руках. Палата труда, охранявшаяся множеством вооруженных трудящихся из УСИ, устояла и долго еще оставалась антифашистским бастионом в городе, давая убежище многим пролетариям Ливорно. Позднее и эта крепость пала. В Лигурии, захватив и разгромив различные помещения УСИ (в Генуе, Савоне, Сампьердарсне, Специи и др.), фашисты стянули свои силы и в июле 1922 г. попытались захватить твердыню синдикалистов — Сестри-Поненте, которая в течение двух лет успешно отбивала все атаки. В конце осады горстка членов УСИ многократно отражала штурм фашистской сотни. Палата труда была сожжена, но ее удалось возродить. В течение нескольких месяцев она много раз переходила из рук в руки, пока не была окончательно разрушена превосходящими правительственными частями. Многие синдикалисты были вынуждены покинуть город.
В Пулии фашисты вместе с карабинерами захватили Палату труда УСИ в Андрии, которая выпускала газету «Пулия синдакале». Секретарь Пиаты Никола Модуньо и другие товарищи были арестованы. То же самое произошло с Палатами труда в Чериньоле, Минервино Мурдже и Таранто, а также с Палатой в Бари, до этого вышедшей из УСИ. Здесь фашистским отрядам пришлось сломить упорную оборону, организованную «народными смельчаками» в рабочих кварталах.
В Венето подверглись нападению Палаты труда в Виченце и Веронс (эта последняя вышла из УСИ). В Трентино фашисты разрушили синдикальную палату УСИ в Роверегго, которая перед этим возглавила успешную всеобщую стачку. В Ломбардии фашисты атаковали и сожгли помещения УСИ в Милане (где размещался Национальный секретариат). Правительственные гвардейцы захватили Палату труда в Брешии. Были разгромлены местный союз синдикалистов в Креме (многие активисты арестованы), Палаты труда или помещения УСИ в Мантуе, Судзаре, Варезе и др. В Умбрии активисты Итальянского синдикального союза упорно защищали Палату труда в Терни, которая много раз поджигалась. Фашисты нападали на многих членов организации, похищали и пытали их. В Марке репрессии поразили секцию УСИ в Фано (состоявшую преимущественно из рыбаков); ее члены подверглись арестам или были высланы. Долго держалась Палата труда в Модене. В конце концов фашисты сломили сопротивление и обрушили репрессии на синдикалистских активистов в городе и провинции. С конца мая 1922 г. фашисты осаждали Палату труда УСИ в Болонье. Только в начале августа им удалось разрушить и сжечь ее вместе с помещением секции железнодорожников. Среди жертв был активист УСИ Клодовео Бонацци, зарезанный фашистами. В Риме, где действовали также «народные смельчаки», УСИ смог длительное время продолжать сопротивление, отвечая на фашистские атаки. УСИ был ликвидирован там только после захвата власти фашистами. На Сардинии боевой Союз шахтеров УСИ в Иглесиасе смог долго сопротивляться и был одной из последних организаций УСИ, захваченных фашистами [128].
После того как 26 июля 1922 г. фашистские отряды захватили Равенну и организовали расправу над рабочими, Союз труда принял решение объявить всеобщую антифашистскую стачку по всей стране. Современный анархо-синдикалистский автор Джанфранко Карери называет этот шаг «нерешительным и запоздалым» [129]. Забастовка началась 1 августа, но лидеры ВКТ и Союза труда настаивали на сохранении ее мирного характера. Тем не менее во многих городах вспыхнули вооруженные столкновения между фашистами, с одной стороны, и «народными смельчаками», анархистами, синдикалистами и коммунистами, с другой. В Парме в боях участвовали тысячи человек, они продолжались с I по 6 августа и закончились полным разгромом фашистов. Город перешел под контроль «народных смельчаков» и рабочих [130]. Самое активное участие в сражениях приняли члены УСИ, который сохранял в городе очень сильную организацию. Успешно для противников фашизма сложилась борьба в Бари [131]. Однако в таких городах, как Милан, Анкона и Ливорно, фашистским отрядам удалось разгромить социалистические муниципалитеты. 3 августа фашисты предъявили правительству ультиматум, требуя прекратить всеобщую стачку и угрожая захватом власти. В разгар стачки лидеры Союза труда объявили о прекращении забастовки [1З2].
Провал забастовки привел к распаду Союза труда. Произошел раскол и в Социалистической партии, недовольной действиями руководителей ВКТ. В свою очередь, Исполком УСИ объявил о выходе своего профобъединения из Союза труда. Он призвал к реорганизации рабочих рядов и созданию новой организационной структуры, которая могла бы заменить развалившийся альянс [133]. 4 октября 1922 г. Генеральный совет УСИ принял резолюцию, в которой заявил, что прежнее предложение синдикалистов о создании «пролетарского учредительного собрания» для осуществления единства «не может быть осуществлено в том тяжелом положения, в каком находится сейчас большая часть профсоюзного движения, подавленная и лишенная возможности функционировать, из-за чего подлинная воля масс, подвергаемых наемному рабству, в настоящий момент не может быть выяњлена». В этой ситуации единство, по мнению УСИ, могло бы быть достигнуто лишь посредством «честных и спонтанных договоренностей, уважения стремлений и решений организованных рабочих масс». Генеральный совет высказался в поддержку новых инициатив по достижении профсоюзного единства пролетариата и поручил Исполкому провести соответствующие переговоры с другими рабочими организациями и их Генсоветами для определения «формы и условий» единства. К единству «революционных сил» призвал и лидер итальянских анархистов Мштатеста на страницах анархистской газеты «Уманита нова [134].
Но времени на это уже не оставалось. В октябре 1922 г. к власти пришло правительство во главе с фашистским лидером Муссолини.
Взлет анархо-синдикалистского движения в Испании
Первая мировая война оказала на Испанию неоднозначное влияние. С одной стороны, страна стала более усиленными темпами развивать собственную промышленность. Росло производство на экрпорт. Начался экономический [135]. С другой, росли цены, что снижало жизненный уровень трудящихся. Все это в совокупности побуждало их все более активно протестовать против дороговизны и добиваться повышения зарплаты.
В 1916 г. испанские рабочие проводили по всей стране акции протеста против удорожания жизни. Это движение потрясло всю страну. Анархо-синдикалистская Национальная конфедерация труда (НКТ) и социалистический Всеобщий союз трудящихся (ВСТ) в июле впервые заключили временный пакт, в котором речь недвусмысленно шла о социальной революции. 18 декабря была организована всеобщая 24-часовая стачка [136]. В 1916—1917 годах столяры-краснодеревщики Барселоны в течение 17 недель вели упорную борьбу с предпринимателями, которая сопровождалась многочисленными актами саботажа. Произведенные аресты стимулировали новые нападения; рабочие нападали на транспорт, перевозивший мебель, поджигали стенды с образцами продукции. Активность трудящихся была вознаграждена: испуганные предприниматели согласились принять требования бастующих; арестованные были освобождены. Вдохновленные успехом, столяры Барселоны создали первый Единый синдикат работников по древесине. Это был важный шаг к реорганизации рабочего движения страны. До тех пор оно страдало от сильной раздробленности, так что на одном и том же предприятии могли работать люди, принадлежащие к союзам одной и той же профессии, которые действовали в отдельных кварталах и районах. Рабочие все больше склонялись к тому, чтобы в каждом городе или районе представители одной и той же профессии были объединены в единый синдикат [137].
В мае—июне 1917 г. революционный процесс в Испании достиг своей кульминации. «Испания в этот момент стояла на пороге всеобщей революции», — утверждает историк Абель Пас [138]. 13 августа 1917 г. ВСТ объявил одностороннюю всеобщую стачку, но она была поддержана и другими рабочими и быстро стала выходить из-под контроля социалистических вождей. Движение продолжалось неделю и сопровождалось многочисленными жертвами. В конечном счете выступление было подавлено.
Революция в России произвела большое впечатление на испанских рабочих. Многие увидели в ней подлинную социальную революцию, торжество пролетарской самоорганизации в форме Советов. Это придало движению, с одной стороны, новый стимул, а с другой, породило иллюзии в отношении Русской революции.
В условиях революционного подъема 28 июня—1 июля 1918 г. собралась региональная конференция НКТ Каталонии в Сансе (пригороде Барселоны). Она сопровождалась спором о том, к каким методам борьбы могут прибегать трудящиеся. Ряд делегатов настаивал на том, что допустимы только методы прямого действия; другие возражали против таких ограничений. В итоге конференция утвердила компромиссную формулу: в ходе борьбы против капитала рабочие союзы намерены «осуществлять преимущественно систему прямого действия», если чрезвычайные обстоятельства «не потребуют применения иных форм». Решения, касающиеся политических и идейных группировок в рабочем движении, были выдержаны в духе революционного синдикализма. Участники постановили, что профессиональным политикам не место в организации трудящихся. В то же время «чисто идеологические» группы, не имея права непосредственно действовать в профсоюзных вопросах, могли продолжать вести борьбу «за полное освобождение пролетариата». В организационном отношении делегаты высказались за создание на местах единых союзов по профессиям и отраслям. В качестве немедленных целей борьбы были выдвинуты ликвидация сдельного труда, недопущение использования детского труда, всеобщее введение 8-часового рабочего дня и установление единых ставок зарплаты. Конференция постановила также принять все меры для привлечения женщин в синдикаты и их органы, для развития рационалистического образования, совершенствования издательской и пропагандистской работы, создания производственных кооперативов инвалидов и нетрудоспособных. Делегаты обсуждали вопрос о возможности объединения НКТ и ВСТ. Барселонские железнодорожники обратились к местной федерации Сарагосы с призывом провести объединительную конференцию всех профсоюзов Испании [139].
Хотя большинство участников конференции в Сансе были сторонниками анархизма, форум не выступил с открытой декларацией либертарных принципов. Однако назначенные и утвержденные на организационном референдуме члены временного Национального комитета НКТ (Мануэль Буэнакаса, Эвелио Боаль, Висенте Хиль, Жозе Рипполь и Андрес Мигель) были членами Барселонской группы анархистов [140].
В ноябре 1918 г. была проведена национальная конференция анархистов. На ней было принято решение о том, что все анархистские группы должны присоединиться к НКТ. С этого момента анархисты стали активно вступать в синдикалистские профсоюзы и работать в них на низовом уровне, избегая занимать ответственные посты [141]. «Анархизация» НКТ стремительно набирала темпы.
Конфедерация развернула общенациональную пропагандистскую кампанию в пользу социальной революции. Ведущие активисты и пропагандисты организации должны были разъехаться по всей стране и выступать перед трудящимися. Напуганное правительство графа Романонеса приостановило действие конституционных гарантий; были арестованы члены редакции печатного органа НКТ «Содалидад обрера», Буэнакаса, члены Регионального комитета конфедерации в Каталонии и большая часть пропагандистов. Уже через три недели в стране вновь началась забастовочная волна.
Подлинным триумфом НКТ стало движение, вспыхнувшее после увольнения в феврале 1919 г. рабочих электрической компании «Ла Канадиенсе». В ответ началась всеобщая стачка: конфедерация ультимативно потребовала от властей удовлетворить требования рабочих, а затем вся жизнь Барселоны была парализована: прекратилась доставка и разгрузка продовольствия и товаров, нс работали транспорт, почта, подача электричества и водоснабжение. Когда власти ввели осадное положение, профсоюзы взяли под контроль газеты, нс допуская публикации распоряжений военной администрации. Несмотря на аресты (было задержано боле 1500 рабочих), движение продолжалось. Работники общественных служб отказались подчиняться милитаризации и выполнять приказы выйти на работу. Синдикаты отвергли любые переговоры, пока осадное положение не будет отменено. Угрожали начать забастовку также банковские работники, врачи, медсестры и няни. Власти вынуждены были уступить, опасаясь всеобщего восстания. 19 марта 1919 г. требования рабочих были приняты и стачка прекращена. Но после отказа освободить нескольких арестованных состоялся массовый 30-тысячный митинг, а 24 марта всеобщая забастовка возобновилась. Лидеры НКТ на сей раз были против выступления, считая его ошибочным, но не смогли сдержать рядовых членов. Вновь было введено осадное положение. Стачка длилась две недели и стоила больших жертв. Тем не менее властям вновь пришлось сдаться. Новая проба сил произошла в Барселоне в конце 19l9 г., когда предприниматели попытались организовать локаут 150 тысяч рабочих. Он продлился 14 недель [142].
Барселонские забастовки вызвали обострение тактических споров внутри анархо-синдикалистского движения. Сторонники прямого действия резко критиковали решение представителей НКТ согласиться с созданием «смешанной комиссии» (своего рода арбитражного органа для рассмотрения трудовых конфликтов). Когда начался локаут, региональная организация в Каталонии выступила за пассивное сопротивление, Национальный комитет склонялся к активному ответу, который, по существу, означал бы революционное действие. На сей раз возобладала более умеренная линия. И хотя никто из уволенных не приступил к работе на новых условиях, локаут в значительной мере способствовал дезорганизации [143].
В Сарагосе в 1919 г. массовые стачки работников газовой и осветительной отрасли, официантов и водителей трамваев заставили предпринимателей выполнить требования рабочих. Воспользовавшись экономическим кризисом, хозяева ответили волной увольнений, которым оказали поддержку губернатор и кардинал Сольдсвилам [144].
Не ограничиваясь борьбой за зарплату и условия труда, синдикаты НКТ приступили к подготовке создания нового общества. Был начат сбор статистических данных о производстве в промышленности и сельском хозяйстве; квалифицированные работники изучали функционирование транспортной системы и обмена, трудовые коллективы предприятий разрабатывали возможности перехода к плановому хозяйству и производству, ориентированному на потребности людей. Была создана открытая для всех общественная аналитическая лаборатория. Анархо-синдикалистские рабочие демонстрировали высокое чувство ответственности. Так, во время забастовки работников пекарен речь шла не о повышении зарплаты, а о повышении качества хлеба [145].
Число членов НКТ достигло 1282 тысяч [146]. 10—l8 декабря 1919 г. в помещении мадридского театра «Ла Комедиа» состоялся конгресс НКТ, на котором было непосредственно представлено 600 тысяч рабочих и еще 200 тысяч — косвенно. К моменту проведения форума анархо-синдикалистское движение находилось на подъеме. Каталония, Арагон, Андалусия и Ла-Риоха представляли собой бастионы НКТ. Конфедерация Северного региона (Страны Басков) за несколько месяцев увеличилась в четыре раза, организация быстро укрепляла позиции в Астурии, опираясь на традиционные центры либертарного влияния в Хихоне, Авилесс и Ла-Фельгуэре. В Галисии и Валенсии синдикаты вели упорную экономическую борьбу с предпринимателями. НКТ издавала ежедневные газеты под названием «Солидаридад обрера» в Барселоне и Валенсии, а также газету в Севилье, выходившую два раза в неделю, и еженедельники в Бильбао, Виго, Мадриде и Хихоне [147].
Послевоенный съезд испанских анархо-синдикалистов единогласно одобрил Декларацию принципов либертарного коммунизма [148]. Это решение отражало абсолютное преобладание сторонников анархизма на конкрессе, хотя среди делегатов были социалисты Э. Марсен и Х. Сехуэла из Астурии и приверженцы российского большевизма Андрес Нин из Каталонии и Иларио Арландис из области Валенсии. К послереволюционному устройству общества, с точки зрения НКТ, следовало готовиться уже сейчас. Конгресс постановил создать Национальный комитет по статистике и немедленно организовать статистические работы с тем, чтобы определить потребности и возможности в области производства, распределения и потребления [149].
Одной из главных тем конгресса был вопрос о «единстве испанского пролетариата», то есть об объединении с социалистическим профобъединением ВСТ. Соответствующее предложение руководство ВСТ направило комитету НКТ. Идея слияния с социалистическими профсоюзами вызвала неоднозначную реакцию в конфедерации. Дебаты носили острый характер. Некоторые выступили за скорейшее начало переговоров (Видит Эспиноса, Ласаро Солано, Хосе Дуран), другие — за условное объединение с последующей возможностью его пересмотра (Хосе Мартинес от металлургов Хихона, Элеутерио Кинтанилья от пищевиков Хихона, делегаты строителей Сарагосы, каменотесов Мадрида и др. Группа ведущих активистов (Эусебио Карбо, Сальвадор Сеги, Анхель Пестанья), а также представители пищевиков Валенсии и др. высказывались за объединение, но при условии, что создаваемый единый профцентр будет носить строго «аполитический» характер, то есть строиться на основе принципов революционного синдикализма. Резкие возражения против слияния выдвинули крестьяне из Бениахана, сельскохозяйственные работники Севильи, мадридский делегат Мауро Бахатьерра, Гало диас из Эйбара, дубильщики кож Сарагосы и Барселоны, металлурги Вальядолида, печатники Барселоны и т.д. Их позицию предельно ясно выразил представитель барселонских металлургов Арин, напомнивший о «несовместимости прямого и политического действия». В итоге 323 955 голосами против 169 125 было принято предложение, внесенное барселонским штукатурщиком Валеро. В нем, по существу, допускалась лишь единственная форма объединения — присоединение членов ВСТ к НКТ при условии принятия ими принципов конфедерации. Это означало одновременно и окончательное признание исключительно принципов прямого действия. «Объединение организованного пролетариата, — говорилось в единогласно одобренной резолюции, — должно основываться на революционном прямом действии... [150].
Анархо-синдикалисты подтвердили, что намерены привлекать в свои ряды работников не только физического, но и умственного труда — так называемых техников (служащих, инженеров, преподавателей, ученых и т.д.). Они должны были входить в профессиональные или отраслевые союзы. Делегаты одобрили общий принцип: «Не должно быть рабочего без синдиката». Что касается формы организации рабочих союзов, то конгресс прошел под знаком идеи «единого профсоюза» в данной местности для каждой специальности. Ряд активистов НКТ — Э. Кинтанилья, Х. Пейро, делегаты стекольщиков Вильявисиозы и шляпников Хихона — отстаивал создание национальных федераций по отраслям производства (такие объединения уже существовали у деревообделочников, издававших свой печатный орган «Ла Кунья», и стекольщиков). Возражавшие им стекольщики Барселоны и представитель барселонских деревообделочников Мануэль Буэнакаса смогли добиться отклонения этого проекта 651 473 голосами против 14 008 голосов [151].
Интересно, что на съезде прозвучали и голоса тех, кто опасался бюрократизации профсоюзного движения. Так, каретник Лусиано Рико говорил о необходимости «закрыть все двери» на пути новых вождей. В рабочую организацию должны входить те, кто действительно работают, подчеркнул [152].
Участники утвердили своеобразный список текущих требований. Он включи установление рабочими союзами максимальной продолжительности рабочего дня, постепенную ликвидацию ночного труда, введение единых ставок зарплаты для каждого из регионов страны, сокращение рабочего времени в качестве меры для снижения безработицы, создание кооперативных мастерских для инвалидов и выплату пособия нетрудоспособным, осуществление рабочего контроля над качеством изделий в промышленности и сельском хозяйстве, сокращение квартплаты до уровня 1914 г. (с перспективой социализации жилья), строительство нового жилья профсоюзами, ограничение размеров и тяжести грузов для докеров и т.д. Всего этого предполагалось добиться нс с помощью государственного законодательства, а путем прямого действия — классовой борьбы. Были намечены основы аграрной «программы» анархо-синдикалистов: объединение работников сельского хозяйства в профсоюзы, совместная борьба за освобождение городских и сельских пролетариев, социализация земли [153].
Делегаты утвердили меры по развитию анархо-синдикалистской агитации и информации. Было решено сохранить газету «Солидаридад обрера» как орган НКТ Каталонии и одновременно распространять издания Конфедерации в Мадриде, Ла-Корунье, Севилье, Валенсии, Астурии и т.д. Кроме того, планировалось издание общенационального органа в месте, где располагался Национальный комитет конфедерации. В отношении буржуазных изданий конгресс утвердил применение такой меры, как «красная цензура»: рабочие союзы объявляли бойкот и препятствовали выходу тех газет и журналов, которые распространяли ложную и клеветническую информацию против конфедерации [154].
Конгресс принял также ряд других решений и резолюций. Они касались, в частности, призыва к рабочим отказаться от производства оружия, создания системы комитетов помощи заключенным, сопротивления против репрессий методами прямого действия, противодействия попыткам властей призывать бастующих на военную службу с тем, чтобы подавить стачки, борьбы со штрейкбрехерством, невмешательства военного флота в конфликты на гражданском флоте, членских взносов, оказания самых необходимых медицинских услуг в случае «абсолютной стачки», привлечения женщин в рабочие союзы, развития рационалистических школ распространения международного языка эсперанто [155].
(После оживленных дискуссий о Русской революции конгресс принял решение о присоединении к Коминтерну [156]. Делегатом на 2-й конгресс Коминтерна был избран Анхель Пестанья. Сама формулировка решения показывала, как плохо представляли себе испанские революционеры истинный характер большевизма и создававшейся им международной организации. В первом пункте решения указывалось, что НКТ является «твердой защитницей принципов Интернационала, как их представлял Бакунин», во втором говорилось: «НКТ временно присоединяется к III Интернационалу ввиду его революционного характера; в то же самое время НКТ Испании призывает к проведению организованного ею международного рабочего конгресса, который заложит принципы подлинного рабочего Интернационала» [157].
После конгресса социальная борьба в Испании продолжала обостряться. В январе 1920 г. в Сарагосе вспыхнуло военное восстание, возглавляемое артиллеристами во главе с анархистом Анхелем Чека. Выступление было подавлено, А. Чека погиб в бою, капрал Годой и несколько солдат были расстреляны.
Дальнейшие казни удалось предотвратить с помощью стихийной всеобщей стачки [158]. В Барселоне предприниматели объявили массовый локаут, и на сей раз десятинедельное противостояние закончилось поражением рабочих. Стремясь оказать сопротивление репрессиям, НКТ попыталась организовать международный бойкот испанских товаров. С этой целью, а также для осуществления резолюции о взаимоотношениях с Коминтерном в Европу в марте 1920 г. был направлен А. Пестанья. В России к нему должны были присоединиться Э. Карбо и Сальвадор Кемадес, однако первый из них был арестован в Италии, а второй добрался только до Парижа. В июле 1920 г. Пестанья участвовал в Москве в работе 2-го конгресса Коминтерна. Отстаивая решения и линию НКТ, он отказался подписать документ, в котором фигурировала «диктатура пролетариата», протестовал против действий бюро Коминтерна, которое, по его мнению, манипулировало конгрессом. Однако возражения делегата НКТ не были приняты во внимание вождями Коминтерна. Разочарованный Пестанья покинул Москву в сентябре 1920 г., но по прибытии в Испанию в декабре 1920 г. был немедленно арестован. Свой отчет Национальному комитету НКТ он смог написать лишь в ноябре 1921 г. из заключения [159]. Изложив свои впечатления о пребывании, переговорах и контактах в Москве, Пестанья сделал вывод о несовместимости принципов НКТ и Коминтерна и рекомендовал: «Я думаю о Третьем Интернационале, что следует работать отдельно и в стороне от него [160].
В Барселоне тем временем развернулась настоящая социальная война. Этот город был ПОдлИННЫМ центром рабочего движения в стране, и от положения в нем во многом зависел исход борьбы во всей Испании. «От ориентации, которую примет рабочий масс Барселоны, зависит ориентация пролетариата Испании», — заявлял позднее (в 1922 г.) лидер коммунистов Х. Маурин [161].
При содействии военного губернатора Мартинеса Анидо предприниматели Барселоны организовали параллельные «желтые» профсоюзы и вооруженные банды «пистолерос», которые охотились на рабочих активистов и убивали их. Всего, по данным НКТ, за два года было убито более 400 анархистов и революционных синдикалистов [162]. В начале 1920 г. было совершено покушение на С. Сеги. В ответ на это нападение либертарии стреляли в председателя федерации предпринимателей М. Грауперу, «героя» массового локаута и одного из инициаторов репрессий [163].
Полиция нередко убивала неугодных «при попытке к бегству». Работавший в подполье Национальный комитет НКТ не справлялся с ситуацией и запрашивал активистов из других регионов и городов о помощи в борьбе с буржуазным и полицейским террором. В ответ на «белый» террор анархисты также прибегали к оружию. Рабочие отстреливались от «пистолерос», стачки сопровождались вооруженными столкновениями и актами саботажа. 4 августа 1920 г. анархисты убили в Валенсии бывшего губернатора Барсслоны Х. Маэстро де Лаборде. Они готовили также покушение на губернатора Бильбао Регераля [164]. Совершались и другие покушения. 10 августа правительство изъяло из компетенции суда присяжных дела, связанные с покушениями на убийство [165].
В 1920 г. руководство НКТ заключило соглашение с лидерами ВСТ с тем, чтобы не допустить готовившиеся правительством ссылки профсоюзных активистов на остров Фернандо-По в Африке. Рядовые рабочие НКТ в Валенсии, Сарагосе, Барселоне, Севилье и других городах возражали против пакта с реформистами. Власти заверили, что никаких высылок не будет. Однако затем они провели в Барселоне 20 ноября 1920 г. арест 64 виднейших активистов, отправленных в крепость на Балеарские острова. НКТ объявила всеобщую стачку, однако ВСТ, несмотря на пакт, отказался ее поддержать. Соглашение было расторгнуто. Однако властям удалось подавить движение; анархо-синдикалистские газеты были закрыты, сбор профсоюзных взносов запрещен [166].
В начале 1921 г. НКТ оказалась практически обезглавленной. Около 100 активистов было убито, свыше 50 ранено, число осужденных и арестованных исчислялось сотнями [167]. Среди последних были Сеги и 30 ведущих активистов конфедерации. В Валенсии содержался в заключении Карбо, обвиненный в причастности к убийству префекта графа Сальватьерры. 2 марта 1921 г. члены Национального комитета НКТ во главе с генеральным секретарем Эвелио Боалем были арестованы. 17 июня Боаль, казначей НКТ Антонио Фелиу и Домингес были найдены убитыми [168]. Члены либертарных групп продолжали оказывать сопротивление. Анархисты Сарагосы направляли делегатов к различным группам на места с предложением провести национальную конференцию и создать комитет связи. Такие комитеты возникли в различных регионах. 8 марта 192l г. в Мадриде члены барселонской анархистской группы «Металлург» Педро Матеу, Луис Николау и Рамон Касанельяс убили премьер-министра Э. Дато, главного вдохновителя террора против анархо-синдикалистского движения. П. Матеу был арестован, а Л. Николау бежал в Германию [169]. Там он был арестован вместе с Лусией Ивакина Консепсьон, и испанское правительство потребовало их выдачи. НКТ выпустила обращение «Ко всем рабочим Германии! Ко всем социалистическим партиям Германии! Ко всем членам профсоюзов Германии!», в котором сравнила ситуацию в Испании с «белым террором» венгерского режима Хорти, оценила убийство дато как «ответ на сотни и тысячи жертв» и призывала добиться отказа в выдаче арестованных [170]. Тем не менее Николау был выдан Испании германскими мастями. Он и Матеу были приговорены к смерти, но затем помилованы и находились в заключении до 1931 г. За убийством дато последовали другие покушения, как, например, попытка нападения восьми анархистских крупп на штаб-квартиру «пистолерос» в Барселоне. Напутанные власти распорядились приостановить преследования синдикалистов.
Воспользовавшись арестом 300 ведущих активистов НКТ, сторонники коммунистов во главе с Андресом Нином сумели взять руководство в конфедерации в свои руки. В новом Национальном комитете были сильны большевистские симпатии, и доклад Пестаньи был положен под сукно [171]. В издававшейся от имени конфедерации в Сан-Фелиу-де-Гишольсе газете «Аксьон сосиаль обрера» публиковались материалы с резкими нападками на анархистских «догматиков». Группа А. Нина созвала 28 апреля 1921 г. пленум делегатов от региональных организаций в Лериде (по другим данным, в Барселоне), на котором четырьмя голосами против одного было принято решение направить делегацию на учредительный конгресс Профинтерна в Москву. В нее вошли сторонники присоединения к большевикам А. Нин, Хоакин Маурин и Иларио Арландис, а также анархист Гастон Леваль [172]. В июне 1921 г. делегация прибыла в Россию для участия в работе Профинтерна. Здесь Леваль встречался с арестованными российскими анархистами во главе с Волиным, которые угрожали голодовкой протеста, и потребовал у Ленина и Дзержинского освободить арестованных. В конечном счете 14 заключенных были освобождены и высланы из России [173]. В архиве Профинтерна сохранилось письмо Левия на имя руководителя Красного Интернационала профсоюзов А. Лозовского от 9 сентября 1921 г. с просьбой разрешить ему задержаться в Москве для «изучения русской революции». Он намеревался поработать на российских предприятиях и завязать контакты с рабочими [174].
Уже в августе 1921 г. национальная конференция НКТ в Логроньо приняла решение дезавуировать полномочия делегации Нина, Маурина и Арландиса [175]. За сближение с Московским Интернационалом высказывались представители Каталонии, Страны Басков и Астурии. Резкие возражения выдвигались прежде всего в Андалусии — «земле либертарного коммунизма и экономического федерализма». В других областях в организациях сохранялись разногласия, и сторонники Москвы надеялись одержать победу над «пещерными анархистами» на следующем пленуме или конгрессе [176]. Национальный комитет продолжал ориентироваться на Профинтерн. «В некоторых частях нашей Конфедерации замечается определенная оппозиция против вступления в Красный Интернационал профсоюзов. Но мы твердо надеемся, что НКТ вступит в Профинтерн», — заверяли Исполнительное бюро Профинтерна 25 ноября 1921 г. члены комитета. Было решено назначить представителя в Исполбюро [177]. Со своей стороны, Бюро Профинтерна согласилось выделить испанским сторонникам 15 тысяч песет (30 тысяч франков) [178]. В письме в Профинтерн от 29 января 1922 г. Национальный комитет НКТ еще раз подтвердил надежду на то, что вскоре тенденция сторонников присоединения к Москве окажется в большинстве [179]. В свою очередь, испанские коммунисты рассчитывали на то, что им удастся в будущем добиться объединения НКТ и ВСТ под эгидой Москвы. Представитель Испанской коммунистической рабочей партии Сесар Р. Гонсалес сообщал в Профинтерн (21 ноября 1922 г.): «Красный профсоюзный Интернационал для нас является единственным средством, при помощи которого мы можем произвести слияние наших профессиональных объединений, раз деленных в общенациональном масштабе на две экономические организации, не случайными соглашениями... а на основе добро вольно принятых принципов и тактики Москвы» [180].
Тем временем кризис в Испании обострялся непопулярной колониальной войной в Марокко. По всей стране происходили забастовки. Убийства на улицах и аресты как средства «умиротворения» уже не помогали. В борьбе с терроризмом предпринимателей властей сложилась новая ветвь анархо-синдикалистского движения, в большинстве своем представленная молодыми, решительно настроенными рабочими. Ведя активную работу в своих синдикатах, они одновременно создавали отдельные анархистские группы, которые специализировались на вооруженных актах, акциях саботажа и т.д., а также составляли костяк созданных Н КТ групп защиты. В этой среде возникла также идея объединить группы испанских анархистов для активизации борьбы с «пистолерос» и репрессиями. В начале 1921 г. организации Арагона провели конференцию в Сарагосе и постановили направить делегации в другие части страны. Когда в 1922 г. террор предпринимательских наемников распространился на Арагон, анархисты ответили покушениями на своих преследователей. В апреле ряд членов НКТ был отдан под суд в Сарагосе по обвинению в убийстве предпринимателя И. Берналя, и группы анархистов официально взяли на себя ответственность за организацию всеобщей стачки протес та в городе, чтобы не подставлять под удар местную федерацию НКТ. Забастовка имела успех, обвиняемые были признаны не виновными [181].
Правительство Санчеса Герры вынуждено было в апреле 1922 г. восстановить конституционные гарантии. В Валенсии возобновилось издание ежедневной газеты «Солидаридад обреро». В Барселоне правительственный террор продолжался дольше, и наладить выпуск официального органа НКТ «Балуарте» не удавалось. Позднее и там вновь стали легально действовать профсоюзы, проводиться собрания, выходить рабочая пресса, часть арестованных была освобождена. Н КТ быстро удалось восстановить и даже умножить свои ряды [182].
Вернувшись, несмотря на сохранявшийся формальный запрет, к нормальной работе, НКТ должна была определиться своем отношении к Коминтерну. Новый Национальный комитет во главе с генеральным секретарем Хуаном Пейро явственно изменил свое отношение к Московскому Интер националу. Отвечая на письмо Исполбюро Профинтерна от 14 февраля 1922 г., Национальный комитет выразил 9 марта недовольство присылаемыми инструкциями об установлении «постоянного и тесного альянса между всеми революционными организациями». Речь шла в особенности об Амстердамском Интернационале и социал-демократах, которых Н КТ считала «предателями», укрепляющими «позиции буржуазии». Зная о ее позиции, Амстердамский Интернационал и его организации больше года саботируют кампанию бойкота испанских товаров, утверждалось в письме. Теперь такой бойкот для НКТ нежелателен. «Мы заявляем вам, что НКТ Испании не заключает никаких альянсов с другими элемента ми, которые не являются чисто анархистами и синдикалистами», — заключали члены комитета [183].
Не менее непримиримым был отказ НКТ от сотрудничества с социалистами в самой Испании. В ответ на послания Бюро Профинтерна от 25 марта и 4 апреля 1922 г. Национальный комитет резко заявил Профинтерну 25 апреля: «Что касается единого фронта, то мы уже говорили вам, что в Испании реформисты стоят по одну сторону, а революционеры — по другую, и между теми и другими в настоящий момент невозможно установить пакты или альянсы, от которых не будет никакой пользы и которые преследуют цель лишь использовать обстоятельства, созданные репрессиями, чтобы поглотить наши силы. Таков наш ответ. Это единственно возможная форма создать единый фронт, и его результат не внушает нам энтузиазма» [184].
В марте комитет издал манифест, напомнив, что решение о вступлении в Профинтерн носило временный характер и следующий форум конфедерации, вероятно, отвергнет его [185]. Вопрос был вынесен на региональные пленумы, а затем на национальную конференцию.
Многие в НКТ склонялись к тому, чтобы не принимать окончательного решения до следующего конгресса конфедерации, а пока сохранять в силе резолюции 1919 г. Такое постановление вынес, к примеру, в апреле региональный пленум в Астурии186. Национальный комитет заслушал отчет участников делегации, направленной в Россию, а затем созвал 4 июня пленум с участием барселонских активистов и представителей каталонского регионального и местных комитетов. На нем присутствовало около 100 человек. Собрание сопровождалось острым противоборством между противниками и сторонниками присоединения к Профинтерну. Пестанья, Леваль и другие, как сообщал Арландис Нину, настаивали на том, что «Российская коммунистическая партия — подлинный враг революции, причем в гораздо большей степени, чем капиталистические правительства белые армии Колчака, Деникина и Врангеля». Однако большинство участников заняло промежуточную позицию. Делегатам, направленным на национальную конференцию, было дано поручение не принимать никакого решения по вопросу о Профинтерне до следующего конгресса НКТ. Что касается международной синдикалистской конференции, которая должна была проводиться в июне в Берлине, то было принято постановление участвовать в ней с консультативной целью [187].
11 июня 1922 г. в Сарагосе собралась национальная конференция НКТ. Ее созыв был поручен региональному комитету НКТ Арагона, Риохи и Наварры в составе Мануэля Буэнакасы, Хесуса Альдонадо, Хосе Абанто, Сесаро Гонсалеса и Фермина Ауриа. Власти намеревались запретить ее проведение, но рабочие Барселоны пригрозили в этом случае провести всеобщую стачку и вынудили их уступить. В форуме приняли участие 42 делегата, в числе которых были ведущие активисты конфедерации — Хуан Пейро, Сальвадор Сеги, Анхель Пестанья, Гало Диес, Сальвадор Кемадес, Мигель Абос, Хуан Руэда, Франсиско Сабараин, Кано Руис, Авелино Гонсалес Мальяда, Пау-лино Диас, Фелипе Алаис, Хосе Владиу, Хесус Аренас, Мануэль Ангуиано, Франсиско Исглеас, Жозе Гене и другие.
Участники конференции, заслушав доклад Арландиса и ознако мившись с отчетами Леваля и Пестаньи, сочли, что Нин, Маурин Арландис превысили свои полномочия, подтвердили решения конференции в Логроньо и одобрили действия Пестаньи. По предложению делегации Арагона, Риохи и Наварры они постановили, что ввиду «21 условия» НКТ не может состоять в Коминтерне. Вместо этого было решено присоединиться к создававшемуся в Берлине революционно-синдикалистскому Интернационалу. Для участия в учредительном конгрессе избрали Гало Диеса и Авелино Гонсалеса. Вопрос о членстве в международной организации был, соответствии с предложением X. Пейро, передан для окончательного решения на референдум синдикатов. (Он состоялся в следующем месяце и подтвердил выход из Коминтерна и присоединение к создаваемому синдикалистскому Интернационалу.) Делегаты утвердили внесенный представителем северного региона Г. Диеасом протест российскому правительству в связи с репрессиями. Новым генеральным секретарем был избран Сальвадор Сеги [188].
HКТ приняла решение участвовать в Учредительном конгрессе синдикалистского Интернационала в конце 1922 г. В соответствии с мнением, выраженным местными организациями конфедерации, Национальный комитет поручил делегатам «выступать за создание Интернационала революционного синдикализма, который должен строиться на той же основе, на какой стоял Первый Интернационал». НКТ в принципе намеревалась присоединиться именно к такому международному объединению. Если бы конгресс постановил присоединиться к Профинтерну, представители НКТ обязаны были покинуть его заседание [189].
Анархо-синдикалистская конференция заявила, что движение не имеет и не собирается иметь ничего общего ни с парламентским действием, ни с какими политическими партиями. Согласно принятой резолюции, конфедерация объявляла себя «аполитической», но в то же самое время — и «полностью и абсолютно политической», поскольку не собиралась ограничиваться исключительно экономическими вопросами, а намеревалась заниматься «всеми проблемами национальной жизни». Эта формулировка, предложенная Сеги, Пестаньей, Пейро и Владиу, была одобрена едино гласно, но очень скоро вызвала критику в анархистской печати. Со своей стороны, либеральная пресса стала писать об отходе НКТ от своих принципов неучастия в политической борьбе. Конфедерации пришлось отвечать, разъясняя, что речь шла совершенно о другом.
Печатный орган НКТ опубликовал 21 июня 1922 г. статью, в кото рой говорилось: анархо-синдикалисты не участвуют и не будут участвовать в политических играх и выборах, но станут вмешиваться во все общественные вопросы, прибегая к собственным средствам, организациям и прессе, «без посредников», «без делегатов», «без представителей». «Выдвигать планы, повышающие уровень коллективного сознания, просвещать индивидов в отношении их прав; бороться против публичной власти; требовать исправить допущенную несправедливость, амнистии — это политика. В высшей степе ни политика, — объяснял автор, представитель НКТ (вероятно, Кар-60). — Политика — это и действие рабочих Сарагосы, которые объявили забастовку, добиваясь увольнения лиц, принадлежащих соматенам» (реакционным ополчениям). Как бы то ни было, видный активист анархо-синдикалистского движения М. Буэнакаса признавал позднее, что на конференции «была допущена ошибка» и «лучше было бы вообще не говорить о политике» [190].
Коммунисты и другие сторонники Москвы были разочарованы и раздражены результатами конференции в Сарагосе. Они обвиня ли Национальный комитет в закулисных махинациях, давлении на делегатов и подборе их [191]. Тем не менее приверженцы компартии продолжали работать внутри анархо-синдикалистского профобъединения. «Завоевание НКТ гораздо легче, чем ВСТ, — подчерки вал коммунистический лидер Маурин, — так как этот последний действует более связно и при постоянном вмешательстве сверху (т.е. руководства соцпартии. — Примеч. В.Д.), тогда как НКТ находится в состоянии распада по причине анархистского федерализма и в ее секциях гораздо легче осуществлять свое влияние» [192]. Иными словами, компартия надеялась, что подчинить децентрализованную НКТ своему влиянию будет сравнительно просто. Все элементы, симпатизировавшие Профинтерну, были объединены в «революционно-синдикалистские комитеты» (РСК), образовавшие фракцию внутри НКТ. Было выпущено воззвание к членам профобъединения, в котором подвергались резкой критике решения конференции в Сарагосе и выдвигались призывы к созданию единого фронта, «объединению пролетариата» и вступлению в Профинтерн. В декабре 1922 г. была проведена национальная конференция РСК, начал издаваться еженедельник «Ла Баталья» [193].
Коммунисты утверждали, что во второй половине 1922 г. им удалось добиться влияния в профсоюзах в Астурии (горнорабочих) и Стране Басков, которые были исключены из ВСТ и присоединились к НКТ, а также в некоторых синдикалистских союзах в Галисии (в Виго, Оренсе и Понтеведре). Они создали группы и фракции в синдикатах Мадрида, взяли под контроль ряд союзов на Балсарах и в Новой Кастилии. В Андалусии коммунисты и их сторонники пользовались авторитетом в провинциальной органи зации в Хаэне и в аграрной федерации Эсиха (провинция Севилья). Валенсия и Каталония оставались бастионами анархо-син дикалистов, хотя коммунисты создали меньшинство в Валенсии смогли добиться частичного влияния в каталонских провинци ях Таррагона и Лерида, в части профсоюзов провинции Жерона Барселоны [194]. В конце января 1923 г. они, по собственным данным, контролировали около 40 профсоюзов. Правда, в основном эти профсоюзы были небольшими по размеру и не имели значительных финансовых ресурсов [195].
Однако подавляющее большинство членов и союзов НКТ пошло за анархистами и анархо-синдикалистами. Они издавали ос новные газеты и журналы конфедерации: «Солидаридад обрера» (Валенсия и Бильбао), «Ла Семилья роха» (Логроньо), «Беденсьон» (Алькой), «Тьерра!» (Ла-Корунья), «Культура и аксьон» (Сарагоса), «Аксьон сосиаль обрера» (Сан-Фелиу-де-Гишольс), «Культура обрера» (Пальма-де-Мальорка) и еженедельник в Барселоне196. Профобъединение быстро восстанавливало свои ряды, значительно по редевшие в период репрессий 1920—1922 годов.(В ноябре 1922 г. в конфедерации по явно заниженным цифрам, приводимым коммунистами, состояло около 100 тысяч трудящихся (40 тысяч в Каталонии и на Балеарах, 20 тысяч в Валенсии, 12 тысяч в Арагоне, 8 тысяч в Астурии, 5 тысяч в Кастилии и Андалусии, 5 тысяч в Гали сии, 2 тысяч в Стране Басков)197. Но уже в конце января 1923 г. Арландис признавал, что в НКТ состоят 250—300 тысяч трудящихся (в ВСТ — 100 тысяч), и «ее влияние в массах огромно» [198])
надежде подорвать влияние анархо-синдикалистов предприниматели Барселоны поощряли деятельность «желтых» профсоюзов, в рамках которых были возобновлены действия «пистолерос». 25 августа 1922 г. было совершено покушение на А. Пестанью, который был ранен. Затем покушавшиеся напали на госпиталь, в котором тот находился, но были изгнаны вооруженными рабочими.
Каталонии была объявлена всеобщая стачка, и власти вынуждены были сместить губернатора Мартинеса Анидо. Молодые активисты НКТ, создававшие боевые анархистские группы, которые занимались в основном организацией самообороны, предпринимали упорные усилия с тем, чтобы создать соответствующую организацию на уровне всей страны и более реши тельно отвечать на нападения «пистолерос». Большую роль в объединительных усилиях играла группа «Солидарные» (Буэнавен тура Дуррути, Франсиско Аскасо, Аурелио Фернандес, Хосе Гарсиа Оливер, Рикардо Санс и другие), созданная в октябре 1922 г. и примыкавшая к радикальному синдикату рабочих деревоперерабаты вающей промышленности НКТ. По ее инициативе была созвана конференция анархистов Каталонии и Балеарских островов, на которой присутствовали и такие видные участники НКТ и либертарного движения, как Пестанья, Федерико Уралес, Хуан Мануэль Молина и др. На ней была создана Региональная анархистская комиссия по связям (временным секретарем избран Х.М. Молина) и решено расширить революционную и координирующую деятельность. Участники постановили также приступить к революционной работе в армии. В апреле 1923 г. в Мадриде был проведен национальный анархистский конгресс, объявивший о создании Национальной федерации анархистских групп с центром в Барселоне [199].
В начале 1923 г. Испания со всей очевидностью шла к новому социальному кризису.
Анархисты и синдикалисты Португалии в условиях послевоенной нестабильности
Первая мировая война принесла Португалии рост цен и безработицы. Протесты против ухудшения положения трудящихся постоянно выливались в акты сопротивления, зачастую стихийные. В сентябре 1914 г. вспыхнули волнения в Лиссабоне; появились первые убитые. Весной 1915 г. безработные захватили и разрушили здание министерства продовольствия. Рабочие громили продовольственные лавки и правительственные учреждения. Бунты и разгромы сменялись стачками, организованными профсоюзами. В феврале-марте 1917 г. бастовали шахтеры Сан-Педру-да-Кова, требуя повышения зарплаты. Власти обвинили анархистов в подстрекательстве, направили «республиканских гвардейцев» и произвели аресты. В столкновениях имелись убитые и раненые.
Национальный рабочий союз (НРС), объединявший большинство профсоюзов Португалии, заявлял в 1917 г.: «Положение рабочих невыносимо и требует немедленных мер... Рабочие требуют права участия в потреблении... Важны не реформы, а революции... Однако, пока необходимая революция не произошла, рабочим остается только один путь обеспечения своего существования: постоянная борьба за увеличение заработной платы» [200].
В течение 1917 г. революционные тенденции в реорганизованном летом НРС окончательно возобладали. Этот сдвиг продемонстрировала конференция рабочих Лиссабона, прошедшая под влиянием синдикалистов. Когда полиция и национальная гвардия попытались захватить помещения федерации строительных рабочих, они оказали вооруженное сопротивление. НРС провозгласил 18 января 1918 г. всеобщую общенациональную стачку в поддержку строителей. Призыв встретил широкую поддержку только в районе Лиссабона. Крестьяне, особенно в районе Южного Алснтежу, захватили помещичьи земли. Тем не менее помещения были возвращены, рабочие, арестованные в ходе конфликта, освобож дены, а зарплата повышена на 30—60%. В мае 1918 г. руководство НРС приняло решение провести в том же году национальную все общую стачку против роста стоимости жизни. Многие активисты полагали, что ее следовало превратить в революцию. Федерация рабочих-строителей предупредила в октябре: «День расплаты приближается, никакое оружие, имеющееся у государства, ника кие пистолеты, ружья или танки (и даже самолеты) не помешают нам добиться своей цели». В ноябре та же самая организация заявляла: «Рабочие-строители, будьте готовы! Час расплаты с буржуазией близок!.. Все сознательные рабочие должны подумать о будущем и последовать примеру своих российских товарищей» [201].
Но, несмотря на эти повстанческие тенденции среди некоторых групп рабочего класса, всеобщая стачка, начавшаяся 18 ноября 1918 г. и продолжавшаяся 8 дней, не удалась. Хотя большая часть Юга была парализована забастовкой железнодорожников и работ ников сельского хозяйства Эворы и было несколько местных очагов сопротивления в Лиссабоне (например, печатники, мебельщики и строители), рабочие Севера остались пассивными. 60 организаций вне Лиссабона сочли забастовку несвоевременной. Однако поражение не деморализовало рабочих. В 1919, несмотря на прекращение войны, стоимость жизни продолжала расти, и профсоюзы ответили на рост безработицы стачками и требованиями 8-часового рабочего дня. В некоторых секторах экономики он был достигнут в 1919 г. [202].
Напряженность в стране усугублялась растущей политической нестабильностью. Шла ожесточенная борьба за власть между различными группировками республиканцев и монархистов. Правые стремились ограничить или ликвидировать даже те немногие реформы, которые были проведены республиканскими правительствами. В начале 1919 г. вспыхнул мятеж монархистов, и многие анархисты и анархо-синдикалисты приняли участие в его подавлении [203].
B сентябре 1919 г. в Коимбре состоялся второй Национальный рабочий конгресс. Делегаты приняли решение о создании Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), которая должна была координировать все отдельные профсоюзы, местные конфедерации и наци ональные федерации. Каждая отдельная организация должна была независимо решить, хочет ли она вступить в конфедерацию. Это означало, что местный профсоюз мог не присоединиться, хотя соответствующая национальная федерация вступала в нее.
Все течения внутри конфедерации были согласны, что чистого тред-юнионизма недостаточно. Некоторые анархо-синдикалисты требовали создания «Лиги экономической экспроприации», кото рая должна была управлять страной. B статутах ВКТ были закреплены принципы революционного синдикализма. Цели конфедерации, в соответствии с этим документом, состояли в том, чтобы «объединить на автономной федеративной основе всех наемных трудящихся страны для защиты их экономических, социальных и профессиональных интересов с целью постоянного улучшения их морального, материального и физического положения», «развивать независимо от любых политических школ и религиозных доктрин способности организованного рабочего класса к борьбе за уничтожение системы наемного рабства и предпринимательства и за взятие в свои руки всех средств производства», «поддерживать теснейшие связи солидарности с профцентрами других стран для осуществления духовного сотрудничества, которое приведет трудящихся всего мира к их полному освобождению от угнетательской и эксплуататорской опеки капитализма» [204].
ВКТ стала единственным профобъединением Португалии. По своей структуре она состояла из двух секций: секции отраслевых федераций и отдельных межотраслевых профсоюзов и секции объединений местных профсоюзов. В нее входили также профсоюзы, которые состояли в федерациях, не принадлежавших к ВКТ, и профсоюзы, которые не могли вступить объединение местных союзов из-за своего особого положения. Все члены конфедерации (профсоюзы-члены) должны были выполнять решения, принимаемые организацией в целом, если эти решения соответствовали целям ВКТ, хотя соблюдался принцип, в соответствии которым индивид сохранял независимость в своем профсоюзе, профсоюз — в своей отраслевой федерации, а отраслевая федерация — в ВКТ.
Высшим органом ВКТ была национальная конференция (или Совет конфедерации). Она представляла собой съезд делегатов от обеих секций. Каждая организация соответствующей секции была представлена двумя делегатами — обычным и заместителем. Мандат делегата мог быть в любой момент отозван его организацией. Текущие дела между конференциями вел избиравшийся на них Конфедеральный комитет, который состоял из семи членов. Комитет принимал решения по неотложным проблемам, которые затем выносились на обсуждение одной из секций, либо — если этого требовал характер вопроса — на утверждение национальной конференции. Комитет должен был далее осуществлять решения национальной конференции, если таковые носили общий характер, за исключением случаев, когда Конфедеральный совет создавал специальную комиссию по тому или иному вопросу [205]. Генеральным секретарем Конфедерального комитета был избран анархист Мануэл Жоакин да Соуза, его заместителями — Мигел Коррейя и Жозе Карвальял.
23 февраля 1919 г. ВКТ издавала в Лиссабоне ежедневную газету «А Баталья». Это была третья по величине газета страны. Она имела также еженедельное иллюстрированное приложение и ежемесячный журнал «Реновасан» [206]. Как вспоминал ветеран ВКТА. Гонсалвиш, газета оказывала «большое влияние сре ди трудящихся, даже тех, у кого было мало знаний. Многие из них не умели читать; они собирались по двое или по трое и слушали чтение новостей из газеты “А Баталья”, единственной, защищавшей их интересы» [206]. Осенью 1920 г. ВКТ организовала Дом пролетарских общественных организаций «Голос рабочего», при котором действовал даже театр с собственным репертуаром. В работе театра принимали участие многие видные писатели; ставились пьесы из жизни людей труда и с социальными мотивами [207].
Налаживалась отраслевая работа анархо-синдикалистов. Почти одновременно с конгрессом ВКТ в Коимбре проходил второй кон гресс строителей. В 1920 г. в Бежа состоялся 4-й конгресс Федерации работников сельского хозяйства [208]. Железнодорожники пытались создать свою федерацию с ноября 1919 г., но сформированная тогда комиссия не смогла выполнить поставленные перед ней задачи. 2—3 октября 1921 г. ВКТ созвала в Порту конференцию всех союзов железнодорожников страны, избравшую новую комиссию по организации конгресса трудящихся железных дорог Португалии и колоний во главе с анархо-синдикалистом Мариу Кастельяну. Одна к обострению политической обстановки осенью 1921 г. вынудило отложить его проведение. В конечном счете федерация железнодорожников так и осталась автономной от ВКТ [209].
Начало оформляться молодежное анархо-синдикалистское движение. Синдикалистская молодежь Португалии (СМ П) воспринимала себя как революционную организацию, в которой молодые рабочие могут формироваться как личности и «питать дух непрерывного бунтарства против капиталистического общества». Группы СМП стихийно возникали по всей стране и не только занимались «воспитанием и подготовкой молодых трудящихся к борьбе с капиталом и авторитетом», но и стремились придать рабочему движению «новую силу». В отчете организации Учредительному конгрессу Международной ассоциации трудящихся (1922 г.) констатировалось, что именно эти группы поддерживали функционирование большинства профсоюзов в провинции, составляя там наиболее активные элементы. Характерно, что, в отличие от ВКТ, СМ П не принимала свои ряды членов компартии. Кроме того, синдикалистская молодежь занималась вопросами образования; некоторые из ее групп открывали собственные школы и библиотеки.
СМП подвергалась еще более сильным преследованиям властей, чем ВКТ. Большинство политзаключенных в начале 1920-х годов принадлежали к ее группам. Собрания приходилось проводить чаше всего тайно. В сентябре 1920 г. была предпринята попытка созвать первый Общенациональный конгресс, но его проведение было запрещено правительством. Он собрался нелегально в январе 1921 г. На нем обсуждались вопросы образования и пропаганды, идеологии, борьбы против алкоголизма и за «естественный образ жизни», защиты членов групп, организации федерации и кассы солидарности. Участники утвердили анархистские идеалы СМП, приверженность классовой борьбе и революционному синдикализму как методу действий против буржуазии. Работая в синдикалистском движении, синдикалистская молодежь сохраняла независимость, свободу высказывать свое мнение и свободу действий. Федерация издавала печатный орган «У Деспертар» и к концу 1922 г. объединяла до 4 тысяч членов; генеральным секретарем был Фернанду д‘Алмейда Маркиш [210].
B 1921 г. под влиянием революции в России некоторые анархистские и синдикалистские активисты сочли, что одних лишь рабочих профсоюзов недостаточно и необходима так же отдельная революционная организация, которая могла бы стать также зародышем будущего коммунистического общества. Они образовали течение «максималистов», издававшее газету «А Бандера вермслья». Другие активисты, опасавшиеся ослабления работы в массовом движении трудящихся, предпочли создать параллельную структуру, выступающую в роли политического выразителя мнения ВКТ. По их инициативе были организованы «Экономический совет» для изучения всех экономических и технических аспектов революции и вопроса образования фабзавкомов и политическая группа. Генеральный секретарь ВКТ перво начально положительно отнесся к этой идее. Но затем анархисты оставили ее, опасаясь, что она приведет в итоге к возникновению новой рабочей партии [211].
ВК Т не сразу определилась со своей международной ориентацией. В 1919 г. она избрала делегата на учредительный конгресс Амстердамского Интернационала профсоюзов, но он так и не по пал на конгресс. В 1921 г. был избран делегат для участия в учредительном конгрессе Профинтерна и одновременно изучения положения российского пролетариата. Поскольку этот делегат не сумел вовремя выехать, поездка не состоялась. ВКТ была недовольна связью между Профинтерном и Коминтерном и имела информацию о работе международной конференции революционных синдикалистов в Берлине. ВКТ разделяла позицию о независимости от политических партий [212]. Тем не менее она продолжала регулярную переписку с Профинтерном.
8 сентября 1922 г. генеральный секретарь ВКТ ди Соуза сообщил Профинтерну, Амстердамскому Интернационалу профсоюзов Международному синдикалистскому бюро в Берлине о том, что, после двукратного откладывания, в следующем месяце состоится конгресс конфедерации, на котором будет решаться вопрос о ее международной позиции. На конгресс были приглашены также делегаты от испанской НКТ, французской УВКТ и итальянского УСИ [213].
В конфедерации не было единства в том, что касалось отношения к большевизму и Профинтерну. Редактировавший «А Баталья» в 1920 г. Аугусту Машаду вел пропаганду в пользу Русской револю ции вместе с рядом видных анархистов и синдикалистов. Нену Вашку отстаивал идею «диктатуры пролетариата», которую он счи тал необходимой для защиты революции. Однако в 1921 г. настро ения большинства активистов изменились. В «А Баталья» и анархистском органе «А Комуна» стало публиковаться все больше статей с критикой большевизма [214].
Организационной комиссии конгресса преобладали сторон ники Москвы. Она склонялась к вступлению ВКТ в Профинтерн на условиях, предложенных французской УВКТ. Соответствующие тезисы были представлены делегатам [215].
B октябре 1922 г. собрался третий общенациональный рабочий конгресс в крупнейшем текстильном центре Ковилья. Присутство вали 193 делегата, которые представляли 168 синдикатов, 5 местных союзов и 10 отраслевых федераций с общим числом в 125 тысяч членов. Обсуждались вопросы структуры ВКТ, создания отрас левых федераций, международной ориентации, пропаганды и т.д.
Делегаты значительным большинством голосов (55 синдикатов против 22 при восьми воздержавшихся) отвергли присоединение к Профинтерну и приняли предложение Клемента Виейры и Сантуша о присоединении к международному объединению, которое будет больше соответствовать революционно-синдикалистским принципам португальской организации, то есть к бюро револю ционных синдикалистов. Напротив, Профинтерн был расценен конгрессом как организация, связанная с политической партией и представляющая стремления, противоположные принципам рево люционного синдикализма [216].
Дискуссии сопровождались ожесточенным противоборством, временами переходившим в акты насилия. Выступление представителя Профинтерна X. Маурина не стали слушать. Анархистские делегаты, особенно с Севера Португалии, обрушились с резкими нападками на сторонников Профинтерна, заставив часть из них покинуть конгресс. Организационная комиссия прекратила работу [217]. Конгресс принял решение расширить структуру ВКТ. Теперь в нее могли входить и непрофсоюзные организации. В соответствующей резолюции указывалось: «Синдикализм... будущая организационная модель для всего общества, не может и не дол жен ограничиваться только экономическими, материалистическими предметами и тем более — “борьбой за повышение зарплаты” : он должен в той же самой мере вести и усиливать свою пропаганду во всех сферах человеческой деятельности... Синдикализм... состоит не только из органов в сфере производства, но и из таких сфер, которые служат для распределения благ для общего блага...» Членство в ВКТ было открыто для ученых и артистов, ассоциаций квартиросъемщиков, потребительских кооперативов и «групп синдикалистской солидарности» (синдикалистских лиг). Соответствующие изменения в статутах местных профсоюзов были осуществлены в 1923—1924 годах. Конгресс высказался принципе за сотрудничество ВКТ с синдикалистской молодежью. Расширение структуры сопровождалось обострением противоречий между коммунистами и либертариями [218].
Делегаты конгресса в Ковилья постановили также реорганизовать поддержку заключенных и преследуемых товарищей. До тех пор она осуществлялась специальными группами. Конгресс решил осуществлять эту солидарность непосредственно через ВКТ. Каждый член организации должен был выделять на эти нужды по 6 сентаво. Это принесло в 1923— 1924 годах сумму в 100 тысяч эскудо, которая была целиком израсходована на поддержку заключенных и преследуемых в Португалии и за рубежом (в Испании, в меньшей мере — в Германии и Австрии) [219].
В целом к концу 1922 г. соотношение сил в ВКТ складывалось пользу анархистов. В марте 1923 г. конгресс анархистов в Аленкере, в свою очередь, обсудил вопросы об отношении к революционному синдикализму и его влиянии на рабочее движение [220].
Раскол синдикалистского движения во Франции
По окончании Первой мировой войны Францию охватили мощные забастовочные выступления, которые способствовали активизации французских профсоюзов, объединенных в синдикалистскую Все общую конфедерацию труда (ВКТ). Если в 1917 г. произошло 696 стачек с 294 тысячами участников, то в 1919 г. в 2026 стачках участвовали 1,16 миллиона, а в 1920 г. в 1831 стачке — 1,316 миллиона человек. В январе—апреле 1919 г. бастовали железнодорожники, шахтеры железных рудников Лотарингии, портные Парижа. 1 мая 1919 г. по призыву ВКТ прошла всеобщая стачка и 500-тысячная де монстрация в Париже с требованиями введения 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты, всеобщей демобилизации и прекращения интервенции в России; в ходе столкновений с полицией 1рабочий был убит. В мае—июне 1919 г. бастовали парижские водители метро и автобусов, банковские служащие, металлисты, горняки. В феврале—мае 1920 г. происходил новый подъем стачечного движения! Он начался с выступления железнодорожников против увольнения их товарища и последующего локаута, распространился на десятки тысяч шахтеров и ткачей и вылился в крупнейшую стачку на железных дорогах, которая продолжалась с 1 по 29 мая 1920 г. В течение нескольких дней в поддержку железнодорожников бастовали докеры, моряки, металлисты, рабочие авиационной и автомобильной промышленности, газовщики, электрики, мебельщики. Общее число участвовавших в выступлениях составило сотни тысяч человек. Забастовщики требовали повышения зар платы и национализации железных дорог. Движение сопровождалось крупными демонстрациями, столкновениями с полицией, массовыми арестами и репрессиями221. Активное участие в борьбе приняла революционно-синдикалистская оппозиция. Однако в итоге стачки закончились поражением. Тактика «последовательных штурмовых волн», по очереди охватывавших различные отрасли, оказалась неэффективной.
(ВКТ первоначально удалось на волне забастовок усилить свои позиции. В начале 1920 г. в ней состояло 2,4 миллиона членов. Но поражения забастовок нанесли ей тяжелый удар. К концу года ее численность упала до 1,3 миллиона членов)Сторонники революционного синдикализма, коммунисты и анархисты все сильнее критиковали лидеров ВКТ, обвиняя их умеренную политику в провале за бастовочного движения [222]. Однако группа Л. Жуо прочно удерживала руководство ВКТ в своих руках. Три основных лидера антивоенной оппозиции А. Меррхейм, Жорж Дюмулен и Ф. Мийон перешли на сторону большинства. Центром революционно-синдикалистской оппозиции стала группа во главе с Пьером Монаттом [222].
На конгрессе ВКТ в Лионе в сентябре 1919 г. выступило твердое синдикалистское меньшинство, поддержанное 588 профсоюза ми. Оно осудило политику классового сотрудничества лидеров кон федерации, подтвердило верность Амьенской хартии и поддержало идею мировой революции [224]. После Лионского конгресса меньшинство составляло примерно 40% от большинства и начало организовывать свои силы в революционно-синдикалистских комитетах (РСК). 3 октября 1919 г. на собрании РСК был образован ЦК во главе с генеральным секретарем Монаттом (в связи с его арестом с мая 1920 г. по март 1921 г. эти функции выполнял Виктор Годоннеш). Бывший лидер антивоенной оппозиции Реймон Перика участвовал в первом ЦК, но затем вышел из ВКТ и летом 1920 г. организовал в Марселе вокруг местного профсоюза строителей «Конфедерацию трудящихся мира» (насчитывала 400—500 членов и распалась в апреле 1922 г.). Конгресс ВКТ в Орлеане в сентябре 1920 г. продемонстрировал примерно то же соотношение сил [225].
Состоявшийся перед Орлеанским съездом конгресс меньшинства продемонстрировал рост влияния коммунистов. Он подверг критике политику Амстердамского Интернационала и потребовал присоединения ВКТ к Коминтерну [226]. Большая часть синдикалистов питала столь сильный энтузиазм по отношению к Московс кому Интернационалу, что отвергла как слишком умеренные даже предложения коммуниста Годоннеша о вступлении «в принципе» [227]. На конгрессе ВКТ в Орлеане революционное меньшинство предложило резолюцию, которая подтверждала верность Амьенской хартии, осуждала Амстердамский Интернационал за классовое со трудничество и призывала к вступлению в Коминтерн, поскольку «есть только один Интернационал революции». Революционные синдикалисты заявили о готовности «сотрудничать с политической организацией, которая будет действовать по-революционному на деле, а не на словах, сохраняя тем не менее свою полную автономию» [228]. Однако делегаты конгресса в Орлеане отвергли предложения революционного меньшинства 1482 голосами против 691 голоса [229].
Революционные синдикалисты из РСК разработали проект рабочего контроля на производстве, осуществляемого синдикатами и Революционные синдикалисты из РСК разработали проект рабочего контроля на производстве, осуществляемого синдикатами производственными комитетами. В конце 1920 г. проект был одобрен синдикатом металлистов Сены, а в мае 1921 г. — всей федерацией металлистов. Однако все большую роль играли сторонники компартии. Меньшинство упрекало руководство ВКТ в подавлении свободы мнений, лидеры конфедерации обвиняли меньшинство в коммунистическом влиянии и нарушении синдикалистских принципов, в ответ на что оно, в свою очередь, характеризовало «Амьенскую хартию» как чисто тактический документ перед лицом отсутствия действительно революционной партии 230. Чтобы противостоять усилению оппозиции, Национальный комитет ВКТ постановил 9 февраля 1921 г., что организации, присоединившиеся к Москве и к РСК, ставят себя вне конфедерации и лишаются представительства на съезде. Окончательное решение по этому вопросу должен был принять конгресс [231].
Группа анархо-синдикалистов в РСК, недовольная ориентацией их ЦК, сочла, что этот орган скорее приведет «к новому искажению синдикализма, чем к его выпрямлению». В феврале 1921 г. ряд синдикалистов (Пьер Бенар, Жорж Вер-дье, Мари, Биш, Мишель Реленк, Шюрэн, Машбёф, Шей-бер, Потион, Жув, Ферран, Дагерр, Мэзон, Годо, Анри Си-ролль, Валле, Тотти, Фуркад) с ведома бывшего лидера В К Т Виктора Гриффюэльса подписали секретный пакт, обязавшись «всеми средствами» работать над тем, чтобы установить кон троль над РСК и ВКТ [232].
20 мая 1921 г. руководство ЦК РСК перешло в руки анархо-синдикалистов во главе с новым генеральным секретарем железнодорожником Пьером Бенаром, одним из подписавших «пакт». В июле 1921 г. накануне конгресса ВКТ в Лилле Бе-нар ушел с поста генерального секретаря, оставшись замести телем и освободив себе руки для более активных действий.
Делегация РС К приняла участие в Первом конгрессе Профинтерна в Москве в июле 1921 г. В ее состав входили три члена «Пак та» (Годо, Сиролль, Реленк), а также Гэй, Годоннеш, Лябонн, Кло-дин и Альбер Лемуаны, Жозеф Томмаси и др. [233]. Но при обсуждении вопроса о взаимоотношениях между Коминтерном и Профинтер-ном французская делегация раскололась. Двое коммунистов (включая Росмера) поддерживали принятую резолюцию об организаци онной связи между обеими международными организациями. Синдикалисты (Сиролль, Годо и др.) категорически возражали и высказывали критические суждения о Профинтерне. Наконец, большинство членов делегации заняло промежуточные позиции. С одной стороны, оно осуждало двух коммунистов за нарушение данного им мандата. Французское профсоюзное движение, говорилось в заявлении, которое подписали, в частности, Монмуссо, Пьер Семар, Барт, Жув, Шабер, А.Кинтон, Ракамон, Гине, Телад, Мейер, Фонтен, Ребильон, Бриоллс, Монатт, Вердье, Вадекар, Биш, Ромбо, Дагерр и др., не может согласиться с «необходимостью тес ной связи между профсоюзами и коммунистическими партиями на национальном уровне, между Профинтерном и Коминтерном на интернациональном уровне». При этом подписавшие высказывали аргументы в духе традиционного революционного синдикализма Амьенской хартии: подмена классовой организации, открытой для всех трудящихся, идейным объединением приведет к ослаблению профсоюзов и обречет Профинтерн на «бездействие и смерть». Они призвали к независимости профсоюзов от политических групп, а профсоюзного Интернационала — от политического. Синдикалисты предлагали, чтобы ВКТ вышла из Амстердамского Интернационала, а ЦК РСК добился от Профинтерна проведения нового конгресса для отмены положения об организационной взаимосвязи. После этого должен был быть созван внеочередной съезд ВКТ для принятия решения о присоединении к Красному Интернационалу профсоюзов [234].
Встретившись с представителями синдикалистов и сторонников Сиролля, руководитель Профинтерна А. Лозовский убедил их поддержать принцип вступления в Красный Интернационал. Из Москвы Сиролль уезжал «в примирительном настроении». Однако, вернувшись во Францию, он и его сторонники изменили свою позицию. Выступая на заседании исполнительной комиссии РСК, они не подтвердили рекомендации о вступлении в Профинтерн. Определенное влияние на их позицию оказал анархист Гастон Леваль, входивший в испанскую НКТ Сиролль отказался представить общий отчет о поездке в Москву с коммунистами. Он заявил на заседании, что «защищал Русскую революцию, но боролся с Российской коммунистической партией» [235]. Сиролль высказался в поддержку анархистов и солидаризировался со статьями во французском анархистском органе «Лё Либертэр» с критикой Советс кой России [236]. Его критику в адрес Профинтерна поддержали Реленк и Лемуан.
Годоннеш и другие коммунисты представили собственный отчет, ратуя за принципиальное вступление в Московский Интернационал профсоюзов при выполнении определенных условий. Исполнительный орган РСК, однако, не поддержал ни его, ни Сиролля, но занял выжидательную позицию, предложив перенести вопрос на конгресс меньшинства ВКТ [237]. ЦК РС К принял резолюцию, близкую к заявлению большинства французской делегации. Конгресс революционного меньшинства ВКТ в Лилле июле 1921 г. одобрил принцип выхода из Амстердамского Интер национала и вступления в Профинтерн, «не нарушая Амьенской хартии», то есть при условии изменения его устава [238]. Сторонники Профинтерна оказались разделены на несколько группировок. Коммунисты Альфред Росмер и Годоннеш выступа ли как твердые и безусловные сторонники большевизма и Красного Интернационала. Характерно, что Росмер считал раскол ВКТ на революционную и реформистскую организацию «невыгодным» [239]. Французская компартия (ФКП) созвала в ноябре 1921 г. конференцию синдикалистов — членов партии, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и политику ФКП в профсоюзах. Она проходила в «мирной атмосфере», но сопровождалась существенными спорами. Против официального проекта, предложенного Дюнуа, выступила большая группа делегатов во главе с Майю, который опасался, что партия объявит войну синдикалистам [240]. Многие синдикалисты полагали, что не следует торопиться со вступлением в Профинтерн и нужно подождать его второго конгресса. Они готовы были поддержать вступление при условии сохранения независимости и автономии профсоюзного движения и отмены постоянной связи между Профинтерном и Коминтерном. Эти синдикалисты разделяли позицию, занятую итальянским УСИ [241]. Совмещать таким образом синдикализм и симпатии к коммунистам пыталась группа Монатта [242].
Тем временем ВКТ продолжала слабеть. В 1921 г. в ней, по ее собственным данным, насчитывалось всего 550 тысяч членов [243]. На конгрессе УВКТ в Лилле в июле 1921 г. меньшинство составляло уже 4/5 большинства [244]. В предварительном конгрессе, проведенном накануне оппозицией, приняли участие 1000 синдикатов по сравнению с 2950, представленными на национальном конгрессе. Но проект, утвержденный меньшинством, был отклонен делегатами съезда ВКТ: по одним данным, 2950 голосами против 1348, по другим — всего 1572 голосами против 1325 при 66 воздержавшихся [245]. В сентябре 1921 г. ЦК ВКТ подтвердил, что профсоюзы не должны входить в РС К под угрозой исключения. В ответ Бенар и два других секретаря ЦК РCК призвали к проведению конгресса новой, «революционной ВКТ». Их поддержал конгресс Союза синдикатов Сены в ноябре 1921 г.
На конгрессе меньшинства в Париже 22—24 декабря 1921 г. с участием 1528 синдикатов выявились две тенденции. Бенар и Монмуссо выступили за немедленный разрыв с ВКТ, Монатт — за осторожность. Была принята резолюция с призывом к проведению внеочередного конгресса ВКТ в начале 1922 г. Однако руководство ВКТ отказалось, и раскол стал свершившимся фактом [246].
Он выявился на чрезвычайном конгрессе ВКТ в феврале 1922 г. О своем желании остаться в этом профцентре заявили 31 из 44 представленных федераций и 44 из 81 департаментского союза. Руководство отказалось от всяких дальнейших переговоров, и ушедшее меньшинство создало собственную «Унитарную ВКТ» [247].
В рядах движения, отколовшегося от ВКТ, не было единства. В нем участвовали как «чистые» революционные синдикалисты, так и анархо-синдикалисты и сторонники компартии. Большинство в бюро и Административной комиссии в начале принадлежало синдикалистам и анархо-синдикалистам [248]. Их первоначальное преобладание проявилось уже на первом заседании Национального совета УВКТ 5—6 марта 1922 г., в котором приняли участие представители 50 департаментских союзов профсоюзов и 28 профессиональных или отраслевых федераций, представлявших 337 тысяч членов. Временное бюро предложило резолюцию, в которой выражалась симпатия к Русской революции, но содержался протест против репрессий любых правительств в отношении синдикалистов и анархистов. Большевистское правительство при этом не было упомянуто, но некоторые коммунисты во главе с Монмуссо возражали против проекта, понимая его скрытую интенцию. Другие члены ФКП (включая секретаря УВКТТотти) защищали предложенный текст. Масла в огонь подлил анархист Коломер, который от крыто задал вопрос, имеются ли в виду большевистские «акты про извола в России». Он спрашивал, не следует ли отказаться от «двусмысленности» текста и ясно провести различие между Русской революцией и правительством большевиков. Член бюро Поль Кадо пояснил, что проект резолюции касается репрессий со стороны любого правительства, «будь оно большевистским, социалистическим, республиканским или роялистским», и что никто не собирается смешивать революционные действия с действиями правительств. Коломер был удовлетворен. Но зато возмутился Монмуссо. Он назвал резолюцию «осуждением Русской революции». Коммунисты добивались, чтобы в тексте фигурировало осуждение не любых правительств, а только «буржуазных», но это встретило решительные возражения большинства участников. Особенно резко выступил лидер анархо-синдикалистов Бенар, заявивший: «Синдикализм отрицает все формы государства и должен защищаться против актов произвола... Ведь неопровержимо установлено, что большевистское правительство России совершало и продолжает совершать акты произвола, от которых страдают наши товарищи — революционные синдикалисты». Коммунисты Семар, Монмуссо и Вадека пытались спорить с Бенаром, доказывая, что репрессии на правлены против анархистов, а не синдикалистов. Но этот аргумент не встретил понимания. Большинство выступавших (Барт, Лекуан, Аржанс, Тотти и Лоридан) высказались за осуждение любых правительств, преследующих синдикалистов. Назревавший конфликт был смягчен Мари Гюйо, которая от имени бюро предостерегла от борьбы тенденций и призвала к сохранению единства. После это го резолюция была принята единогласно [249]. Еще одним поражени ем для коммунистов и их сторонников стало голосование по вопросу о том, какие профсоюзы могут участвовать в будущем конгрессе УВКТ с правом решающего голоса. Представители 19 федераций и 31 департаментского союза поддержали проект, внесенный синдикалистским и анархо-синдикалистским крылом (федерациями строителей, работников зрелищ и моряков) и предусматривавший участие лишь тех профсоюзов, которые до 15 апреля порвали с ВКТ. Предложение коммуниста Семара, федерации государственных служащих, Монмуссо и др. о допуске тех, кто определится до 1 июня, встретило поддержку лишь 14 федераций и 17 союзов. Национальный совет УВКТ высказался за непереизбираемость профсоюзных функционеров и утвердил лозунги борьбы за вось мичасовой рабочий день, против введения налога на зарплату и за повышение заработков. Манифестация 1 мая должна была проходить под знаком выступлений против безработицы. Комментируя результаты заседания, газета французских анархистов «Либертер» назвала его триумфом «революционного и федералистского» синдикализма и поражением сторонников Москвы [250].
Что касается международной ориентации, то лидеры УВКТ склонялись к вступлению в Красный Интернационал профсоюзов при соблюдении независимости французского синдикализма. 8 марта 1922 г. лидеры УВКТ Релснк, Кадо, Лябрусс, Бенар, Фарнь, Тотти и Кинтон направили Исполнительному бюро Профинтсрна сообще ние о создании новой конфедерации и ее намерении присоединиться к Красному Интернационалу профсоюзов при выполнении им ряда условий, которые «не подлежат изменению», но являются «строги ми, абсолютными, целостными». Это были условия компромисса. Они включали: «полную автономию» и «абсолютную независимость» национальных профорганизаций от компартий «в области администрации, пропаганды, подготовки акций, изучения средств организации будущих выступлений и, наконец, самого действия»; аналогичную «автономию и независимость» во взаимоотношениях Профинтерна и Коминтерна. «Никакого обмена делегатами меж ду обоими Исполкомами, никакого взаимопроникновения, — настаивали авторы письма. — Оба Интернационала действуют каждый в своей области, без какого-либо взаимного стеснения сферы действий». УВКТ предлагала руководству Профинтерна внести соответствующие предложения по изменению устава на рассмотрение второго конгресса международной организации. В то же время признавалась необходимость «коалиции всех революционных сил в случае совместных действий, наступательных или оборонительных». С этой целью УВКТ предлагала всякий раз создавать координационные комитеты для достижения общих целей, разработки единой тактики и распределения задач, определения методов и средств борьбы и т.д. Они могли образовываться как на национальном, так и на интернациональном уровне и прекращать действовать, «как только намеченные цели будут достигнуты» [251]. По существу, речь шла о своеобразном развитии довоенного революционно-синдикалист-ского принципа, изложенного еще в Амьенской хартии, но при до пущении политического сотрудничества с коммунистами. Этот проект был подготовлен синдикалистом Раленком, который стремился договориться с Профинтерном и, по свидетельству испанского ком муниста И. Арландиса, «больше всего» делал для Москвы [252].
В мае 1922 г. французские коммунисты сообщали в Профинтерн, что в Административной комиссии УВКТ «господствуют анархистские элементы» и в ней «нет никого, кто бы нас поддержал или понял». Монмуссо практически не появлялся на заседаниях, а двое членов ЦК ФКП, состоявших в комиссии, голосовали «вместе с анархистами». Сторонники Москвы начали издавать собственный бюллетень и пытались собрать вокруг себя приверженцев [253]. Но вскоре выяснилось, что такое положение неустойчиво, поскольку синдикалисты стали сближаться со сторонниками ком партии [254].
Понимая, что анархо-синдикалисты и анархисты могут оказаться в меньшинстве, Бенар в июне 1922 г. подготовил создание Комитета синдикалистской защиты (КСЗ). Делегаты от этой группы (Бенар, Тотти, Лекуан) участвовали в июне 1922 г. в конференции революционных синдикалистов в Берлине, на кото рой было принято решение о необходимости создания нового Интернационала [255]. Постановление об участии в конференции с консультативной целью было принято Административной комиссией УВКТ, вопреки возражениям сторонников Профинтерна [256].
В июне 1922 г. на конгрессе в Сент-Этьенне еще весьма текучие коммунистическая, революционно-синдикалистская и анархо-синдикалистская тенденции официально оформили создание Унитар ной ВКТ (УВКТ). Представлены были в общей сложности 171 местная фуппас 360 тысячами членов. Анархо-синдикалисты оказались меньшинстве. Они внесли проект, который был предложен Бена-ром и предусматривал полную автономию синдикализма в национальном и международном плане. Революционные синдикалисты (Монмуссо) предложили свою резолюцию о независимости от поли тических партий, но при признании диктатуры пролетариата на переходное время вплоть до полной консолидации революции. Второй проект был принят при поддержке коммунистов 743 (по другим дан ным — 848) голосами против 399 анархо-синдикалистов Бенара и анархистов Лекуана и Коломера. Затем 777 голосами против 391 де легаты поддержали присоединение к Профинтерну при условии, что тот провозгласит на своем следующем конгрессе автономию проф союзов [257]. Утвержденные статуты УВКТ были в основном аналогич ны документам прежней ВКТ.
Таким образом, конгресс отверг «любую идею создания иного профсоюзного Интернационала, помимо Московского, при том твердом условии, что статуты и резолюции этого Интернационала будут соблюдать национальную автономию французского синдикализма». Он призвал Профинтсрн скорейшим образом внести изменения в свой устав и поручил своим делегатам на следующем меж дународном конгрессе добиваться отмены статьи 11 Устава о связи между Красным Интернационалом профсоюзов и Коминтерном [258]. 17 августа новый Секретариат УВКТ официально сообщил Исполнительному бюро Профинтерна, что готовит предложения ко вто рому конгрессу этой международной организации и надеется на «реализацию международного синдикалистского фронта в рамках Красного Интернационала профсоюзов» [259].
Сент-Этьеннское большинство УВКТ состояло из представителей трех тенденций, которые были едины в своем неприятии создания синдикалистского Интернационала, но расходились в том, что касалось условий присоединения к Профинтерну. Здесь были сторонники сохранения организационных связей между Коминтерном и профсоюзным Интернационалом (группа Планшона), те, кто соглашались на связь двух Интернационалов, но требовали автономии УВКТ по отношению к Французской ком партии (фуппа вокруг газеты «Виувриер»), и, наконец, приверженцы вступления в Профинтерн на условиях полной автономии профсоюзов по отношению как к Коминтерну, так и к национальным компартиям (фуппа Мари Гюйо) [260].
Хотя соотношение сил в руководстве УВКТ изменилось в пользу сторонников Московского Интернационала, организация все еще оставалась неоднородной. В Административную комиссию входили представители как минимум четырех течений: коммунистов-синдикалистов, группировавшихся вокруг печатного органа «Виувриер» (Монмуссо, члены ФКП Дондиколь, Клавель, Жакоб, Гурдо и др.), «чистых» коммунистов, анархистов и федералистов (Лекуан, Бенар, Кинтон, которых поддерживали и некоторые новые члены компартии) и, наконец, неопределившихся [261].
В июле 1922 г. Бенар выпустил воззвание «Синдикализм в опасности!». В августе КСЗ конституировался, опубликовал свои ста туты и объявил себя открытым для всех членов профсоюзов, голо совавших в Сент-Этьенне за проект Бенара. Бенар был избран секретарем комитета [262].
Комитет синдикалистской защиты, как объясняли его секретари Бенар и Альбер Лемуан Учредительному конгрессу МАТ в декабре 1922 г., не являлся общенациональным проф союзным движением в подлинном смысле слова и имел лишь несколько местных межпрофессиональных объединений. Он представлял собой оппозиционное течение внутри УВКТ, небольшую группу активистов, которая, однако, по ее собственным данным, оказывала влияние на примерно 180 тысяч членов конфедерации. Поддерживая все экономические выступления, КСЗ выступал против других форм борьбы. Ему удалось приобрести некоторый авторитет среди трудящихся [263]. Этому способствовало посильное участие активистов КСЗ в забастовочных выступлениях, особенно поддержку крупной забастовки в Гавре. После того как власти расправились с участниками стачки (имелись жертвы), под давлением КСЗ и Федерации строителей УВКТ вынуждена была призвать к проведению всеобщей 24-часовой стачки протеста 28 августа. Коммунисты сочли это решение «абсурдным» [264]. Существенно укрепила авторитет КСЗ и активная кампания в защиту российско го анархо-синдикалиста Шапиро, арестованного властями Советской России. Резолюции протеста приняли, в частности, Генеральный совет Союза профсоюзов Сены (по предложению Гандо) и Федерация строителей. Попытки коммунистов провести вместо этого альтернативное решение о посылке делегации в Россию для выяснения обстоятельств ареста были с негодованием отвергнуты [265]. Строители призвали руководство УВКТ присоединиться к протестам «во имя свободы мнения для революционно-синдикалистских активистов в России». Однако исполком конфедерации отказался это сделать. Он ограничился тем, что направил за подписью Мон-муссо письмо в Профинтерн, в котором сообщал о «чувствах, которые этот арест вызвал в синдикалистской среде», но одновременно заверял в своем намерении «положить предел кампании поношения» со стороны «противников Профинтерна и Русской революции про тив Правительства Советов» [266].
Выступая против присоединения к Профинтерну, поскольку тот отказывался «признать полную автономию и независимость синдикализма» (в национальном и интернациональном масштабе), КСЗ в то же время соглашался лишь «морально» примкнуть к создаваемому синдикалистскому Интернационалу. Он стремился к тому, чтобы убедить в необходимости такого шага всю УВКТ [267]. Опорой синдикалистской оппозиции в У ВК Т стали Федерация строителей и железнодорожники Орлеана [268].
Однако силы синдикалистов оказались расколоты. Некоторые из них (Реленк, Кадо, Тулад) отказались присоединиться к КСЗ и продолжали настаивать на вступлении в Профин терн при условии отмены пункта 11 в Уставе Профинтерна о связи между ним и Коминтерном [269]. В сентябре 1922 г. они разработали направили в Москву соответствующий документ, к которому приложили проект взаимодействия Профинтерна и Коминтерна. Оба международных объединения должны были работать незави симо друг от друга, но при необходимости создавали совместный Комитет действия с участием трех делегатов от исполкомов каждого из обоих Интернационалов. Документ подписал 31 видный деятель УВКТ, включая революционных синдикалистов Кадо, Реленка и Шарля Пьетри, коммунистов — сторонников автономии профсоюзов (в т.ч. секретаря федерации кожевников Луи Сула) и даже некоторых членов КСЗ (Кинтона, лидеров металлистов Аржанса и Шевалье). Не присоединились только твердые приверженцы син дикалистского Интернационала и сторонники вступления в Профинтерн без всяких условий270. Исполком УВКТ предложил проект изменения устава Профинтсрна, который был представлен второму конгрессу международной организации [271].
самом КСЗ существовали разногласия по вопросу о профсо юзном единстве: Бенар ратовал за воссоединение рабочего движе ния снизу, анархисты Лскуан и Коломер выступали за единство на основе УВКТ и осенью 1922 г. вышли из исполнительной комиссии КСЗ. В свою очередь, Бенар прекратил во второй половине 1922 г. участвовать в работе Международного бюро революционных синдикалистов, а позднее 1 июня 1923 г. официально ушел с поста секретаря КСЗ [272].
После того как 2-й конгресс Профинтерна принял решение об организационном разделении профсоюзного движения и Комин терна, руководство УВКТ было удовлетворено тем, что оно сочло выполнением своих условий. После возвращения делегации кон федерации с конгресса против условий присоединения к Профин-терну выступили анархо-синдикалистское меньшинство и некото рая часть синдикалистов, представленных в Исполнительной комиссии и Конфедеральном бюро. Сторонники Гюйо высказыва ли осторожные опасения насчет искренности лидеров Профинтер на. Тем не менее казалось очевидным, что ход борьбы во француз ском профцентре склоняется в пользу Москвы.
Революционный синдикализм в Скандинавских странах
Скандинавские страны не принимали участия в Первой ми ровой войне, но входе ее положение трудящихся в Швеции, Норвегри и Дании ухудшилось.
В Швеции зимой 1916/1917 г. была введена частичная карточная система. Цены стремительно росли. Увеличивалось и массовое не довольство. На голод, спекуляцию и дороговизну рабочие отвеча ли демонстрациями, митингами, захватом продуктов питания. В апреле 1917 г. в Вестервике рабочий комитет временно взял под контроль учет и распределение продуктов. Попытка использовать войска вызвала солдатские демонстрации солидарности с рабочими. Выступления были стихийными или возглавлялись левыми социал-демократами и анархо-синдикалистами. Новая волна рабочих демонстраций пришлась на лето 1917 г. Росло количество забастовок. Рабочим удалось добиться существенного повышения зарплаты, в 1918 г. — страхования от несчастных случаев на производстве за счет предпринимателей, а в 1919 г. — введения 8-часового рабочего дня. На 1920 г. приходился пик забастовочной борь бы. Но уже в 1921 — 1922 годах в условиях экономического кризиса выросла безработица, и предприниматели перешли в контрнаступ ление. Центральное объединение профсоюзов Швеции (ЦОПШ , крупнейшее профобъединение, находившееся под преобладающим влиянием социал-демократии) отвергло идею защитить рабочие интересы с помощью всеобщей стачки [273]. Напротив, шведский син дикалистский профцентр САК (Центральная организация шведс ких рабочих) призывал к расширению забастовочного движения. Одним из крупнейших выступлений САК в 1918 г. было участие нескольких тысяч ее членов в стачке шахтерову Эрганизация истратила на ее поддержку 800 тысяч крон [274].
3а годы послевоенного революционного подъема ряды CАК возросли до 32 299 членов в 396 местных организациях в 1920 г. (11 776 каменщиков и строителей, 9414 рабочих лесной и бумажной промышленности, 3054 металлиста, 2187 шахтеров, 270 сельскохозяйственных рабочих) [275]. В условиях кризиса численность САК снова несколько сократилась.
Шведские синдикалисты внимательно следили за револю ционными событиями в Европе и пытались осмыслить их ход и результаты. Они одними из первых подвергли критике большеви ков и лозунг «диктатуры пролетариата» как переворот сверху. По их мнению, нельзя было разрывать процессы свержения старого общества и создания нового. Революция должна была стать одно временно разрушительным и созидательным процессом, для чего се следовало спланировать, подготовить и осуществить через по средство конструктивного синдикализма. Рабочие должны были шаг за шагом укреплять свое влияние на производстве, добивать ся рабочего контроля, приобретать технические и организационные знания и навыки и готовиться к тому, чтобы полностью вырвать средства производства и обмена из рук буржуазии.
1918 г. в САК начались теоретические дискуссии на эту тему, и в 1919 г. они достигли апогея [276]. Конгресс 1919 г. подтвердил синдикалистскую декларацию принципов. Официально САК считала себя синдикалистской (не анархо-синдикалистской) организацией, основываясь на принципах, сформулированных в Амьенской хар тии и декларации принципов немецкого синдикалистского проф-центра ФАУД.
«Анализ международного революционного движения ясно показал САК, что революция должна принять органическую, эволюционную форму. Тактика революции должна, в соответствии с английским примером, быть нацелена на расширение влияния рабочих на их фабриках до того момента, когда они возьмут их под свой полный контроль. Поэтому следовало избегать насильственной конфронтации между трудом и капиталом... Идеологи САК полагали, что необходимые качества для успешной со циальной революции могут быть приобретены рабочими посред ством изучения и практического опыта, как на работе, так и в своей собственной организации... Международное сравнение, как кажется, подтверждает то, о чем шведские синдикалисты говорили в то время, то есть что их новая концепция революции происходила из Англии. Идеология САК явно отличалась от идеологии ВКТ во Франции и ФАУД в Германии. Только САК выступала за эволюционную революцию», — отмечал исследователь Л. Перссон [277].
Соответственно шведские синдикалисты занялись разработкой перспектив нового общества. Они окончательно отвергли марксис тскую централизацию и выбрали децентрализацию и самоуправле ние единиц, при том что средства производства должны принадле жать обществу в целом. Подкомитет профобъединения разработал полный план будущей организации промышленности на основе принципов федерализма и ассоциации на местном, вертикальном и интернациональном уровнях. Базовую единицу составляли проф союзы, федерации и отраслевые подразделения. В 1922 г. САК одобрила план для нужд внутренней организации. Общество дол жно было основываться на общинах, созданных на базе местных межпрофессиональных организаций профсоюзов, и их региональ ных федерациях снизу [278].
В международном плане три представителя САК принимали уча стие в учредительном конгрессе Профинтерна в 1921 г.279 В син дикалистском профцентре действовало коммунистическое мень шинство, которое добивалось присоединения к Московскому Интернационалу. Первоначально оно оставалось неорганизован ным, но коммунисты создали ячейки в ряде местных синдикалис тских организаций. В декабре 1921 г. Москва дала инструкции шведской делегации: не создавать ячейки внутри САК, если это может привести к ухудшению отношений между коммунистами и синдикалистами. Однако в начале 1922 г. эти отношения и без того существенно испортились, а синдикалисты все резче стали крити ковать большевизм и политику большевистского правительства в России. После этого компартия постановила развернуть широкую работу по созданию ячеек. Однако коммунистический союз проф союзной пропаганды признавал в отчете, направленном им в Про-финтерн в июле 1922 г., что эта работа сталкивается со значитель ными трудностями и требует большой осторожности, поскольку «коммунисты, которые являются синдикалистами, — в первую оче редь синдикалисты и лишь потом уже — коммунисты» [280].
Коммунистам удалось добиться некоторых успехов. Главный редактор печатного органа САК «Арбетарен» выступил против со здания отдельного синдикалистского Интернационала и симпати зировал Профинтерну [281]. Но позиция большинства ведущих акти вистов организации становилась все более непримиримой. В мае 1922 г. в «Арбетарен» было опубликовано заявление центрального органа САК «Отношение САК к Профинтерну», в котором присо единение к Московскому Интернационалу категорически отвергалось. Руководство САК не видело необходимости принимать пред ложение некоторых секций о проведении голосования среди членов организации по вопросу об отношении к Профинтерну, поскольку ни одна секция так официально и не призвала к формальному вступлению. Кроме того, указывалось в заявлении, соответствую щее голосование и даже простое обсуждение этого вопроса на конгрессе САК предполагает предварительный отказ профцентра от утвержденной декларации принципов, в особенности от тех ее по ложений, в которых идет речь о независимости от политических партий и о замене государства и капитализма экономической организацией трудящихся, либо же изменение статутов Профин-терна с включением в них указанных принципов, с тем чтобы при вести их «в соответствие с основополагающими принципами син дикализма» [282].
Новая идеология была официально утверждена С А К на конг рессе 27 августа — 3 сентября 1922 г. в Стокгольме. В нем участвовали 128 делегатов, представлявших 226 местных организаций. 66 голосами против 30 была одобрена повестка дня, включавшая про тест против преследования революционеров в России. Состояв шийся перед форумом референдум о вступлении в Профинтерн отклонил вступление в Московский Интернационал 3934 голоса мипротив 176. Сторонники большевиков на конгрессе критикова ли редакцию «Арбетарен» за непримиримость в отношении России, но поведение редактора было одобрено без голосования. Делегаты призвали к солидарности с итальянскими товарищами. В последу ющем удалось собрать и передать итальянским синдикалистам 10 тысяч крон [283].
Принятие новой Декларации принципов, плана социалистической образовательно-просветительной работы и новой формы орга низации завершало идейную переориентацию САК. В конце 1922 г. профцентр принял участие в образовании анархо-синдикалистского Интернационала.
Синдикалистское движение в соседней Норвегии развивалось под влиянием шведских синдикалистов. Часть местных организаций шведских рабочих в Норвегии вступила в 1912—1913 годах в САК. В период Первой мировой войны в САК вошли и шведские до рожные и строительные рабочие в Норвегии, так что в 1916 г. в орга низациях САК в Норвегии насчитывалось 700 членов [284]. Многие норвежские рабочие были недовольны тем, что лидеры Централь ного объединения профсоюзов Норвегии (ЦОПН, профсоюзного объединения, которое находилось под полным влиянием Норвеж ской рабочей партии) дали согласие на замораживание роста зар платы, несмотря на постоянный рост цен. Местные профсоюзные организации, многие из которых входили в САК, вопреки соглашениям, достигнутым реформистскими союзами, смогли навязать предпринимателям более высокий уровень зарплаты [285].
После провала переговоров между организациями САК в Нор вегии, представителями ЦОПН и норвежской профсоюзной оппо зиции в июне и декабре 1916 г., исполком САК признал право нор вежских секций создать собственную организацию [286]. 28 декабря 1916 г. в Кристиании был созван съезд, на котором была образова на Норвежская синдикалистская федерация (НСФ). В HСФ было 17 местных профсоюзов с 1024 членами [287] Xотя новая организация имела организационную самостоятельность, она оставалась тесно связанной с САК. С апреля 1917 г. до 1923 г. САК и НСФ образо вывали Центральную организацию скандинавских рабочих [288].
Лидеры ЦОПН встретили создание небольшого синдикалист ского профобъединения враждебно. Они неоднократно пытались сорвать забастовки, организованные НСФ. Пользуясь тем, что многие из активистов НСФ были шведами, реформистские проф союзы заявляли, что стачки организованы извне, и бунтовщики высылались из страны. В 1917— 1919 годах только из провинций Вестландет и Сёрландет были высланы 2 тысячи шведов. Другим методом давления стали попытки «растворить» союзы НСФ в со зданных в 1917 г. отраслевых федерациях ЦОПН [289].
Норвежские синдикалисты активно включились в забастовоч ное движение. В 1919 г. НСФ приняла участие в 27 рабочих конфликтах, из них 14 пела самостоятельно (в том числе 5 закончились победой, 2 — компромиссом, 2 — поражением), а 13 — вместе с ЦОПН (в т.ч. 2 закончились победой, 7 — компромиссом, 2 — по ражением, 1— неопределенно, 1— безрезультатно).
Весной 1919 г. синдикалистское профобъединение стало изда вать газету «Аларм», редактором которой до 1927 г. был Карл О. Танген. Тираж ее в 1921 —1923 годах достигал 2,5 тысяч экз. и 1900 экземпляров в 1924 г. (555 подписчиков). В начале 1920-х гг. мест ная организация НСФ в районе Рюнке издавала еще одно ежене дельное издание — «Маане» [290]. В 1920—1921 годах НСФ насчиты вала 3100 членов в 62 местных организациях [291]. На пике своего влияния, в мае 1921 г. во время объявленной реформистскими профсоюзами всеобщей стачки рабочие НСФ взяли под контроль заполярный город Хаммерфест и вели бои с армией. Стачка закон чилась неудачей [292].
В последующие годы норвежское синдикалистское движе ние понесло существенный урон из-за увеличившейся в 1922 г. безработицы. Она ударила по оплоту НСФ — молодым каменотесам и шахтерам (общее число шахтеров в Норвегии сокра тилось с 8 тысяч в 1916 г. до 2500 в 1926 г.). Так же или еще хуже обстояло дело в каменной промышленности, у дорожных и желез нодорожных строителей, где было немало синдикалистов. Тем не менее НСФ смогла сохраниться [293]. В начале 1920-х годов в федера ции имелась 51 местная группа с 1700 активными членами и дву мя отраслевыми федерациями — каменотесов и сельскохозяй ственных рабочих [294]. В начале 1923 г. норвежские синдикалисты единогласно проголосовали на референдуме за вступление в анар-хо-синдикалистский Интернационал [295].
В Дании в период Первой мировой войны численность неболь шой революционно-синдикалистской группы, которая с 1910 г. выступала под флагом «Объединения профсоюзной оппозиции» и издавала газету «Солидаритст», возросла до тысячи человек. Орга низация выступила инициатором ряда острых общественных кон фликтов [296]. Оппозиция действовала в рамках официальных рефор мистских профсоюзов (Центрального объединения профсоюзов Дании. ЦОПД), но ее позиции все больше эволюционировали в сто рону анархо-синдикализма. Она не стремилась провести своих лю дей в руководство профсоюзов, но пыталась работать среди рядовых членов [297].
Синдикалистское движение в стране заметно усилилось после начала в 1917 г. Русской революции и по мере все большего недовольства умеренной политикой социал-демократи и Еженедельную газету «Солидаритет» удалось превратить в ежедневную, ее тираж достиг 17 тысяч. К 1918 г. в «профсоюзной оппозиции» насчитывалось уже до 4 тысяч членов [298].
В период войны датские синдикалисты активно поддерживали движение за отказ от воинской службы") Газета «Солидаритет» за щищала его участников и распространяла его информацию. Она выступила с резким протестом против полицейских преследований профсоюза неквалифицированных рабочих в Копенгагене, перед бюро которого один из отказников вывесил 9 августа 1918 г. свою униформу. В результате три видных деятеля синдикалистской оп позиции были арестованы. Ответом на аресты стали массовые со брания рабочих, на которых выдвигались требования объявить все общую стачку протеста. Участники одного из митингов двинулись на биржу, разогнали биржевиков и разгромили призывное бюро. За этим последовали новые аресты и приговоры до 25 лет заключения.
В организации этой акции была обвинена синдикалистская оппозиция, и по ней был нанесен тяжелый удар [299].
Другим ослабляющим фактором оказалось влияние большеви ков: в 1920— 1921 годах некоторые лидеры «профсоюзной оппози ции» (включая се ведущего активиста Кристиана Кристенсена) перешли на сторону коммунистов. Столкнувшись с нехваткой средств на издание газеты и профсоюзную деятсльностх(5 тысяч крон, предоставленных шведской САК, оказалось недостаточно), они обратились за помощью к Москве [300]. В марте 1921 г. оппози ция официально заключила федеративное соглашение с компартией и высказалась за вступление в Профинтерн [301]. Это была попытка объединить синдикалистов и коммунистов. Сам Кристенсен первоначально воспринимал се как тактический шаг. Как утверждали коммунисты — противники объединения, синдикалистский лидер заявил: «Мы берем деньги и душим ком мунистов в любовных объятиях» [302]. Объединившись с коммунистами, активисты стали участвовать в выборах в руководящие органы профсоюзов. Так, после крупных стачек весной 1922 г., последовав ших за локаутом 100 тысяч рабочих, коммунистам и синдикалис там удалось взять в свои руки местную профсоюзную группу в Оденсе: в ее руководство вошли 4 коммуниста, 1синдикалист и 2 социал-демократа [301].
Недовольное новой ориентацией на большевиков синдикали стское крыло попыталось создать собственную группу — «Датское федералистское объединение» (1919 г.) [304]. После объединения боль шей части синдикалистов с коммунистами анархо-синдикалисты откололись [305], а затем образовали «Союз синдикалистской пропаганды» во главе с Э. Манусом [306], который в 1922 г. насчитывал 600 членов. Союз принял участие в создании анархо-синдикалистско-го Интернационала. Однако этот Союз просуществовал всего пол года и распался под давлением руководства «профсоюзной оппозиции».
Борьба в революционно-синдикалистском движении в Нидерландах
Голландские синдикалисты выступили в массе своей против Первой мировой войны (за исключением Корнелисссна и нескольких других). Революционно-синдикалистский проф-центр — Нидерландский секретариат труда (НСТ) — активно под держивал движение за уклонение от военной службы, в котором участвовали сотни его членов [307]. НСТ вместе с рядом анархистских фупп, рабочих профсоюзов и левых партий образовал антивоен ный блок, который вел широкую антимилитаристскую агитацию [308]. Голландия оставалась нейтральной, но последствия мировой вой ны привели к резкому росту цен и ухудшению условий жизни тру дящихся. По стране прокатились стихийные выступления против последствий войны. В июне 1916 г. начались демонстрации женщин против рационирования продуктов, в начале 1917 г. — разгромы булочных; против их участников власти Амстердама, возглавлявшиеся правыми социал-демократами, использовали войска. В июле 1917 г., после новых выступлений женщин против дороговизны и разгромов булочных, муниципалитет Амстердама запретил все де монстрации. Демонстрации были расстреляны («кровавая неделя»); в ответ антивоенный Комитет провел всеобщую 24-часовую заба стовку [309]. В период войны в Нидерландах прошел ряд стачек (на оружейной фабрике Де Хембруг, в текстильной промышленности в Твенте, на шахтах в Лимбурге, в порту Роттердама и т.д.) [310]. Антивоенная борьба способствовала быстрому росту рядов голландского революционного синдикализма. Численность НСТ выросла с 10 598 в 1914 г. до 48 764 в 1918 г. [311]. Возникали новые профсоюзы в рамках НСТ. Так, 1сентября 1916 г. была образова на Нидерландская федерация работников транспорта [312]. Голландс кие синдикалисты приняли самое активное участие в революционном подъеме после Первой мировой войны.(В декабре 1918 г. в Амстердаме, Гааге, Роттердаме идругих крупных городах состоялись массовые рабочие демонстрации. Властям и реформистским проф союзам удалось прекратить их ценою существенных уступок, включая введение 8-часового рабочего дня, социального законодатель ства, повышения зарплаты и страховых выплат по несчастным случаям на производстве, безработице, старости, болезни, введение все общего избирательного права и т.д. Рабочим пообещали даже участие в управлении предприятиями. Однако уже к концу 1919 г. власти пе решли в контрнаступление [313]. В 1920 г. был принят закон против революционной пропаганды. Он предусматривал наказание за под стрекательство к забастовкам и за их организацию. НСТ и социал-демократические профсоюзы призвали провести 8 июля 1920 г. всеобщую стачку, которая распространилась на все отрасли, за исключением железных дорог и государственных служащих в Амстердаме, Гааге и Роттердаме. В действительности в выступлении приняли участие почти все члены НСТ, но активность членов со циал-демократического профцентра была небольшой. Особенно активно выступили муниципальные работники Амстердама, состо явшие в НСТ. Они были наказаны властями, но закон удалось не сколько смягчить [314].
Период 1920—1922 гг. был временем острой экономической борьбы. Трудящиеся пытались сохранить свои завоевания, пред приниматели — отобрать их) В феврале 1920 г. докеры Амстер дама и Роттердама начали по инициативе синдикалистской феде рации транспортников забастовку за повышение зарплаты, которая продолжалась в течении 13 недель. В выступлении участвовали 20 тысяч рабочих. Лидеры федерации Бертюс Боуман и Снеевлит вели активную агитацию за распространение стачки на другие предпри ятия, железные дороги и коммунальные службы [315]. Как признавал позднее Боуман, синдикалистам не удалось применить такие рево люционные методы борьбы, как стачки солидарности, так как же лезнодорожники и моряки речного транспорта находились под влиянием социал-демократов, которые противились подобным действиям [316]. Хотя движение носило упорный характер и получи ло поддержку английских рабочих, объявивших бойкот голландс ких судов, хотя бастовавшие отвергли правительственный арбитраж и намеревались продолжать борьбу, в конечном счете предприни мателям удалось с помощью штрейкбрехеров подавить его. В кон це мая на встрече с представителями других профцентров НСТ предложил объявить стачки солидарности, но те отвергли эту идею [317].
С конца июня по начало августа 1920 г. продолжалась стач ка строителей. Выступление началось с локаута в провинции Гронинген: так предприниматели ответили на требование ра бочих о повышении зарплаты. НСТ и так называемые «современные» профсоюзы объявили забастовку, после чего локаут был распространен на всю страну. Большинство реформистских профсо юзов не поддержало стачку, однако бастующим удалось добиться небольшого повышения заработков. В октябре НСТ выступил в под держку стачки почтово-телеграфных работников, но и она не была подкреплена выступлением других профцентров и вынуждена была прекратиться через 3 дня. Правительство незначительно повысило зарплату почтовикам [318].
Активно участвовали в борьбе и рабочие-синдикалисты других профессий. В декабре 1919 — феврале 1920 г. 280 членов НСТ при няли участие в забастовке рабочих, занятых производством сундуков в Амстердаме. 120 мебельщиков и обойщиков из НСТ были затро нуты локаутом в марте 1920 г. 145 синдикалистов приняли участие в 14-недельной забастовке изготовителей плетеной мебели [319].
(В 1920 г. тираж печатного органа союза «Де Арбейд» вырос до 13 тысяч. В НСТ состояла 51 тысяча трудящихся, в том числе 18 тысяч докеров и транспортников, 13 тысяч строителей, 7 тысяч металлистов, 5 тысяч текстильщиков и т.д. Организации НСТ существовали почти в 500 населенных пунктах, число межпрофесси-ональных объединений на местах достигло сорока [320]. Однако уже в 1921 г., после неудачных стачек, число членов НСТ, как и боль шинства других профцентров страны сократилось. К лету этого года в НСТ состояли 37 тысяч работников (в то же время в социал-демократических профсоюзах — 240 тысяч, в католических профсоюзах — 120 тысяч, в «нейтральных» — 63 тысячи, в протестантских — 60 тысяч) [321]. В 1921 г. НСТ отверг предложение соци ал-демократических профсоюзов об объединении в «нейтральную» организацию [322])
B 1921 г. члены НСТ в Гааге и Амстердаме продолжали экономические и политические выступления. Среди прочего, они организовали в июне—июле крупные демонстрации за освобождение отказника от военной службы Хермана Грунендааля, объявившего голодовку в тюрьме. Стачки и демонстрации прошли в Амстердаме, Гааге и Роттердаме; в них приняли участие прежде всего строители и металлисты. НСТ и антимилитаристы намерева лись объявить всеобщую стачку, однако реформистские профсоюзы не поддержали эту инициативу [323]. Синдикалисты и антимилитарис ты выпускали и распространяли десятки и сотни тысяч экземпляров специальных газет и манифестов, проводили многочисленные собра ния и митинги. Аресты активистов усугубили ситуацию. Несколько человек взорвали бомбу переддомом члена Военного совета страны, выражая солидарность с Грунендаалем; три человека были приговорены к тюремному заключению сроком от 2 до 6 лет. В итоге выс тупления пришлось прекратить [324].
B 1921 г. голландские трудящиеся продолжали бастовать против попыток предпринимателей снизить им заработную плату. Вспыхнула стачка портовых рабочих Амстердама: все профсоюзы, кроме синдикалистов, согласились на снижение зара ботной платы, однако члены НСТ выступили против и возглавили стихийно начавшуюся забастовку, к которой затем примкнули и члены других профсоюзов. В конце октября 1921 г. началась круп ная забастовка металлистов, не соглашавшихся со снижением за работков. Выступлением руководил комитет из представителей пяти профцентров, и большинство в нем имели реформисты. Син дикалисты безуспешно призывали к расширению стачечного дви жения на железные дороги, транспорт и шахты, но их предложение было отклонено социал-демократическими профсоюзами. В дви жение было вовлечено лишь 14 тысяч рабочих в нескольких горо дах страны. Большинство бастующих отвергло компромиссное предложение, разработанное при посредничестве бургомистра Амстердама, но католические и протестантские профсоюзы пос ле этого отказались продолжать забастовку. К концу декабря она была прекращена [325].
В 1922 г. крупные стачки против снижения зарплаты про вели шахтеры, металлисты, строители, железнодорожники. Они бо ролись поодиночке. НСТ несколько раз предлагал другим проф-центрам объявить всеобщую стачку, но предложения не были приняты. НСТ вел активную пропаганду за всеобщую забастовку [126]. Во время каждого крупного выступления синдикалистское про фобъединение пыталось организовать стачки солидарности, но всякий раз этого не допускали другие профцентры [127].
После поражения стачки металлистов в январе 1922 г. наступ ление предпринимателей усилилось. Почти во всех отраслях про изошло сокращение зарплаты, увеличивалось рабочее время. Пар ламент страны принял новый закон о труде, расширив рабочую неделю с 45 до 48 часов. Профсоюзы НСТ испытывали растущие трудности. Многие из них вынуждены были закрыть свои кассы помощи безработным. Число членов профобъединения упало [128].
Острый характер приобрел конфликт в деревообрабатывающей промышленности в марте—мае 1922 г. В нем участвовали 450 чле нов НСТ (из 1,2 тысяч членов соответствующей отраслевой феде рации). В ходе борьбы штрейкбрехерами был убит рабочий акти вист Якоб Пантьес [329]. Осенью забастовочная борьба обострилась, но ее итоги оказывались в основном неутешительными для рабочих. Стачка сигарочников в октябре, начавшаяся на севере страны с протестов против снижения зарплаты, сопровождалась общена циональным локаутом в отрасли, который охватил 9 тысяч рабочих. Забастовка длилась четыре недели, но трудящимся удалось добить ся лишь сокращения масштабов снижения зарплаты [330].
Потерпела поражение стачка железнодорожников, в которой участвовали и синдикалисты; после этого руководивший выступ лением комитет четырех профорганизаций был распущен, а не большая по размерам синдикалистская организация постановила войти в федерацию транспортных рабочих НСТ. Синдикалистская федерация работников коммунальных служб, имевшая сильные позиции в Амстердаме, была исключена из совместного комитета отраслевых профсоюзов различных направлений за отказ согла ситься с каким бы то ни было снижением зарплаты. В декабре 1922 г. профсоюзы НСТ организовали крупную стачку моряков против планов понижения заработной платы [331].
Важнейшим направлением деятельности НСТ в этот период стала поддержка массового движения безработных. Синдикалисты требовали, чтобы безработным предоставлялась новая, нормально оплачиваемая работа или выплачивались пособия без всяких стра ховых взносов. В сентябре 1922 г. активистам НСТ удалось выве сти безработных на улицы в Роттердаме, Амстердаме и Гааге. В этих городах были созданы комитеты действия безработных, которые вместе с НСТ организовали крупную кампанию, поддержанную также членами реформистских и клерикальных профсоюзов [332]. Синдикалистское профобъединение стало издавать специальную газету для этих комитетов («Де Верклоосхейд») и призывало их при соединяться к НСТ, что вызывало недовольство и сопротивление коммунистов, стремившихся образовать Национальный комитет безработных. В конце октября 1922 г. по инициативе НСТ была со звана общенациональная конференция комитетов безработных в Утрехте. Она принесла успех синдикалистам: идея Национального комитета не была принята, а газета, основанная НСТ, признавалась, по существу, органом движения [333]. 1 декабря на новой конференции Гааге, созванной Правлением НСТ, победа синдикалистов была закреплена. Участники постановили организовать в Амстердаме кон гресс и демонстрацию, причем в качестве ораторов должны были выступать синдикалисты. «Влияние коммунистов, к сожалению, исключено», — констатировал голландский коммунист B.C. ван Ре-есма в письме в Профинтерн [334].
В то же время безработные, состоявшие в социал-демократичес ких профсоюзах, все меньше участвовали в комитетах действия. Когда 15 ноября 1922 г. реформистские профсоюзы проводили крупную демонстрацию против безработицы, комитеты из Роттердама, Схидама и Гааги постановили примкнуть к ней, несмотря на воз ражения социал-демократических лидеров. Около 15 тысяч чело век отправились маршем на Гаагу, где состоялась 6-тысячная ра бочая манифестация перед зданием парламента. В Амстердаме местный комитет действия провел шествие во время заседания городского Совета, при ее разгоне многие рабочие были ранены по лицией. Под напором репрессий движение безработных к концу 1922 г. стало ослабевать, на собрания и митинги приходило все меньше народу [335]. Воспользовавшись спадом, коммунисты в на чале 1923 г. с помошью «тактического лавирования» оттеснили синдикалистов и добились создания Национального комитета. Движение теперь «в наших руках», — торжествующе сообщало профбюро компартии в Профинтерн 7 марта 1923 г. [336].
Важным направлением работы НСТ оставался антимилитаризм. Исполнительная комиссия НСТ постановила вести активную про паганду против производства и транспортировки оружия и военных материалов, перевозки войск, за отказ от военной службы, против сотрудничества с любым правительством и «национального един ства», увязывая все это с классовой борьбой.
1 октября 1922 г. в НСТ насчитывалось 26 тысяч члено Наиболее крупными федерациями в его составе были строители (8 тысяч), транспортники, докеры и моряки (6,4 тысяч), муници пальные и государственные служащие (3,9 тысяч), металлисты (3,7 тысяч), химики и пищевики (2,9 тысяч), табачники (1,9 тысяч), текстильщики (1,3 тысяч), работники древесной и мебель ной промышленности (1,3 тысяч), а также производства одежды, же лезных дорог, шахт и торговли, сельского хозяйства. Действовали местные секретариаты в 39 населенных пунктах, прежде всего в Гааге, Амстердаме, Роттердаме, Гронингене, Энсхеде, Девентере и Зандаме [337].
Тем временем в НСТ нарастали идейно-политические разногла сия. Некоторые из ведущих активистов (Б. Боуман, Корнелис Китц) стали склоняться к поддержке коммунистов. Другие (Бер нард Лансинк и другие) присоединились к выступавшей за «свобод ный социализм» Социалистической партии, которую создал бывший секретарь НСТ, а затем депутат парламента Харм Колтек [338].
В 1920 г. Б. Лансинк, занимавший пост председателя НСТ, опубликовал серию статей под общим названием «Строительство». Обосновывая синдикалистский тезис о необходимости изучения работ никами того, как работают их предприятия, он призвал трудящихся уже в рамках существующего нынешнего строя участвовать в решении производственных задач. Это заявление подверглось резкой критике на конгрессе НСТ в том же году со стороны коммунистов — Снеев-лита и Боумана. Лансинку припомнили и сотрудничество с социал-демократическими профсоюзами в борьбе против дороговизны. По мнению критиков, его действия открывали возможность слияния на «реформистской основе» [339].
B 1920 г. представитель НСТ Боуман участвовал в между народной конференции коммунистов в Амстердаме. Комму нисты заняли ряд влиятельных постов в НСТ. Так, Снеевлит возглавлял федерацию транспортников. В октябре 1920 г. руководство Голландской компартии, верное профсоюзной линии Коминтерна, предлагало НСТ влиться в реформистское профобъединение, что вызвало недовольство как среди синдикали стов, так и среди части коммунистов [340].
Голландские коммунисты пропагандировали идею «проф союзного единства», то есть объединения синдикалистских союзов с другими профсоюзами [341]. В то же время они сооб щали в Профинтерн, что «работают почти исключительно среди синдикалистов», потому что не могут оказывать замет ное влияние в других профсоюзах. Они развернули работу по созданию внутри союзов НСТ коммунистических фракций. Им удалось провести своих сторонников в Правление проф союза транспортников Амстердама, установить свой контроль над федерацией служащих, избрать члена компартии на пост сек ретаря профобъединения строителей, а также добиться существен ного влияния в профсоюзе коммунальных работников. Коммуни сты создали фракцию в союзе текстильщиков. В союзе портных разгорелось противоборство между коммунистическим членом Правления и его оппонентами [342]. В сентябре 1921 г. коммунисты выдвинули кандидатуру Боумана на пост председателя НСТ в про тивовес Лансинку, хотя и признавали в письме в Москву, что шансов на избрание коммунистического кандидата нет [343].
В попытке предотвратить распространение влияния компартии председатель НСТ Б. Лансинк выдвигал на конгрессе в 1921 г пред ложение о запрете партийных фракций в профобъединении и исключении их членов [344]. В 1922 г. эту идею поддержало Правление федерации строителей. Кроме того, Правление НСТ не признало кандидатуру представительницы, избранной федерацией служащих, которая находилась под влиянием компартии. Ее обвинили в том, что она представляла партию на конференции Профинтерна 1921 г. в Москве. Решение руководства профцентра получило одобрение конференции правлений федераций НСТ 25 голосами против 11 при 8 воздержавшихся [345]. 1921 г. в НСТ шла острая борьба между коммунистическим и анархо-синдикалистским крылом прежде всего по вопро су о присоединении к Профинтерну или синдикалистскому Интер националу. Вернувшись из Москвы с конгресса Профинтерна, делегация профцентра (секретарь НСТ Т. Диссель, Боуман и Китц) высказалась за присоединение к Московскому Интернационалу. Коммунисты в НСТ развернули бурную кампанию в пользу вступления в Профинтерн. Анархо-синдикалистское течение сопротивлялось. Оно отказалось продолжать печатать орган НСТ «Де Ар-бейд» в типографии компартии [346].
В свою очередь, противники коммунистов расширяли связи с теми рабочими организациями, которые стремились создать синдикалистский Интернационал. 7 августа 1921 г. федерация строительных рабочих Германии, входившая в немецкое анархо-синдикалистское профобъединение ФАУД, пригласила федерацию строительных рабочих НСТ принять участие в своей конференции в Дюссельдорфе в октябре для обсуждения вопроса об организации «Международной федерации строительных рабочих» [347]. Голландские строители попросили 31 августа разъяснить цели и задачи созываемой встречи. 6 сентября их вопросы были обсуждены на заседании Правления немецкой федерации, и по его поручению представитель немецких строителей Г.Л. Визенер объяснил, что речь идет о международной конференции, приуроченной к конгрессам их федерации и ФАУД. «...Нам следует вначале обсудить, каким образом вообще указать путь синдикалистскому Интернационалу... — писал он голландским коллегам. — Пока не будет достигнута ясность на сей счет, строители не смогут перейти к созданию Интернационала». Визенер ссылался на решения конференции революционных профсоюзов в Берлине в 1920 г. и призывал обсудить шаги по организации международной синдикалистской федерации строительных рабочих, а также ее задачи [348]. Правление НСТ назначило делегатов на конгресс ФАУД (председателя НСТ Лансинка и секретаря Дисселя) и конгресс строителей [349]. В 1922 г. «Де Арбейд» усилила критику Советской России и большевистской политики против анархистов [350].
Разногласия в руководстве НСТ со всей отчетливостью сказались во время заседания Центрального совета Профинтерна в Москве в 1922 г. Голландская делегация (Лансинк, Боуман, Я. Схенк) оказалась глубоко расколотой. Боуман выступил за единый фронт «революционного пролетариата», а Лансинк настаивал на том, что Профинтерн должен стать самостоятельным объединением профсоюзов, независимым от какой бы то ни было политической партии, но могущим сотрудничать с партиями в конкретных действиях [351].
На чрезвычайном конгрессе НСТ в Арнхейме 25—26 марта 1922 г. большинство членов Правления выступало против вступления в Профинтерн и за создание нового Интернационала, меньшинство — за Профинтерн [352].
Немецкие коммунисты из «Союза работников физического и умственного труда Германии», присутствовавшие на конгрессе в качестве наблюдателей, отмечали, что принятая на съезде новая декларация принципов была выдержана в синдикалистском духе, делала упор на этические принципы и отличалась от прежней в первую очередь только тем, что признавала и принцип производственных (а не только профессиональных) организаций. Текст был принят 220 голосами против 20 при 20 воздержавшихся. Голландские коммунисты практически не участвовали в дискуссии о принципах и сосредоточили свои усилия на дебатах о вступлении в Профинтерн. С содокладами по этому вопросу вы ступили Боуман, защищавший вступление в эту международную организацию, и синдикалист Лансинк, который настаивал на том, чтобы создаваемый Интернационал профсоюзов носил синдикалистский характер. Дискуссии проходили весьма бурно. Так, немецкий коммунистический наблюдатель Артур Хаммер, выступая на конгрессе, заявил, что синдикалистский Интернационал будет служить лишь интересам капитала, а Лансинк в ответ обвинил немецких гостей в том, что они в период Первой миро вой войны «служили кайзеру» [353].
Предложенная транспортниками резолюция о присоединении к Профинтерну была отклонена 126 голосами против 99 при 19 воздержавшихся [354]. Конгресс принял резолюцию, предложенную федерацией строителей: в ней выражалось согласие с Московским Интернационалом при условии ликвидации его связи с Коминтер ном. На страницах печатного органа НСТ «Арбейд» Лансинк торжествовал. Он не скрывал свои надежды на то, что Профинтерн отвергнет голландские условия [355].
НСТ получил приглашение принять участие в Берлинской конференции революционных синдикалистов в июне 1922 г. Сторонники Профинтерна во главе с Боуманом уговаривали Правление отказаться от посылки делегации, ссылаясь на то, что в НСТ должен еще пройти референдум по вопросу о членстве в международных организациях. Лансинк отвечал на это, что присутствие такой делегации необходимо, ибо на Берлинской конференции речь пойдет как раз о выработке линии поведения синдикалистов на предстоявшем в конце 1922 г. Втором конгрессе Профинтерна [356]. В конечном счете представители НСТ так и не поехали в Берлин.
Предложения Правления в пользу создания нового Интернаци онала, проект транспортников о вступлении в Профинтерн и ре золюция строителей о присоединении к Профинтерну при условии изменения его устава были вынесены на референдум 24 631 члена НСТ. Лишь меньшинство из них приняло участие в голосовании: 2198 поддержали предложение Правления, 1948 — проект транспортников и 1702 предложение строителей [357]. При повторном голосовании предложение Федерации работников транспорта о при соединении к Профинтерну было отвергнуто. Оно собрало лишь 4458 голосов из 10 576 проголосовавших членов НСТ. Большинство голосов сторонникам Московского Интернационала удалось набрать лишь среди транспортников, мебельщиков, в небольших профсоюзах работников торговли и горняков, а также среди часовщиков Амстердама (в последнем союзе 9 членов голосовали «за», 8 — «против»). Большинство оказало поддержку предложению федерации строительных рабочих, которое отклоняло присоединение.
Профинтерну и давало Правлению поручение «скорейшим образом связаться с профсоюзами, согласными с берлинским заявлением, с тем чтобы созвать международный конгресс и создать революционный и самостоятельный профсоюзный Интернационал. Если Красный Интернационал профсоюзов в Москве заявит о своей готовности стремиться к революционному и самостоятельному характеру профсоюзного движения, работать над объединением обоих Интернационалов». За этот проект высказались 5826 членов НСТ, включая такие крупные федерации и союзы, как организации строителей, фабричных рабочих, металлистов, работников общественных служб, сигарочников и текстильщиков, а также большинство небольших профессиональных союзов. Противники большевизма торжествовали победу. Теперь участие НСТ во Вто ром конгрессе Профинтерна излишне, подчеркивал Лансинк в «Де Арбейд», поскольку «Москва знает наши условия» [358].
Лидер транспортников Боуман, ведший энергичную кампанию в пользу Профинтерна, сокрушенно сообщал в Москву, что антибольшевистская агитация хорошо воспринимается рабочими. «Преобладающее ядро членов НСТ — хорошие революционные товарищи, но воспитанные, как они есть, в анархистском движении, — признавал профсоюзный руководитель, — они... очень восприимчивы к болтовне относительно партийной диктатуры в России, относительно борьбы либертарного социализма с властническим и вводящего в заблуждение, но вновь и вновь повторяемо го утверждения, будто коммунистическая партия и Третий Интер национал состоят из тех же социал-демократов, какие являются членами Второго и Второго с половиной Интернационалов». Не годование в рядах синдикалистского профцентра вызвала и резолюция Голландской компартии 1921 г. о необходимости объединения НСТ с социал-демократическим профцентром. Боуман и другие приверженцы Профинтерна заявили после референдума, что они подчиняются принятому решению, но намерены продолжать агитацию за его пересмотр в будущем [359]. Голландские коммунисты намеревались отправить сепаратную делегацию из своих сторонни ков на конгресс Профинтерна [360].
В то же время противники большевизма после референдума усилили свой натиск. В начале сентября 1922 г. конференция председателей федераций и местных объединений НСТ проголосовала за запрет на создание коммунистических фракций в профсоюзах. Впрочем, крупнейшие федерации не собирались исполнять это решение [361]. А 30 октября 1922 г. председатель НСТ Лансинк сообщил в официальном письме в Профинтерн, что его организация не намерена принимать участие во Втором конгрессе Московского Интернационала. «Поскольку основа, на которой строится Красный Интернационал профсоюзов, не совпадаете берлинским за явлением, — писал он по поручению Правления НСТ, — для НСТ Голландии присоединение к Профинтерну невозможно». Вместо этого он будет участвовать в создании «единой, самостоятельной и полностью независимой от какой-либо политической партии революционной экономической организации рабочих всего мира» [362].
Однако после 2-го конгресса Профинтерна в ноябре-декабре 1922 г. настроения в НСТ изменились, причем совершенно неожиданно для сторонников Москвы. Большинство голландских синдикалистов всерьез восприняли решения конгресса, постановившего изменить устав Профинтерна и исключить из него упоминание о связи этой организации с Коминтерном. Лидер Профинтерна А. Лозовский лично посетил Голландию и провел ряд встреч с профсоюзными активистами страны, агитируя их за присоединение к Московскому Интернационалу. Перед отправкой делегации НСТ на Учредительный конгресс анархо-синдикалистского Интернаци онала в Берлине в декабре 1922 г. руководство профобъединения по предложению генерального секретаря Дисселя большинством в 7 против 6 голосов высказалось против создания синдикалистского Интернационала и за присоединение к Профинтерну. Правление Амстердамской организации НСТ также поддержало эту позицию 36 голосами против шести (главным образом представителей метал листов). Проигравшее меньшинство потребовало созвать Центральный совет НСТ, но и он поддержал резолюцию Дисселя. В знак протеста Лансинк вышел из состава делегации [363]. На Берлинском конгрессе представители НСТ, как явствует из отчета делегации, де лали все возможное, чтобы не допустить образования синдикалистского Интернационала [364].
Послевоенный синдикализм в других европейских странах
Во многих странах Европы, где до Первой мировой войны существовали революционно-синдикалистские группы, инициативы и союзы, эти зачатки движения исчезли в пламени военного пожара. В государствах, возникших на развалинах Австро-Венгрии, синдикализм почти сошел на нет. В Австрии прекратили свое существование Всеобщая профсоюзная федерация Нижней Австрии (создана в 1907 г.), Свободное профсоюзное объединение (образовано в 1911 г.), а также имевшие синдикалистские тенденции профсоюз сапожников и федерация строительных рабочих [365]. В Венгрии, где революционный синдикализм до войны про пагандировали некоторые анархисты и левые социалисты, создать синдикалистские союзы так и не удалось. «Синдикализм обращался в особенности к рабочим... подвергавшимся деквалификации и утрачивавшим контроль над собственным трудом — процессам, которые сопровождали вторую промышленную революцию, однако такие силы только начинали пробиваться в довоенной Венгрии, — считает известный исследователь синдикалистского движения У. Торп. — Кроме того, венгерская рабочая сила включала лишь не большое количество полуквалифицированных машинных рабочих, которые в других местах внесли значительный вклад в поддержку синдикализма» [366].
Чехословакии довоенное анархистское и революционно-синдикалистское движение совершенно изменило свой облик. Большинство активистов присоединились клевонационалистической Чешской социалистической партии (ЧСП), а затем — к компартии. Прежние «Единство горняков страны» (основано в 1909 г.), Все общее объединение рабочих «Зашита» (создано в 1910 г.) и «Рабо чее текстильное единство» (оформилось в 1910 г.) были распущены во время войны. В 1919 г. в Северной Чехии была создана новая революционно-синдикалистская организация — Объединение чехословацких горняков (04 Г) с журналом «Горницке листы». Проф союз ссылался на синдикалистские традиции, но поддерживал тесные связи с ЧСП. 25 ноября 1919 г. О ЧГ организовало стачку горняков, но она была разгромлена армией и полицией, многие участники были арестованы. 11—15 декабря 1920 г. рабочие ряда городов объявили всеобщую стачку. В ней активно участвовали и группы ОЧГ Выступление было подавлено с крайней жестокостью. Несколько человек было убито, многие арестованы. Около Клад-но рабочие попытались превратить стачку в революционное восстание и при поддержке ОЧГ провозгласили социалистическую республику Советов. Движение было подавлено. В конце августа — начале октября 1923 г. члены ОЧГ приняли участие во всеобщей стачке горняков, организованной официальными профсоюзами и завершившейся компромиссом. В последующие годы революционно-синдикалистское ОЧГ действовало относительно независимо, но полицейские репрессии и тяжелая экономическая ситуация подорвали его. К середине 1920-х годов организация сблизилась с коммунистами и, вопреки протесту некоторых членов, присоеди нилась к Профинтерну [367]. Немецкие горняки и другие рабочие Северной Чехии создали в начале 1920-х годов анархо-синдикалистекий Свободный рабочий союз (СРС). Он был связан с германским ФАУД и в декабре 1922 г. участвовал в Учредительном съезде син дикалистского Интернационала с совещательным голосом. Его представлял председатель союза Франц Новак. СРС объединял, по его собственным данным, около 1тысячи членов. В 1920-х годах деятельность СРС постепенно сошла на нет [368].
Мировая война помешала объединению небольших синдикали стских профсоюзов Бельгии в общенациональную Бельгийскую синдикальную федерацию369. Послевоенное движение в этой стране оставалось распыленным и расколотым. В соседнем Люксембурге на военный период и время революционного подъема приходился значительный, но кратковременный взлет синдикалистского движения.
В 1917 г. под синдикалистским влиянием сформировались первые профсоюзы современного типа. Они организовали всеобщую стачку, которая была подавлена германскими войсками. Профсоюзное движение было разгромлено, и в 1918 г. профобъединение оказалось в руках социалистов [370]. Однако в нем имелось и проанархистское крыло. Выступая на 12-м конгрессе Свободного рабочего союза Гер мании (ФАУД) в декабре 1919 г., люксембургский активист, метал лист Доминик Мёс заявил, что движение существует уже ряд лет и охватывает 27 тысяч человек. Он рассчитывал на то, что в 1920 г. синдикалисты Люксембурга присоединятся к ФАУД [371]. Однако в конечном счете профсоюз шахтеров и металлистов Люксембурга примкнул к Амстердамскому Интернационалу, и уже в 1922 г. Мёс и возглавляемыеим анархисты поддерживали эту ориентацию и входили в руководство профобъединения [372]. В Швейцарии приверженцы анархо-синдикализма работали в основном в реформистских проф союзах, иногда образуя собственные фракции и секции [373].
В Великобритании многообещающие довоенные синдикалистские инициативы после Первой мировой войны не получили продолжения. Большинство ведущих активистов (Джек Таннер, Том Манн и др.) приняли активное участие в движении цеховых делегатов (шопстюардов), которое возглавляло крупнейшие забастовочные выступления военных и первых послевоенных лет. Таннер, бывший сопредседатель международного синдикалистского конгресса 1913 г., возглавлял делегацию британских шопстюардов на Втором конгрессе Коминтерна в 1920 г, и в ходе переговоров с большевиками Таннер отстаивал первоочередную роль внепартийного революционного меньшинства. Тем не менее движение вошло в Профинтерн, а затем, по существу, растворилось в официальных тред-юнионах. Манн и некоторые другие лидеры бывших синдикалистов примкнули к компартии [374].
Не получил развития революционный синдикализм и на Балканах. В Греции анархисты и синдикалисты приняли участие в создании в октябре 1918 г. первого общенационального профцентра — Всеобщей конфедерации труда (ВКТ). Анархо-синдикалистские делегаты Костас Сперас, Кухцоглу и Фануракис представляли на первом конгрессе ВКТ работников табачной и сигарочной про мышленности и отстаивали независимость рабочего движения от буржуазного и партийного влияния. Однако уже на втором конгрессе конфедерации в сентябре 1920 г. им не удалось помешать тому, что ВКТ оказалась под полным контролем коммунистов [375].
Бурный рост анархистского движения в Восточной Европе в послевоенные годы происходил только в Болгарии, где в июне 1919 была образована Федерация анархистов-коммунистов (ФАКБ). В 1920—1923 годах в ряде мест возникли профсоюзы анархо-синдикалистской ориентации. Участвуя в крупной забастовке транспортников в 1919— 1920 годах, они пытались превратить ее во всеобщую революционную стачку. В Горна-Ореховица анархисты (Петр Тончсв, Петр Мазнев и др.) приняли участие в демонстрациях солидарности с бастующими. Вооруженные анархисты отбили нападение полиции недалеко от вокзала и участвовали в захвате рабочими большого сахарного завода в знак солидарности с бастовавшими железодорожниками и в забастовке солидарности лицеистов. Однако в те годы болгарские анархисты в основном разделяли отношение к синдикализму Э. Малатесты. Они ратовали за общие, неидеологи-зированные профсоюзы как среду для пропаганды анархистских идей. Анархо-синдикалистские концепции еще только обсуждались, хотя уже существовало сильное течение, которое высказыва лось за создание анархистских профсоюзов [376].





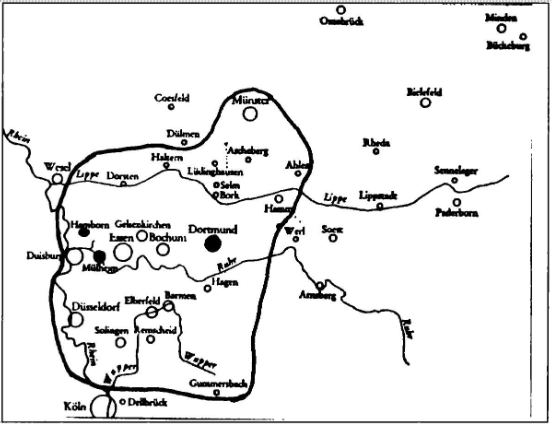





Нет комментариев