Глава 2. ПОД ГНЕТОМ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ДИКТАТУР
Первая половина 1930-х гг. была критической эпохой для анархиз ма и анархо-синдикализма в неевропейских странах. Воздействие «Великого кризиса» соединилось с жестокими преследованиями независимых революционных движений; беспрецедентному раз грому и репрессиям подверглись наиболее активные организации, такие как Аргентинская региональная рабочая федерация (ФОРА), Уругвайская региональная рабочая федерация (ФОРУ), анархо синдикалистские союзы в Бразилии и других государствах. В Мек сике в некогда радикальной ВКТ окончательно возобладал курс на сотрудничество с правительством. Под давлением и при помощи авторитарных режимов создавались новые профцентры, которые старались оттеснить анархо-синдикалистов на «обочину» рабоче го движения. К середине 1930-х гг. американские секции Интерна ционала оказались ослаблены, обескровлены или распались. Тем не менее, даже изнемогая, они сохраняли свое лицо и пытались про должать борьбу.
После военного переворота в Аргентине в 1930 г. штаб-квар тира Американской Континентальной ассоциации трудящихся (АКАТ) была перенесена в уругвайскую столицу Монтевидео. В 1931 г. из-за нехватки средств Секретариат АКАТ вынужден был прекратить пропагандистскую деятельность. Только в сентябре 1932 г. в Аргентине впервые с 1930 г. удалось возобновить выпуск печатного органа Ассоциации «Ла Континенталь обрера» [1]. В этот момент Уругвайская региональная рабочая федерация (ФОРУ) ста ла играть наиболее активную роль в отстаивании «фористских» принципов внутри международного либертарного движения трудя щихся, и прежде всего идеи анархистской рабочей организации, которая сочетала синдикальную форму и анархо-коммунистичес- кую цель. Но установление диктатуры в Уругвае в 1933 г. вновь на несло удар по деятельности АКАТ. В последующие несколько лет центром Ассоциации стала Чили. Здесь издавался орган континен тального объединения анархо-синдикалистов «Ла Континенталь обрера» [2].
В странах Дальнего Востока японское государство разгромило анархистское движение в Японии и Корее. А в Китае анархисты старались выжить, находясь меж двух огней —гоминьдана, с одной стороны, и компартии с другой.
Аргентинская ФОРА в условиях подполья и полуподполья
...В период диктатуры... ФОРА была единственной орга низацией, которая, находясь вне закона, оставшись без помещений для собраний, без прессы, связанной с ее союзами, без каких-либо иных ресурсов, кроме лише ний и опасностей подполья, поддерживала в трудящих ся священный огонь бунтарства и борьбы. [3]
Диего Абад де Сантильян,
автор истории ФОРА
Военная диктатура генерала Урибуру, установившаяся в Арген тине в 1930 г., обрушила на Аргентинскую региональную рабочую федерацию (ФОРА) и других анархистов беспрецедентные удары. Анархист-толстовец Ленина был схвачен, когда писал листовку против переворота, и немедленно расстрелян. Трое членов союза шоферов были осуждены на смерть, но затем сосланы на Огненную Землю. Затем последовали суды над пекарями, шоферами, кирпич никами и другими рабочими: как членов подпольных союзов, их обвиняли в создании запрещенных законом ассоциаций. Обвиня емые были приговорены к многолетним срокам тюремного заклю чения. В августе 1931 г. около ста активистов ФОРА были аресто ваны полицией в городе Брагадо (провинция Буэнос-Айрес) по обвинению в совершении покушения. Заключенные подверглись избиениям и пыткам, а трое из них (Паскуаль Вуотто, Сантьяго Маинини и Реклю де Диаго) были осуждены на пожизненное за ключение. Множество анархистов и членов ФОРА было убито, многие —при «попытке к бегству» [4]. Всего было арестовано около 12 тысяч человек (многие из них были анархистами).
Несмотря на государственный террор, ФОРА продолжала в 1931 г. нелегально выпускать и распространять листовки, манифе сты и газеты [5]. Однако диктатуре удалось в значительной мере па рализовать деятельность анархистской рабочей организации. Тыся чи ее членов оставались в тюрьмах и ссылках. Пытался продолжать работу союз шоферов, входивший в ФОРА. В течение года он вы пустил тысячи листовок против диктатуры, издавал газету. Боль шинство других союзов вынуждено были ограничиваться попытка ми сохранить свои структуры и поддержанием «либертарного революционного духа» [6]. В то же самое время власти вполне терпи мо относились к новому объединенному профцентру — Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ), созданной в 1930 г. синдикали стами, социал-демократами и коммунистами.
В начале 1932 г., казалось, наметился перелом. Удалось возоб новить выпуск анархистской газеты «Ла Протеста» под руководст вом Абада де Сантильяна —сначала один, затем два раза в неделю, а с 20 марта ежедневно. Были освобождены некоторые заключен ные. ФОРА сумела сплотить ряды сопротивления и стала готовить ся к проведению нового конгресса [7]. Но из 100 анархистских рабочих обществ, существовавших до переворота, уцелели лишь 24 союза8. Весной 1932 г., после официальной отмены осадного положения, ФОРА попыталась реорганизоваться, открыла помещения в раз личных городах и стала проводить митинги за освобождение заклю ченных, создав комитет защиты. В страну возвращались эмигранты. Почти во всех городах и отраслях промышленности, несмотря на экономический кризис, вновь вспыхивали социальные конфлик ты. В Коммодоро-Ривадавия бастовали нефтяники. В Буэнос-Айресе сапожники отвергли правительственный арбитраж и начали забастовку. С помощью стачки удалось добиться выполнения сво их требований пекарям столицы. Шоферы, металлисты и докеры Буэнос-Айреса приступили к пересмотру коллективных договоров, установленных при режиме диктатуры. В Росарио прошли массо вые митинги и выступления докеров и водителей трамваев. В Мар- дел ь-Плате полиция обстреляла бастующих докеров, в их бюро была взорвана бомба.
Помимо экономических требований отдельных союзов, ФОРА в целом выдвигала моральные и политические требования: отме ны всех законов и постановлений диктатуры, закрытия тюрьмы в Ушуайе, освобождения всех политзаключенных, полной свободы печати и союзов, введения 6-часового рабочего дня. Она проводила митинги в столице, вызывавшие значительный отклик среди общественности, и рассчитывала в течение нескольких месяцев увеличить свои ряды до 150 тыс. членов. Организация повела энер гичную агитацию за захват трудящимися и безработными помещи чьих земель, ликвидацию арендаторства и социализацию земли с ее коллективной обработкой сельскохозяйственными общинами. В этом движении ФОРА видела «срочное решение проблемы расту щей безработицы» [9]. Аргентинские коммунисты сообщали Интер национальному комитету металлистов Профинтерна, что ФОРА имеет свой собственный профсоюз металлистов, опираю щийся на работников автомобилестроительных предприятий. По их данным, он был не меньше прокоммунистического и участво вал во многих забастовочных выступлениях [10].
В период репрессий 1930—1932 гг. в ФОРА стали проявляться некоторые идейные и тактические разногласия [11]. Активно участво вавший в деятельности ФОРА в этот период Абад де Сантильян в 1932 г. выпустил (вместе с Хуаном Ласарте) книгу «Социальная ре конструкция: основы для нового здания аргентинской экономики», а в 1933 г. —книгу о ФОРА. Теперь он подчеркивал значение евро пейского революционного синдикализма в противовес непримири мым идеологическим традициям «форизма» [12]. «Ла Протеста», вновь выходившая под руководством Абада де Сантильяна, стала высту пать за пересмотр традиционной для ФОРА позиции по вопросу о прекращении функций рабочих союзов после революции. В статье, опубликованной в газете 21 апреля 1932 г., подчеркивалась необхо димость «подготовки революции» и утверждалось, что «следующая революция не будет осуществлена анархией». Ее результатом должно быть преобразование экономической социальной жизни, по зволяющее «всем людям жить плодами своего труда и обладать со циальными богатствами». Рабочие союзы, писала «Ла Протеста», должны стать в этой революции «единственными формами органи зации, с помощью которых мы сможем взять руководство экономи ческой жизнью из рук капиталистов и передать его в руки рабочих». Им надлежит, таким образом, «прийти на смену капитализму». Втом же духе была выдержана и передовая статья в номере от 22 апреля. В ней содержалось утверждение, что профсоюзам следует в буду щем «приобрести более широкую социальную основу», стать «тиг лем, в котором выплавятся новые идеи и новая структура грядущей экономической жизни», поэтому они должны уже сейчас готовить ся к будущему управлению производством. В бюллетене МАТ эти статьи были расценены как «приближение к позиции европейских анархо-синдикалистов» [13]. Последующее развитие событий показало, что большинство членов ФОРА не разделяло эти идейные «нов шества».
Улучшения ситуации в стране оказались недолгими. С лета 1932 г. реакция снова перешла в наступление. Власти приступи ли к насильственному подавлению забастовочного движения. В июле в Тукумане была расстреляна стачка рабочих сахарной про мышленности, 4 человека были убиты. В Сантьяго-дель-Эстеро по лиция открыла огонь по сельскохозяйственным рабочим, убив 7 че ловек. Была подавлена забастовка в Росарио, что вынудило ФОРА обсуждать возможность проведения 24-часовой забастовки проте ста. В ряде провинций власти ввели чрезвычайное положение14.
В воззвании, выпущенном местной федерацией ФОРА в Буэ-нос-Айресе, указывалось, что полиция систематически нападает на помещения ФОРА и арестовала более 500 рабочих, а судебные влас ти дали санкцию властям на подавление забастовочного движения. Тюрьма Вилья-Девото, печально известная в период диктатуры 1930—1931 гг., вновь заполнилась «социальными» заключенными — участниками классовой борьбы. «Капитализм атакует со всех сто рон, пытается заставить замолчать наше либертарное слово и покон чить с войной, которую сознательный и боевой пролетариат ведет против привилегий». ФОРА призвала трудящихся защищаться «на всех участках и всеми средствами», дать властям почувствовать «силу нашей организации» и с помощью «действий снизу» разгромить фашизм и «полицейское варварство». 2 июля союз шоферов ФОРА объявил всеобщую забастовку в знак протеста против репрессий и чтобы «предотвратить наступ ление реакции». Местная федера ция ФОРА призвала свои союзы, автономные профсоюзы и все рабо чие организации выйти на улицу и требовать освобождения арестован ных, прекращения преследований и обеспечения свободы собраний и пропаганды [15].
Выпуск «Ла Протеста» был сно ва приостановлен. Хотя затем его удалось возобновить (газета стала выходить два раза в неделю), в конце года бюллетень МАТ сооб щал, что «возрождение рабочего движения идет медленно» [16]. Со брать новый конгресс ФОРА так и не удалось.
Уже в 1933 г. подавление рабочего движения снова приняло формы, похожие на те, которые использовались в период диктату ры Урибуру. Вновь закрывались помещения рабочих союзов (к при меру, пекарей, шоферов и мойщиков машин в Буэнос-Айресе); ак тивисты подвергались арестам, тюремному заключению на срок до 4 лет и ссылкам. Власти заявили о раскрытии «анархистского за говора», вновь ввели осадное положение, закрыли штаб-квартиры рабочих союзов и анархистские издания. Через несколько месяцев осадное положение было снято, но полиция продолжала препят ствовать нормальной работе союзов и изданию «Ла Протеста» с помощью систематических налетов и арестов [17].
От репрессий 1930-х гг. федерация так и не смогла до конца оп равиться. В 1934 г. три ведущих рабочих союза ФОРА в столице — пекарей, шоферов и мойщиков машин — оставались под запре том, их ведущие активисты находились в тюрьмах и ссылках [18]. Пекари ФОРА организовали в 1933 г. ряд успешных забастовок на небольших пекарнях, запугав их владельцев актами саботажа19. Однако в конечном счете союз пекарей был настолько ослаблен репрессиями, что реформистам удалось захватить контроль над ним. Шоферы и мойщики продолжали проводить забастовки, организовывали новые группы, но не имели возможности вести активную агитацию. Тем не менее местная федерация ФОРА в столице сумела поднять рабочих на всеобщую стачку против при хода в порт корабля с нацистскими агитаторами из Германии. В выступлении участвовали также студенты, независимые профсо юзы и даже некоторые организации ВКТ. Забастовка продолжа лась в течение двух дней, рабочие на сутки задержали высадку на цистов на берег.
ФОРА выпускала издания отдельных союзов и вела специаль ную кампанию против преследования «незаконных организаций», добиваясь освобождения своих членов, осужденных на сроки от 2 до 4 лет тюрьмы и каторги. Однако ей «не удавалось вести дви жения с общими требованиями, поскольку рабочие из ВКТ не сле довали за ней» [20].
Отношения между рабочими анархистами и другими профсоюз ными и политическими организациями оставались напряженными. В 1933 г. сообщалось, что члены союза каменщиков Авельянеды, входившего в ФОРА, напали на каменщиков-коммунистов из кон курирующего профсоюза, пытавшихся устроиться на работу на их предприятии, и порвали их членские билеты. Коммунисты жало вались на то, что аналогичный инцидент произошел на собрании рабочих-мозаичников, а также на кампанию, которую федерация развернула против коммунистов и их профсоюзов [21]. В 1935 г. союз каменщиков ФОРА, в который, как заявляли коммунисты, входи ло 300 членов, отказался поддержать забастовку, организованную прокоммунистической Федерацией строительных рабочих. Эта фе дерация приняла правительственное посредничество и даже под черкивала его значение как нового и позитивного факта в классо вой борьбе [22].
В сентябре — октябре 1934 г. ФОРА смогла созвать в Росарио «региональную» (то есть общеаргентинскую) конференцию. Труд ности, в которых работали аргентинские анархистские рабочие союзы, проявились уже в том, что делегаты не стали обсуждать от чет Федерального совета, а передали его на рассмотрение местных организаций. Конференция вынуждена была заключить, что «сред ства и элементы, на которые может рассчитывать в своей деятель ности наше движение, недостаточны для осуществления широко го плана реорганизации по всей стране». Участники призвали сделать упор на реорганизацию в тех провинциях и местностях, где ФОРА сохранила влияние. Так, создавались пропагандистские зоны с центрами в Санта-Фе, Тукумане и Сан-Хуане. В каждый из этих центров Федеральный совет назначал своего делегата, который должен был обеспечивать связь и действовать в тесном контакте с местными союзами. Средства на организационную и пропагандист скую работу согласовывались с делегатами, но находились под кон тролем местных союзов; совет должен был также участвовать в рас ходах по мере возможности.
Рабочие-анархисты подтвердили прежний курс: никаких пактов по каким-либо вопросам (включая профсоюзную деятельность, борьбу с реакцией и фашизмом и т.д.) «со всеми рабочими секто рами, которые своим молчанием соучаствуют в мероприятиях го сударства и своими легальными действиями поддерживают и уза конивают их». Никаких союзов с теми, кто «не идентифицирует себя с движением ФОРА». В то же время участники конференции заявили, что проявляют терпимость в отношении «тактических» соглашений, навязанных «обстоятельствами самой борьбы». В качестве примеров последних были названы стачка, совместно организованная федерацией обувщиков ФОРА и обувщиками из Всеобщей конфедерации труда, и общие выступления ФОРА и ав тономных профсоюзов. Для утверждения такого рода временных договоренностей должны были собираться специальные собрания делегатов.
Основными проблемами, с которыми сталкивалось в этот пери од рабочее движение, были безработица и государственные репрессии. Конференция рекомендовала развернуть кампанию в пользу всеобщей стачки за освобождение «социальных» заключенных и сосланных, за прекращение арестов и депортаций. В качестве та ких заключенных признавались «трудящиеся, которые прямо или косвенно принимают участие в конфликтах между капиталом и трудом и в актах протеста против класса угнетателей, в устной или письменной пропаганде или которые получают и распространяют периодические издания, брошюры, манифесты и т.д., поддержива ющие принципы ФОРА или близкие к ним». Их поддержка орга низовывалась «комитетами в поддержку заключенных и депорти рованных».
С целью борьбы с безработицей ФОРА вновь призвала доби ваться 6-часового рабочего дня и ликвидации сдельщины. В рам ках ее профессиональных организаций должны были быть образо ваны «биржи труда».
На конференции отмечалось ухудшение отношений между ФОРА и другими анархистскими группами в стране. В одной из резолюций указывалось, что эти группы «отклонились от принци пов иметодов борьбы ФОРА». Другая подчеркивала, что газета «Ла Протеста», долгие годы служившая органом движения, также «от клонилась» от его курса, «утратила доверие» ФОРА и не может больше рассчитывать на поддержку ее активистов. Органом Феде рации была объявлена газета «Органисасьон обрера», издаваемая Федеральным советом [23].
При консервативных правительствах (1932—1943 гг.) репрессии приобрели более «обыденный» характер. ФОРА работала, по суще ству, в условиях полуподполья, ее активисты подверглись постоян ным преследованиям. Так, в 1935 г. в связи с социальным конфлик том были арестованы 5 активистов из Сан-Мартина. Их обвинили в поджоге. В 1942 г. им вынесли окончательный приговор — к по жизненной каторге [24].
Тем не менее анархистское и синдикалистское движение в стра не продолжало действовать [25]. ФОРА сохраняла некоторое влияние среди пищевиков, портовиков, таксистов и водителей, части стро ителей (водопроводчиков, кораблестроителей) и т.д. Аргентинский синдикальный союз еще удерживал некоторые позиции среди те лефонистов, табачников, строителей и других рабочих [26].
Анархисты и синдикалисты Уругвая и Бразилии при диктаторских режимах
Экономический кризис, охвативший Уругвай в 1929—1933 гг., привел к резкому ухудшению положения трудящихся и нанес ра бочему движению тяжелый удар. Профсоюзы страны традицион но объединяли лишь небольшое число наемных работников, и рост безработицы усилил дезорганизацию. Положение усугублялось со перничеством между анархистской рабочей организацией —Уруг вайской региональной рабочей федерацией (ФОРУ) и синдикали стским Уругвайским синдикальным союзом (УСУ). В обстановке растущей социально-политической напряженности в 1933 г. в стра не произошел государственный переворот и установилась диктату ра Г. Терры, которая просуществовала до 1938 г. Деятельность организаций трудящихся была ограничена; воцарилась жестокая реакция; многие члены ФОРУ были арестованы или высланы из страны27. Воспользовавшись ситуацией, прокоммунистическая Всеобщая конфедерация труда предложила ФОРУ и УСУ создать единый фронт «против наступления предпринимателей, снижения зарплаты, подготовки войны и т.д.».
Предложение было отклонено [28].
В период диктатуры распрост ранилась практика разрешения трудовых конфликтов с помощью государственного арбитража. Эту практику поддерживали и комму нисты. Разногласия между сторон никами различной тактики борь бы проявились, к примеру, во время крупного конфликта в строительстве. 9 января 1936 г. строители Монтевидео начали 20-дневную стачку, требуя повышения зарплаты и признания их профсоюза. На следующий же день правительство назначило трех министров для ведения посреднических переговоров. В ходе конфликта в строительстве входившее в ФОРУ «Общество кузнецов строитель ной отрасли и рабочих смежных профессий» продолжало наста ивать на применении методов прямого действия. Союз рабочих автомобильной сферы проводил стачку солидарности все время, пока длилась борьба в строительстве. Но в итоге произошел раскол в рядах рабочих: часть членов союза вышла из него и примк нула к профсоюзу, который ориентировался на компартию и под держивал государственный арбитраж. Общество кузнецов было дезорганизовано после этой неудачной стачки.
В июле 1936 г. начала забастовку секция автобусов Союза ра ботников автомобильной отрасли ФОРУ. После девяти дней борь бы рабочим удалось добиться принятия своих требований адми нистрацией, однако фирма не выполнила данных ею обещаний, и через несколько недель забастовка возобновилась. Сторонники компартии выступили за государственный арбитраж. Хотя боль шинство участников общего собрания рабочих отвергло эту идею, руководство секции приняло арбитраж, что привело к распаду секции. Впоследствии одна из групп предприняла шаги по ее вос созданию [29].
В Бразилии установившаяся в 1930 г. диктатура Ж. Варгаса вско ре перешла к подавлению рабочего движения. В 1931 г. в Сан-Па- улу анархо-синдикалистская Рабочая федерация организовала крупную стачку текстильщиков; многие ее активисты были арес тованы [30]. В мае 1932 г. власти широко использовали полицию для подавления забастовки, объявленной в Сан-Паулу анархо-синди- калистским профсоюзом рабочих пекарен, и стачек солидарности, начатых в их поддержку сельскохозяйственными рабочими в Лин- се и Сорокабе. Полицейские патрулировали улицы и дороги, про изводили массовые аресты, открывали огонь по участникам заба стовки. Профсоюз пекарей был распущен, его помещения были взяты штурмом армией и полицией, причем 250 человек были за держаны. Точное число убитых, раненых и арестованных в ходе по давления движения неизвестно. Власти подавили забастовочное движение также в Рио-де-Жанейро, Жуис-ди-Фора и Белу-Оризонти. Арестованные ссылались в колонию Доис-Риус, на острова Фернанду-ди-Норонья и Триндади [31]. Около 600 человек подверг лись депортации. Ссылки осуществлялись без всякого решения суда, в административном порядке. Депортированные обрекались на принудительные работы [32].
Анархисты пытались сосредоточиться на культурной и пропа гандистской деятельности. В 1933 г. на базе Социальной драмати ческой группы в составе Рабочей федерации Сан-Паулу был создан Центр социальной культуры. В 1933—1935 гг. анархист Эдгар Лойенрот издавал газету «А Лантерна». Либер- тарии сохраняли свой штаб в помещении Антиклери кальной лиги в Рио-де-Жанейро, однако в 1935 г. во время лекции известного анархиста Жозе Ойтисики в него попытались проникнуть сторонники компартии.
Получив отпор, они вызвали полицию. Прибывшие полицейские арертовали 8 анархистов и закрыли помещение. «А Лантерна» перестала выходить [33]. В Рио-де-Жанейро осталось не более 100 активистов, связанных с Ойтисикой [34].
Тем не менее попытки возродить движение продолжались. МАТ сообщала, что в Бразилии, где установился «фашистский режим», несколько организаций, особенно в Сан-Паулу, попытались вступить в контакт с Интернационалом, но не смогли его поддерживать» [35].
Анархо-синдикалисты и подъем социальных движений в Чили
...Куда ведет нас господство военных? Когда мы выйдем из экономического кризиса? Можно ли будет свергнуть капиталистическую систему? Смогут ли революционеры Чили осуществить... строительство нового на основе свободы и экономического равенства? На все эти воп росы мы можем ответить лишь одно: мы освободились от всяких романтических примесей и яснее выработали наши революционные идеи. [36]
Охес и Л. Эредиа, чилийские анархо-синдикалисты.
В июне 1931 г. в Чили пала диктатура К. Ибаньеса, которая уп равляла страной с 1925 г. Американская континентальная ассоци ация трудящихся направила делегацию в Чили, и ей удалось помочь в восстановлении секции МАТ в Чили. С 31 октября по 2 ноября 1931 г. в Сантьяго состоялся объединительный конгресс остатков Индустриальных рабочих мира (ИРМ), Региональной рабочей фе дерации Чили (ФОРЧ) и ряда независимых профсоюзов, на кото ром было провозглашено создание Всеобщей конфедерации трудя щихся Чили (ВКТ) [37].
В учредительном конгрессе ВКТ приняли участие представи тели 20 рабочих союзов из Сантьяго, Вальпараисо, Темуко, Чиль- яна, Ранкагуа, Тальки, Курико и других городов. Были представле ны и делегаты объединений квартиросъемщиков, созданных по инициативе Федерации анархистских групп; участники выступили за общую линию борьбы профсоюзов и квартиросъемщиков. В принятой на конгрессе декларации принципов указывалось, что рабочие должны объединиться, чтобы вести борьбу за новое обще ство. Средство подготовки революции — это организация трудящихся. Такая-подготовка необходима как в техническом, так и в культурном плане. Чилийские анархо-синдикалисты осудили авто ритарное направление в рабочем движении, централистские и дик таторские устремления, пытающиеся опереться на инструменты господства. ВКТ провозгласила полную свободу каждой из револю ционных тенденций, которые преследуют цели разрушения част ной собственности и государства и стремятся обратить всю энергию эксплуатируемых к вольному коммунизму. В таком обществе, указывалось в декларации, коллективная собственность и орга низация производства и обмена должны будут прийти на смену ча стной экономике. Новое общество должно было быть создано по средством свободного экспериментирования. Конгресс признал также значение Советов в организации производства и потребления. ВКТ предоставила рабочим союзам свободу выбора между от раслевым и профессиональным принципами организации. Были приняты отдельные резолюции против милитаризма и клерикализ ма. Конгресс постановил создать объединение сельскохозяйствен ных рабочих и потребовал безвозмездной передачи земли беззе мельным, конфискации поместий, отмены арендных платежей. В промышленности выдвигались лозунги установления гарантиро ванного минимума зарплаты и 5-часового рабочего дня при 5-днев ной рабочей неделе. Конгресс потребовал также отмены всех законов, изданных диктатурой Ибаньеса. Центральным органом ВКТ была объявлена газета Федерации анархистских групп «Лa Протеста» [38].
Таким образом, ВКТ опиралась фактически не столько на кон цепцию отраслевых союзов ИРМ, сколько на «фористскую» модель ФОРЧ. В новой Федерации насчитывалось 25 тыс. членов. Среди них были и некоторые из наиболее квалифицированных и высоко оплачиваемых рабочих Чили. Среди 35 различных синдикатов были союзы плотников, электриков, печатников, маляров и др. [39].
Небольшая часть приверженцев идеологии ИРМ (несколько десятков человек) решила сохранить прежнюю организацию. В 1932 г. в ИРМ оставались всего две группы — рабочие морского транспорта в Вальпараисо, издававшие газету «Ла Вое де ла мар», и группа в столице. Большая часть членов этих ИРМ одновремен но состояла в ВКТ.
Хотя диктатура пала, анархисты полностью не оправились от нанесенного им удара. Крупнейшим профцентром было теперь объединение официальных синдикатов — Национальная конфеде рация легальных профсоюзов, организованная в 1932 г. двумя раз личными федерациями. «Легалисты» превосходили революционных анархистов в соотношении более чем 5 к 1. Доминирующую роль в легальных профсоюзах вскоре стала играть Социалистичес кая партия, причем многие социалистические активисты были в прошлом анархо-синдикалистами [40].
В сентябре 1931 г. анархисты оказывали поддержку восстанию моряков военно-морского флота. Образованный ими «Единый профсоюзный фронт» вместе с профсоюзом преподавателей и дру гими группами создал Революционный комитет, объявивший все общую стачку. Одна из групп матросов в Вальпараисо совместно с издателями анархистской газеты «Эль Сембрадор» издавала листов ки с призывом к социальной революции. Однако восстание было подавлено [41]. Анархо-синдикалистам удалось добиться освобожде ния почти всех арестованных моряков. Когда военный трибунал осудил некоторых участников восстания на смерть, ВКТ объявила всеобщую стачку и добилась спасения осужденных [42].
Правительство Х.Э. Монтеро, пришедшее на смену режиму Ибаньеса, продолжало репрессии против рабочего движения. Они затронули и анархо-синдикалистов, которые только-только присту пили к реорганизации своих рядов. Так, были жестоко разогнаны митинги ВКТ в Аламеде и на Пласа Маккенна. В апреле 1932 г. власти ввели чрезвычайное положение, публичные собрания были запрещены, бюро ВКТ закрыты, газета «Ла Протеста» запрещена. Синдикалисты усилили подпольную революционную агитацию, нелегально возобновили выпуск газеты, проводили тайные собра ния, распространяли листовки и организовывали по всей стране пропагандистские туры [43].
В 1932 г. ВКТ организовала крупную забастовку за 6-часовой рабочий день. Удалось добиться его введения в сфере строительства почти по всей стране. За первый год существования численность Конфедерации возросла до 40—48 тыс. членов. Одновременно анархо-синдикалистам пришлось отбивать попытки коммунистов захватить руководство профцентром в свои руки. Из некоторых синдикатов коммунистов изгнали силой [44].
Тем временем экономическое положение Чили, где все больше ощущалось воздействие мирового кризиса, продолжало ухудшать ся. Безработица, достигшая отметки в 140 тысяч, в сочетании с инфляцией и ростом цен, делала положение страдавших от голода масс невыносимым. В такой ситуации в июне 1932 г. произошел государственный переворот, который возглавил полковник Марма- дьюк Грове. Новые власти провозгласили Чили «социалистической республикой».
Оценивая ситуацию, чилийские анархо-синдикалисты исходи ли из того, что в стране не было сильной организации, «которая была бы в состоянии совершить победоносную революцию и орга низовать общество на либертарной и эгалитарной основе... ВКТ по причине своего недолгого существования еще не имела достаточ но прочных корней в массах. «Нам не хватало необходимой дисцип лины и численности и, кроме того, революционной подготовки, что бы смочь наложить на революционные события собственный отпечаток», —писали в этой связи представители ВКТ Охес и Эре диа45. Поэтому анархо-синдикалисты «по причине революционной тактики» отреагировали на переворот «сдержанно и не враждебно». Режим Грове предоставил ВКТ полную свободу революционной пропаганды и предложил ей вступить в правительство. Чилийские анархо-синдикалисты отклонили это предложение и призвали пра вительство «социалистической республики» раздать рабочим оружие, на что Грове не пошел.
Период «социалистической республики» был для ВКТ временем интенсивной агитации. Анархо-синдикалисты выступали на собра ниях с участием 80—100 тысяч человек. Власти предложили ВКТ принять участие в кампании по пропаганде социализма. ВКТ, ли бертарный профсоюз преподавателей и союз железнодорожников направили делегатов, которые на предоставленных правительством самолетах объездили всю страну и выступали перед трудящимися. При этом ВКТ не брала на себя никаких обязательств по восхва лению режима и использовала эту возможность для пропаганды не социализма, а анархо-коммунизма. В итоге ей удалось укрепить организацию и создать отделения там, где их прежде не было (к примеру, в Консепсьоне). К ВКТ примкнули медики.
Но уже через 12 дней «социалистическая республика» была свергнута. Новый режим ввел осадное положение, закрыл помеще ния профсоюзов и произвел аресты революционных активистов, часть из которых была сослана на отдаленные острова. ВКТ орга низовала «Комитет поддержки социальных заключенных», к кото рому примкнули и некоторые независимые профсоюзы.
Даже в условиях осадного положения и репрессий в ВКТ оста валось около 6 тыс. членов. Существовали местные федерации в Сантьяго, Тальке, Консепсьоне, Осорно, Темуко и Вальпараисо. ВКТ проводила нелегальные собрания. Организация в Осорно активно занималась пропагандой анархо-коммунизма среди индей цев. Под ее влиянием группа индейцев изгнала помещика и органи зовала коллективную ферму. Продолжал действовать и либертарный профсоюз преподавателей.
Из революционных событий 1932 г. ВКТ сделала вывод, «что пролетариат нуждается в духовном руководстве, который приведет его к подлинному освобождению» [46]. Эта задача возлагалась на политическую организацию анархистов —Союз анархо-коммунис- тов, созданный для того, чтобы обеспечить преемственность рабо ты в условиях репрессий. Эта авангардистская концепция сформи ровалась, вероятно, под влиянием европейского «платформизма» и резко расходилась с позицией традиционного южноамериканс кого рабочего анархизма (ФОРА и ФОРУ).
В последующий период диктатуры буржуазная оппозиция при глашала ВКТ принять участие в заговорах против правительства. Молодежь была склонна принять это предложение, но лидеры ВКТ не желали союза с какой-либо политической фракцией. Они раз работали план немедленных революционных действий на основе собственной программы [47].
В 1933 г. ВКТ была вновь легализована. Вскоре между Конфе дерацией и фашистским национал-социалистическим движением начали происходить первые столкновения. После убийства наци стами в 1933 г. двух троцкистов ВКТ предприняла попытку объе динить трудящихся всех тенденций в антифашистский фронт. Анархо-синдикалисты разработали программу организации борь бы против фашизма и пригласили к сотрудничеству все профсоюз ные организации, союзы преподавателей, студентов и журналистов. Однако объединение просуществовало недолго. Коммунисты пре тендовали на лидерство в антифашистском фронте и попытались выдвинуть на первый план программу защиты Советского Союза, а не борьбу с нацистской угрозой. На своих собраниях они посто янно нападали на анархистов. В результате ВКТ объявила о разрыве фронта и выступила за самостоятельную оборону против фашистов. В марте 1934 г. ВКТ организовала в Сантьяго конференцию по этой проблеме. Когда ее работа подходила к концу, на помещение напала толпа вооруженных нацистов. «Либертарная молодежь» отбила нападение и заблокировала один из вражеских отрядов в бюро ВКТ, не давая другим нацистским группам прийти ему на помощь. Несмотря на разгром и аресты, через 15 дней новая банда ультраправых напала на рабочее собрание, организованное Объединенным синдикатом электричества ВКТ, убив 12 и ранив 150 че ловек. В ответ Конфедерация организовала отряды самообороны. В конце 1934 г. в порту Вальпараисо несколько нацистов были зако лоты кинжалами, другие получили ранения. Правая и национали стическая пресса требовала прекратить противостояние, на что ВКТ ответила, что не она его начала и, пока сохраняются причи ны, она продолжит работу по организации самообороны рабочего класса. В 1935 г. ВКТ повторно попыталась создать антифашист ский фронт, на сей раз — без участия политических партий. В нояб ре 1935 г. в Осорно она организовала Чилийский антинацистский фронт. Встречу охраняли ударные отряды ВКТ. Произошли столк новения с нападавшими нацистами. Используя кинжалы и палки, рабочие из ВКТ, а также небольшие группы социалистов и комму нистов нанесли фашистам существенный урон. Через 3 месяца ВКТ заявила о намерении разогнать запланированный в Осорно съезд нацистов, и власти поторопились запретить его. Созданные в 1935 г. милиции Конфедерации тренировались каждое воскре сенье.
Чилийские анархо-синдикалисты организовали многие стачеч ные выступления трудящихся страны. Так, в 1935 г. союзы ВКТ воз главили забастовки электриков (продолжалась 37 дней), печатников и штукатуров. Эти конфликты закончились победой рабочих [48].
Анархо-синдикализм в других странах Южной Америки
В начале 1930-х гг. анархизм продолжал преобладать в рабочем движении Боливии. В этот период страна переживала жестокий эко номический кризис, который тяжело отражался на жизненном уровне трудящихся. Безработица и голод достигли катастрофичес ких масштабов. В этих условиях рабочие анархисты выступили организаторами сопротивления против социально-экономической политики властей. Анархизм преобладал в воссозданной в 1927 г. Местной рабочей федерации Ла-Паса (МРФ), известный анархист- портной Луис Сальватьерра редактировал печатный орган федера ции «Ла Уманидад». В федерацию вошли боевые союзы каменщи ков, механиков, портных, женские союзы и др.
Уже в середине 1928 г. Центральный синдикат строителей и ка менщиков, который был одним из столпов МРФ, провел крупную всеобщую стачку, добиваясь введения 8-часового рабочего дня. По лиция штурмовала помещения союза и произвела аресты ведущих активистов; доставленные в участки рабочие распевали «Анархис тскую Марсельезу». Трудящиеся вышли на улицы и проводили мас совые демонстрации и митинги. Выступление было подавлено, но это не деморализовало рабочее движение. В 1930 г. оно возобновило борьбу, добиваясь установления 6-часового рабочего дня без сокра щения заработков. Союз строителей, переименованный в Синди кат сопротивления каменщиков, строителей и смежных профессий, проводил массовые манифестации под лозунгами «Хлеб и воля!». При этом участники протестов нередко прибегали к новым, под час неожиданным формам борьбы, давая волю фантазии и вообра жению. Так, они умело пользовались сложным, горным ландшаф том центрального города страны — Ла-Паса. В ходе одной из демонстраций рабочие захватили фабрику мыла и смазали этим мылом крутые, неровные улочки. Конные полицейские, пытавши еся атаковать манифестантов, не могли передвигаться, спотыкались и вылетали из седла [49].
В ночь на 11 февраля 1930 г. вооруженная огнестрельным ору жием и динамитом группа анархистов из МРФ во главе с Луисом Кусиканки и Пабло Марасом, опираясь на помощь части бойцов армейского подразделения «Колорадос», попыталась захватить квартал Мирафлорес. Это выступление, согласно разработанному плану, должно было вызвать всеобщее вооруженное восстание. Однако попытка была подавлена, одна из групп анархистов и сол дат была арестована, другая смогла скрыться [50]. Восстания и студен ческие волнения в июне 1930 г. побудили вмешаться армию, и ре жим президента Эрнандо Силеса пал.
Влияние рабочего анархизма распространялось из Ла-Паса на другие области страны. Новые молодые активисты Хорхе и Габри эль Моисес, Луис Гальярдо и другие в 1930 г. реорганизовали от деление социалистической Рабочей федерации труда (РФТ) в шахтерском центре Оруро на анархо-синдикалистской основе. Они превратили этот союз в массовую и боевую организацию [51].
В августе 1930 г. в Ла-Пасе состоялся учредительный конгресс Боливийской региональной рабочей конфедерации [52]. В это объе динение, органом которого была газета «Ла Протеста», входили различные отраслевые и провинциальные федерации, наиболее крупными из которых были объединения шахтеров и железнодо рожников. Эти союзы, созданные с помощью АКАТ, вели в 1931 г. упорную борьбу за экономические и социальные интересы рабочих. Они работали в тесном контакте с союзами сельскохозяйственных рабочих и крестьян. Трудящимся удалось добиться освобождения двух арестованных товарищей, в поддержку которых АКАТ напра вила телеграмму [53].
В начале 1930-х гг. боливийские анархо-синдикалисты контро лировали 9 организаций трудящихся. Они создавали новые рабо чие общества, состоявшие преимущественно из представителей индейского населения [54]. В 1931 г. аргентинский анархист Исмаэль Марти сообщал известному историку анархизма Максу Нетглау о том, что ряд анархистов Боливии готовит перевод анархистских классиков на индейские языки кечуа и аймара [55]. Ведущий боливий ский троцкист Гильермо Лора признавал, что анархисты «имеют привилегию быть инициаторами синдикализации крестьян» [56].
Анархо-синдикалистская Местная рабочая федерация (МРФ) проводила первомайские выступления в Ла-Пасе, используя их для распространения идей рабочего анархизма. Так, в манифесте вхо дящего в Федерацию синдиката строителей, каменщиков и смеж ных специальностей к 1-му Мая 1932 г. содержался призыв ко всем профсоюзным федерациям и культурным центрам почтить память чикагских мучеников-анархистов — американских рабочих, каз ненных за участие в забастовках и протестах 1886 г. (в их честь стал отмечаться День международной солидарности 1 Мая). Синдикат призывал всех трудящихся последовать их примеру, прекратить тер пеливо сносить эксплуатацию, выступить за «всемирную Родину», отбросив «малые родины», то есть национальные государства. Тру дящиеся, говорилось в манифесте, должны завоевать лучший мир, в котором «не будет ни солдат, ни генералов, ни управляемых, ни правящих, ни хозяев, ни рабочих». Анархисты осудили национа листические конфликты с соседними странами, как служащие исключительно интересам имущих классов: «...Пусть убирают ся политики, все богатые владельцы домов и поместий милостью гринго-англичан и янки, которые хотят только бойни между наро дами, как они сделали это с народами Японии и Китая под пред логом их цивилизации, или с народом Никарагуа под предлогом защиты жизней». Синдикат призывал ответить на преступную по литику капиталистов «восстанием всех народов мира». Он предло жил трудящимся выйти 1-го Мая на площадь Сан-Франсиско в 9 часов утра под лозунгом «Да здравствует социальная революция!» [57]. В аналогичном обращении синдиката металлургов говорилось:
«Трудовой народ, поднимись и разрушь парламент, который явля ется рынком, пещерой воров в белых перчатках, который ничего не сделал для тебя за 130 лет и только говорил и говорил... Научи их, как работать и истекать потом, чтобы заработать себе на жизнь» [58]. Синдикаты и общества сопротивления МРФ 1920—1930-х гг. объединяли, в первую очередь, не столько фабрично-заводской пролетариат, сколько ремесленников и рабочих, сохранивших тесные связи с ремесленным миром. Это наложило отчетливый от печаток на их психологию, убеждения и действия. Как отмечали боливийские исследователи, активисты МРФ соединяли борьбу за экономические требования (противостояние разрушительным экономическим последствиям либерально-капиталистической модели) со стремлением добиться признания высокого достоин ства человеческого труда. Обе темы сливались во взрывчатую смесь, которая не случайно находила свое выражение в антиавто ритаризме и антигосударственности анархистской доктрины и в методах борьбы, основанных на прямом действии. Члены МРФ опирались на ценности самовыражения, солидарности и взаим ной помощи, на понимание этики труда, которое не имело ниче го общего с капиталистическим продуктивизмом, но коренилось в ремесленном понимании труда как искусства и свободного твор чества [59].
Выход из острого социально-экономического кризиса власти Боливии искали на путях шовинизма и подготовки к войне с Парагваем из-за спорной области Чако. Анархистские организации и анархистские рабочие союзы вели активную антивоенную агита цию в условиях нараставшей милитаристской истерии. Они про должали ее и после официального начала войны в июле 1932 г. Воспользовавшись военными действиями, правительство Д. Сала манки (1930—1934 гг.) разогнало профсоюзы. Как отмечалось в отчете Секретариата МАТ за 1940 г., деятельность рабочего движе ния в период войны и сразу после нее была невозможна. После Чакской войны Местная рабочая федерация Ла-Паса как секция МАТ была восстановлена [60].
Основой для реорганизации МРФ стали союзы женщин-ра- ботниц. Еще в 1927 г. Роса Родригес, Каталина Мендоса, Сусана Рада и другие активисты основали Женскую рабочую федерацию (ЖРФ), вошедшую в Женский межпрофессиональный синдикат МРФ. Чакская война парализовала их деятельность, но женщи ны смогли первыми восстановить свои организации и ЖРФ. Уже 15 августа 1935 г. был основан синдикат кулинарок, объединивший вначале поварих из богатых домов и посольств, к которым затем примкнули уличные продавщицы продуктов и еды, служанки и домработницы. Союз сразу же вступил в борьбу против введенно го муниципалитетом запрета для женщин-индеанок пользоваться ла-пасскими трамваями (они предназначались лишь для «сеньор»). Таким образом, союз работниц с самого начала не только выдви гал экономические требования, но и боролся против расовой и социальной дискриминации [61].
После женских рабочих организаций стали восстанавливать свою работу и «мужские» профсоюзы. 11 июля 1935 г. была офици ально возрождена МРФ. С мая 1935 г. в стране начался подъем за бастовочного движения, направленного против экономической по литики властей, инфляции, дороговизны. В марте 1936 г. в Ла-Пасе произошла всеобщая стачка, грозившая перерасти в рабочее вос стание. Город фактически контролировался забастовщиками, со здавшими собственную полицию; армия отказалась вмешиваться. В апреле рабочие союзы предъявили правительству список требо ваний, включавший повышение зарплаты, снижение цен, амнис тию, отмену ограничений на забастовки, гарантии прав и свобод и экспроприацию имущества военных спекулянтов. Переговоры по этим требованиям провалились. С марта по май 1936 г. по всей стране не прекращались стачки, жизнь Ла-Паса и других городов была парализована. 23 апреля 1936 г. МРФ и социалистическая Рабочая федерация труда — РФТ (обе объединяли к этому време ни 34 местные и региональные профорганизации) договорились о совместном проведении всеобщей стачки в мае. Правительство арестовало 20 профсоюзных активистов, но вскоре вынуждено было освободить их. 10 мая 1936 г. профсоюзы МРФ и РФТ при соединились к начавшейся накануне забастовке печатников. Стач ка стала всеобщей: не работал транспорт, улицы контролировались пикетами комитета шоферов; магазины были закрыты, улицы пу сты, банки и предприятия Ла-Паса не работали. Несмотря на осад ное положение, начались рабочие демонстрации. 12 мая забасто вочный комитет сформировал дружины поддержания порядка, а 15 мая РФТ провозгласила всеобщую стачку, требуя повышения зарплаты. 16 мая президент Х.Л.Техада (1934—1936 гг.) ввел воен ное положение, но армия отказалась подчиняться. Офицеры совер шили переворот и объявили об установлении режима «государ ственного социализма». Многие рабочие организации поддержали переворот. 18 мая они заняли муниципалитет Ла-Паса, подняли красный флаг и провозгласили «коммуну Ла-Паса». Однако лиде ры РФТ пошли на соглашение с революционной военной хунтой: 19 мая «Генеральная ассамблея трудящихся» избрала нового мини стра труда, зарплата была повышена вдвое, а РФТ призвала прекра тить забастовку. В Боливии установился режим «государственного социализма», который заявил о намерении сотрудничать с трудя щимися [62].
Власти соседнего Парагвая, в свою очередь, с 1920-х гг. ориентировались на войну с Боливией. Парагвайские анархисты и анар хо-синдикалисты пытались сделать все, что было в их силах, что бы предотвратить военный конфликт. В 1931 г. в результате деятель ности созданного анархистами альянса произошло выступление в Вилья-Энкарнасьоне. Город был превращен в революционную коммуну, управляемую народными ассамблеями. Выступление было подавлено63. Часть анархо-синдикалистских активистов в этот период перешла на сторону коммунистов. Так, известный анархист Грегорио Альтамирано стал в конце 1931 г. секретарем объединен ного профцентра, а в 1932 г. вступил в компартию64.
В период войны с Боливией (1932—1935 гг.) рабочее движение в стране было подавлено. Положение трудящихся оставалось край не тяжелым. Зарплата к 1935 г. упала в целом на 50%, власти широко применяли принудительный и безвозмездный труд «на нужды войны», продлевали рабочее время и накладывали на население
«добровольные» взносы. Национальная валюта обесценилась на 400%. Профсоюзы были разгромлены или ослаблены. Тем не ме нее время от времени в стране вспыхивали выступления за повы шение зарплаты (на Национальной мельнице, лесопилках Фассар- ди, железных дорогах), ее регулярную выплату (в Интендантстве), за освобождение от принудительного труда (у шоферов). Оказывали сопротивление крестьяне, не желавшие отдавать половину урожая на нужды «национальной обороны». Имелись попытки организовать повстанческое движение [65]. Несмотря на первоначальные трудности в войне, победа в конечном счете осталась за Парагваем.
В феврале 1936 г. Национальная ассоциация бывших фронтови ков совершила переворот и захватила власть; ее лидер полковник Р. Франко занял пост главы государства. При его правлении ( 1936— 1937 гг.) анархисты были окончательно оттеснены на обочину профсоюзной «сцены». Тем самым был положен конец их почти тридцатилетней гегемонии в рабочем движении страны [66].
В Перу военная диктатура Санчеса Ceppo (1930—1933 гг.) обру шила репрессии на анархистов, коммунистов, национал-реформис тов и других оппозиционеров67. Несмотря на преследования, продолжала действовать перуанская секция МАТ — Общество ре месленников. Предпринимались также малоуспешные попытки возродить Региональную рабочую федерацию. Правительственные преследования разбили анархо-синдикалистские профсоюзы и в Эквадоре. Небольшие либертарные организации, поддерживавшие связи с МАТ, действовали в Колумбии [68].
Активную роль играли анархисты и синдикалисты в организа ции нефтяников Венесуэлы. Их протесты начались с 1922 г. и уже в июне 1925 г. привели к первой крупной 9-дневной стачке в Мене- Гранде, где рабочие во главе с Аугусто Малаве добивались повышения зарплаты и улучшения условий труда. Служащий нефтяной компании «Венесуэла ойл консешнс» Родольфо Кинтеро был ре дактором распространявшегося в 1930-х гг. в Каракасе бюллетеня «Лексионес обрерас», в котором, по его свидетельству, участвова ли и анархо-синдикалисты. Позднее Кинтеро вспоминал, что идей ные взгляды тогдашних активистов рабочего движения и издания «Лексионес обрерас» были весьма путаными, и в них причудливо переплетались элементы анархизма и марксизма.
В 1931 г. на собрании пяти тысяч нефтяников под председатель ством Кинтеро был основан полулегальный союз «Общество вза имной помощи рабочих-нефтяников» (САМОП). Большое влияние в нем имели анархо-синдикалисты. Союз создал комитеты на пред приятиях во всех центрах нефтедобычи. Однако вскоре после ре шения о переходе в наступление ведущие активисты САМОП были уволены, а председатель Кинтеро арестован. Тем не менее нефтя ники реорганизовали свою подпольную организацию и продолжа ли действовать [69].
В нефтедобывающих районах на Западе страны (штат Сулия) борьбу возглавляли рабочие из Центральной Америки, в особенно сти из Гватемалы и Никарагуа. На характер борьбы накладывал отпечаток североамериканский синдикализм, сложившийся на основе традиций Индустриальных рабочих мира. Профсоюз, понимаемый как высшая форма организации, средство для взятия орудий и средств производства в собственность и в распоряжение произво дителей, непосредственно объединенных в синдикаты, и исполь зование радикальной марксистской терминологии —таковы были характерные черты этой группы, связанной, вероятно, с известным социалистическим активистом Пио Тамайо [70].
После смерти диктатора Гомеса в 1935 г. профсоюзное движе ние начало приобретать организованные формы, и анархисты, дей ствовавшие в рабочих союзах, начали указывать на опасность про никновения влияния партий. Они призывали рабочих не доверять политикам, а верить только в свои собственные силы [71]. Однако но вое рабочее движение страны с самого начала своего легального существования оказалось подчинено формирующимся политичес ким партиям.
Распад анархо-синдикалистского движения в Мексике
Государство всеми средствами борется за то, чтобы с помощью своего трудовою законодательства и арбит ражных судов сохранить контроль над рабочими органи зациями, и в осуществлении своих планов оно может рассчитывать на безусловный союз со всеми лидерами всех без исключения рабочих организаций. Поэтому будущее мексиканских рабочих сегодня является весьма неопределенным, особенно для небольших групп, кото рые не подчиняются воле политических спекулянтов рабочего движения... Мы, анархисты, считаем своим дол гом противостоять любой тенденции к подчинению... [72] Мексиканский Рационалистический центр Земля и воля (1935 г.)
Конгресс Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) в 1930 г. стал последним успехом революционного крыла в этой организации. В июле 1931 г., в разгар экономического кризиса, мексиканская па лата депутатов утвердила новый трудовой кодекс, и многие лиде ры ВКТ (Вольстано Пинеда, Сиро Мендоса, Луис Араиса и другие) заявили о своем согласии с его положениями. После этого ВКТ стала разваливаться на части. От нее откололись фракции во главе с Энрике Ранхелем, Росендо Саласаром и Хасинто Уитроном. Из ВКТ вышла крупная Рабочая федерация шерстяной отрасли [73]. Как замечали мексиканские анархисты, «произошло то, что, к сожале нию, всегда происходило в этой стране: мародеры рабочего движе ния, “вожди” договорились с правительством, и движение попало в болото политики, сотрудничества с буржуазией...» [74]. Уже к весне 1933 г. в ВКТ в основном оставались лишь текстильщики Федераль ного округа и штата Мехико, а численность ее упала до 20 тысяч человек [75]. Но официально Конфедерация продолжалась считаться секцией МАТ до 1935 г. [76].
Анархистам, часть которых была вытеснена из ВКТ еще в 1928 г., удалось сплотить небольшое количество синдикатов в Ме стную федерацию трудящихся Федерального округа, которая зая вила, что стоит на позициях МАТ, и представляла Интернационал в Мексике. В 1933 г. ряд синдикатов Федерации, ВКТ и независи мых профсоюзов собрались для обсуждения вопроса об объедине нии рабочего движения. Представители Местной федерации под вергли резкой критике отход профсоюзов от революционного пути и заявили, что предпосылками объединения служат преодоление вождизма, освобождение движения от партийного и политическо го влияния и революционная переориентация. Участники встречи приняли эту позицию, и в октябре 1933 г. был созван конгресс с участием более чем 1000 делегатов со всей страны. На нем была создана Всеобщая конфедерация рабочих и крестьян Мексики (ВКРК). В конфедерацию вошли ВКТ, фракция КРОМ во главе с Ломбардо Толедано, Профсоюзная федерация трудящихся Феде рального округа (лидер—Фидель Веласкес) и синдикалисты. Однако в ней с самого начала проявились две различные тенденции — по литическая и антиполитическая. Большинство делегатов выступили за принятие принципов революционного синдикализма и за про ведение всеобщей стачки протеста против арбитражных судов по трудовым вопросам. Конгресс высказался против вождизма, оха рактеризовав его как главное препятствие на пути развития рево люционного сознания в рабочем классе, подлежащее полному уничтожению. Однако руководство избранным на конгрессе Наци ональным советом ВКРК захватили сторонники сотрудничества с государством. Лидеры организации не применяли методы прямо го действия, а предпочитали полагаться в трудовых конфликтах на государственный арбитраж. Они отвергли предложение анархистов из Рационалистического центра «Земля и воля» (Мехико) о прове дении протестов перед германским посольством в связи с убий ством гитлеровцами поэта-анархиста Эриха Мюзама, заявив, что ВКРК не занимается политикой. Однако это не помешало Нацио нальному совету принять участие вместе со сторонниками правя щей Партии национальной революции и политической элитой страны в демонстрации за «социалистические школы». На 1-м кон грессе ВКРК (декабрь 1934 г.) были приняты резолюции о необхо димости просить правительство изменить трудовое законодатель ство и о предоставлении президенту чрезвычайных полномочий с этой целью. Все это побудило анархистов покинуть ВКРК, заявив, что рабочее движение страны «находится на пути к своего рода фа шизму». В 1934 г. из Конфедерации была исключена и ВКТ [77].
В 1933 г. группа «Сакко и Ванцегги» из Сан-Луис-Потоси пред приняла инициативу по созыву общенационального анархистско го конгресса. Она развернула активную пропаганду этой идеи и стала издавать печатный орган «Трибуна обрера», который превра тился в средство установления контактов и подготовки форума. Однако проект не был осуществлен из-за пассивности и скептициз ма ряда либертариев, личных амбиций и отсутствия финансовых средств [78].
В 1934—1940 гг. у власти в Мексике находился левый президент Ласаро Карденас. Его правительство провело ряд реформ, в числе которых была передача значительной части земли крестьянским общинам, поощрение государственного и кооперативного сектора в промышленности, национализация собственности иностранных нефтяных компаний и т.д. Оценивая экономическую политику Карденаса, мексиканские анархисты—сторонники МАТ подчер кивали, что эти меры нельзя «анализировать с несознательным удовлетворением», но нельзя и проявлять «пессимизм». Они отме чали буржуазный характер «коллективизированных» предприятий и структур, что «не дает никакой выгоды трудящимся». Большин ство этих предприятий обречено на крах из-за действий их коррум пированных директоров, несмотря на надзор со стороны государ ства. Национализацию нефтяной промышленности анархисты расценили как «маневр против экономического империализма», никак не отражающийся на положении трудящихся, страдающих от экономического кризиса и выплаты огромного внешнего долга79. Президент Карденас опирался на реорганизованную им правя щую Партию мексиканской революции, в «рабочий сектор» которой на правах коллективных членов вошла новая проправительственная Конфедерация труда Мексики (в нее влилась, в частности, ВКРК), ВКТ и независимые профсоюзы. Правительство нередко станови лось в трудовых конфликтах на сторону рабочих, но в обмен добивалось полного подчинения рабочего движения государству.
Анархисты и рабочее движение на Кубе и в Центральной Америке
Хотя в период диктатуры X. Мачадо (1925—1933 гг.) на Кубе коммунистам удалось потеснить анархо-синдикалистов в профсо юзном движении, либертарии еще пользовались некоторым вли янием в Рабочей федерации Гаваны, профсоюзе рабочих и крестьян сахарной промышленности и т.д. В 1931 г столичная федерация орга низовала стачку пищевиков, которая продолжалась более 7 месяцев. Она поддерживала также полуторамесячную забастовку трамвай щиков. К 1932 г. в Гаване вновь функционировал клуб «Народный атенеум» [80].
Либертарии сыграли видную роль в свержении режима Мача до. 28 июля 1933 г. забастовали транспортники Гаваны, их поддер жали водители трамваев, находившиеся под влиянием анархистов. Федерация рабочих Гаваны объявила всеобщую стачку. Был создан стачком, в который вошло и несколько анархистов, среди них Ни- косио Трухильо и Антонио Пеничет. 7 августа народ вышел на ули цы и потребовал отставки диктатора. Мачадо пытался спастись, договорившись с коммунистами, которые, воспользовавшись реп рессиями против анархистов, завладели руководством профцент- ра — Национальной рабочей конфедерации КНОК. Но штрейкб рехерские попытки не удались. Режим пал [81].
28 августа 1933 г. Комиссия по связям Федерации анархистских групп Кубы выпустила манифест к народу, в котором разоблачалась политика коммунистов и их сотрудничество с диктатурой. Федера ция, некоторые профсоюзы текстильщиков и анархистские изда ния вели борьбу по трем направлениям: пытались отстаивать рабо чие завоевания, сопротивлялись новому режиму и противостояли влиянию коммунистов. Они начали работу по реорганизации ря дов либертарного движения [82].
Националистическое правительство издало, среди прочего, за кон, существенно осложнявший работу анархистов. Согласно ему, предприниматели обязывались набирать не более 50% иностран ных рабочих. Поскольку многие анархисты на Кубе были выходца ми из-за границы, им пришлось в поисках работы покинуть страну. Некоторые из них отправились в Испанию.
После подавления забастовки в марте 1935 г., в которой участво вали анархисты, на движение опять обрушились репрессии. В стра не существовала жесткая цензура, мешавшая выходить либертарным изданиям, за исключением «Ла Культура пролетариат Анархисты пытались реорганизовать свои ряды, но новые активисты нередко не находили общего языка со старыми членами Федерации анар хистских групп. Молодые активисты (Элио Нардо, Густаво Лопес, Флореаль Баррерас, Луис Дульсаидес, Мигель Ривас, Хулио Айон Морган, Теодоро Фабело, Абелардо Барросо и др.) создали под польную организацию «Либертарная молодежь Кубы» [83]. Многие группы, организации и активисты поддерживали связи с МАТ [84].
В Гватемале, где в 1931 г. была установлена диктатура X. Убико (1931 —1944 гг.), все независимые рабочие организации подверглись жестокому разгрому. Генеральный секретарь анархо-синдикалист- ского Комитета за профсоюзное действие Мануэль Баутиста Грахеда был арестован 4 января 1932 г., но освобожден, поскольку ад вокат доказал, что он не имеет никакого отношения к коммунистам. Позднее он был вновь арестован за создание Комитета защиты по литзаключенных и оставался в заключении на протяжении 8 лет [85]. Режим Эрнандеса Мартинеса в Сальвадоре ( 1931—1944 гг.) покон чил с существованием Либертарного синдикалистского центра и анархо-синдикалистского профсоюза текстильщиков, состоявше го в АКАТ [86]. Лишь в Коста-Рике смогла сохраниться небольшая секция МАТ — Рабочая группа социальных исследований в Сан-Хуане [87].
Разгром либертарного движения в Японии
Поворотной точкой для довоенного анархистского дви жения стал 1931 год... Поскольку японское государство двинулось навстречу борьбе со своими международны ми соперниками не на жизнь, а на смерть, возросла его решимость сокрушить любое несогласие на внутреннем фронте, и анархисты находились в первых рядах в спис ке подлежащих уничтожению [88].
Джон Крамп, исследователь истории японского анархизма
В 1931 г. в Японии отмечался общий рост рабочих выступлений. Всего было зарегистрировано 2456 трудовых конфликтов с участи ем 154 528 трудящихся, почти вполовину больше, чем в предыду щем году. В 988 случаях предприятия полностью прекращали рабо ту; в этих акциях участвовали 64 536 рабочих [89]. Некоторые из этих стачек были организованы анархистами и синдикалистами.
Так, в апреле 1931 г. синдикалисты провели крупную забастов ку на предприятии фирмы «Нихон сэндзю кайся», где еще в 1927 г. произошли успешные выступления работников. Предпринимате ли уволили 240 рабочих-газовиков, а когда те запротестовали, администрация закрыла фабрику. Трудящиеся начали голодовку; выступление было поддержано населением; рабочие других пред приятий проводили ежедневно одночасовые стачки солидарности. Семьи работников неоднократно врывались на квартиру предпри нимателя, тот обратился в полицию и уволил еще семь синдикали стов. Синдикалистская организация созвала большой митинг про теста, пригласив на него все рабочие союзы Токио. В ночь на 1-е Мая синдикалист-печатник Хироси влез на 130-метровую трубу фабрики, поднял на ней черный флаг и просидел на высоте 40 мет ров в течение 14 дней.
1-го Мая 1931 г., несмотря на полицейский запрет, синдикали сты приняли участие в традиционной демонстрации. В конце ее около 2,5 тысяч рабочих прошли маршем мимо бастовавшей фабрики. В ходе столкновений с полицией множество протестующих было арестовано [90].
После продолжавшейся 24 дня голодовки протеста предприни матель вынужден был пойти на частичные уступки рабочим: двое уволенных были восстановлены на работе, остальные получили повышенные компенсации. Участники стачки получили денежное возмещение за нерабочие дни и иные льготы [91].
22 августа 1931 г., в годовщину казни Сакко и Ванцетти, прошли крупные демонстрации анархистов и синдикалистов. Синдикали сты призвали также к забастовкам и демонстрациям 16 сентября, в годовщину расправы над анархистом Осуги Сакаэ в 1923 г.
После успешной стачки рабочих-газовиков влияние синдикали стского «Всеобщего рабочего союза Канто» существенно выросло. В ноябре 1931 г. организация провела свой очередной конгресс [92]. В середине декабря того же года синдикалистские союзы из Токио, Осаки и других городов объединились в общенациональную орга низацию —«Свободное объединение японских профсоюзов», или
«Конференцию за свободную ассоциацию японских рабочих со юзов» («Нихон родо кумиай дзию рэнго киогикай», сокращенно «Дзикио») [93]. В письме, направленном в МАТ, синдикалисты заяв ляли, что анархистское рабочее объединение «Дзэнкоку дзирэн» (Всеяпонская либертарная федерация профсоюзов, от которой синдикалисты откололись в конце 1920-х гг.) «попало в руки сверх- радикальных индивидуалистов, которые ничего не делали, а толь ко говорили о грядущей революции», и потому они покинули его и создали свои организации [94]. Конгресс осудил милитаризм и войну, разработал платформу революционных действий, включавших как борьбу за повседневные нужды рабочих, так и культурную ра боту по подготовке революции, отверг парламентаризм и выступил за либертарный социализм и прямое действие. «Дзикио» объявила о своем вступлении в МАТ. В 1931 г. в организации насчитывалось 2968 членов, в корреспонденции в Интернационал называлась даже цифра около 5 тысяч [95].
Оплот «Дзикио» находился в области Канто (в районе Токио). Федерация объединила профсоюзы металлургов, печатников, ра бочих химической промышленности, служащих; к ней присоеди нилось несколько союзов, покинувших «Дзэнкоку дзирэн», преж де всего в области Кансаи (общий союз и печатники Киото, рыбаки Ваидзуми, группы в Китивада, Осаке, Кобё). Синдикалистский профцентр издавал газеты: «Кокусёку роно симбун» («Газета анархи стских рабочих и крестьян», выходила с июля 1930 г. по 1932 г.), «Родося симбун» («Рабочая газета» с июля 1932 г.), теоретический журнал «Курохата-но сита ни» («Под черным знаменем», с сентября 1932 г.)96. Под руководством «Дзикио» было проведено свыше 20 стачек на средних и мелких предприятиях [97].
1-го Мая 1932 г. анархисты и синдикалисты, как обычно, уча ствовали в традиционной рабочей демонстрации в Токио. Накануне синдикалисты согласовали свои лозунги с остальными участника ми. Перед манифестацией были проведены аресты революционных лидеров, обвиненных в подготовке всеобщей стачки на военных предприятиях. Демонстрация 23 профсоюзов собрала 12 тысяч уча стников. Против них было брошено 4,5 тысячи полицейских. 1200 человек были задержаны. Митинг, прошедший под председатель ством синдикалистов, принял манифест «За прямое действие» и осудил социал-демократических лидеров [98].
Последующий период характеризовался нарастанием репрессий против анархистского и синдикалистского движения.
Уже в 1932 г. число членов «Дзэнкоку дзирэн» сократилось до 11 тысяч, а «Дзикио» —до 2850, в 1933 г. —соответственно до 4359 и 1100. Либертарные рабочие союзы превратились в небольшие группы, которые почти не имели возможности распространять ли стовки на предприятиях [99]. Проведение конгресса «Дзикио» в апреле 1933 г. было запрещено. Подверглись запрету и были конфискова ны издания организации—«Рабочая газета» и журнал «Под черным знаменем». В июне 1933 г. удалось провести общенациональную конференцию в Осаке с участием делегатов от Токио, Осаки, Кобе, Нагои и Ниигаты. Были приняты резолюции об общем положении в стране и о рабочем движении. Участники высказались за воссое динение с «Дзэнкоку дзирэн», выразили симпатии к МАТ и соли дарность с Испанской революцией. Была подготовлена и издана брошюра об анархо-синдикалистском Интернационале [100].
Японские анархисты пытались усилить работу в деревне. С этой целью в 1931 г. была организована «Ассоциация сельской молоде жи», или «Общество молодежи сельских поселений» («Носон сэй- нэн-ся»). Движение представляло собой сеть децентрализованных деревенских анархо-коммунистических групп. Среди ее основате лей были Судзуки Ясуюки, Миядзаки Акиро, Хосино Дзюндзи, Яги Акико и другие анархисты из префектур Токио и Нагано. Они пла нировали создать свободные сельские коммуны по всей стране и подготовить восстание. Активно работали и либертарные кресть янские культурные организации: в 1932 г. в Культурной ассоциации крестьянской автономии (Национальной ассоциации советов кре стьян и Национальной артистической федерации крестьян) насчи тывалась 1 тысяча членов. Объявив формально о самороспуске в 1932 г., члены «Носон сэйнэн-ся» продолжали деятельность, что привело в 1934—1935 гг. к массовому крестьянскому восстанию в горах Нагано в Центральном Хонсю. Анархо-коммунистическое выступление крестьян было жестоко подавлено властями [101].
В 1933 г. анархистское и синдикалистское профобъединения все больше сближались, участвуя в борьбе с нараставшей фашиза цией. Объединение либертарных профсоюзов Японии было связа но и с существенными изменениями в лагере японских анархистов. В условиях репрессий и отхода старых, признанных деятелей на передний план стала выдвигаться группа молодых активистов: Аид- зава Наото (Хисао), Умэмото Эйдзо, Уэмура Таи, Тэдокоро Сигэо, Футами Тосио и другие. Они пришли к выводу, что наиболее адекватным ответом на то положение, в котором оказалось анар хистское движение, будет создание централизованной нелегаль ной организации. В январе 1934 г. они образовали «Анархо-ком- мунистическую партию» (АКП), опиравшуюся на «Федерацию анархо-коммунистов Японии». Общая и тактическая программы АКП, утвержденные в августе 1934 г., с одной стороны, повторяли классические положения анархизма, с другой — соединяли анти- капиталистические лозунги с реформистскими требованиями (на пример, введением государственных пособий по безработице). Члены АКП считали себя авангардом, призванным придать им пульс ограниченному по сути своей рабочему движению, которо му они отводили ведение борьбы за частичные улучшения положе ния людей труда. Они ориентировали «Дзэнкоку дзирэн» на такого рода действия и на воссоединение с «Дзикио». Будущие члены АКП завладели газетой «Дзию рэнго симбун» («Свободной федерацией») — печатным органом анархистской рабочей организации. Под их влия нием в апреле 1933 г. на 3-м съезде «Дзэнкоку дзирэн» подвергла са мокритике прежние «крайности» и приветствовала представителя «Дзикио» [102].
Слияние либертарных профсоюзов произошло 14 января 1934 г. 18 марта 1934 г., в годовщину Парижской коммуны, в Токио неле гально, в обстановке полицейской слежки состоялась объедини тельная конференция анархо-синдикалистов —«Дзэнкоку дзирэн» и «Дзикио». Объединенная «Дзэнкоку дзирэн» провозгласила ан- тиавторитарную программу. В принятой резолюции констатирова лось наличие кризиса в стране, сокращения зарплаты, роста безра ботицы, голода и подготовки к войне. Первостепенные задачи организации, по мнению делегатов, состояли в том, чтобы способ ствовать возвращению рабочего класса к идеалам и помогать рабо чим и крестьянам вести борьбу за повседневные нужды. Было за явлено, что в противовес фашизму и большевизму организация намерена защищать классовую борьбу самих рабочих и крестьян.
«Дзэнкоку дзирэн» продолжала издание «Свободной федерации», «Рабочей газеты» и журнала «Под черным знаменем», а также при ступила к изданию теоретического журнала «Куро-бася» в Осаке [103].
«Дзэнкоку дзирэн» объединяла в этот момент 4 тыс. членов, но год спустя, в 1935 г. в ней оставалось всего лишь 2300 человек [104].
3—4 ноября 1934 г. в Токио было проведено первое заседание расширенного Исполкома объединенной федерации. Обсуждались, прежде всего, положение корейских рабочих в Японии и развитие профсоюзных организаций в регионе Канто. Полиция арестовала нескольких делегатов, конфисковала распечатку проекта резолю ции и запретила его обсуждение.
Делегаты пришли к выводу, что влияние анархистских и синди калистских идей среди корейских рабочих в Японии сильнее, чем среди самих японцев. Сотни корейских рабочих участвовали в пер вомайской демонстрации в Токио под черным флагом. Обе их орга низации стояли на либертарных позициях: Союз труда корейцев
«Токхо» был анархистским объединением, а Всеобщий корейский рабочий союз — революционно-синдикалистской федерацией. В них состояли тысячи членов, но они испытывали большие фи нансовые трудности. Нерегулярно выходили печатные органы на корейском языке. Японским анархистам было трудно помогать корейским товарищам, поскольку они в основном не владели корейским языком. К тому же среди многих японцев были распро странены предубеждения против корейцев. Участники заседания высказались за более тесное сотрудничество между японскими и корейскими рабочими и за солидарность с «Токхо».
Обсуждалось отношение анархо-синдикалистов к Совету рабо чих союзов Канто — региональному неполитическому профобъе динению, созданному в 1925 г. для совместного проведения акций. Совет был организован синдикалистами, в 1933—1934 гг. его поки нули социал-демократы (Национальный социалистический союз, Социал-демократический союз и Всеобщая японская федерация труда). В его составе остался ряд независимых профсоюзов (к при меру, профсоюз транспортников), левосоциалистические и про коммунистические профорганизации, однако федерация с ними носила весьма условный характер, какие-либо исполнительные органы отсутствовали. Участники заседания обсудили меры по оживлению Союза как неполитической организации и центра объе динения рабочего движения. Было решено информировать все профсоюзы Канто о дискуссиях в «Дзэнкоку дзирэн» и созвать для обсуждения вопроса ее Национальный комитет [105].
Тем временем охваченная паранойей АКП погрязла во внутрен них чистках, которые привели к убийству одного из ее членов, заподозренного в шпионаже в пользу полиции, и увлеклась ограб лениями банков. Правительство воспользовалось этим, чтобы произвести массовые аресты анархистов. После нападения членов АКП на банк с целью добыть средства для организации весной 1935 г. по всей стране были арестованы 400 анархистов, затем, в мае 1936 г., в рамках репрессий против «Сельской молодежи», — еще 350. Футами Тосио, убийца предполагаемого шпиона, был при говорен к смерти, однако приговор был заменен на пожизненное заключение. Аидзава Хисао был осужден на 6 лет тюрьмы, Мияд заки Акира и другие члены «Сельской молодежи» —на 3 года. Всего в 1936 г. было отдано под суд около 30 анархистов. Против либер- тариев впервые был применен закон об общественном порядке106. В ночь с 11 на 12 ноября 1935 г. бюро «Дзэнкоку дзирэн» в То кио было захвачено вооруженной полицией, арестовавшей секре таря организации Э. Умэмото и ряд других ее членов и конфиско вавшей документы. В ту же ночь полиция захватила помещения других анархистских и синдикалистских организаций — Лиги за свободную культуру, или Лиги культурной свободы (в Сугинами) и Всеобщего корейского рабочего союза (в Хондзё). Всего было аре стовано 60 анархистов и синдикалистов. Массовые аресты рабочих прошли также в Осаке, Киото, Кобе и других городах, где были задержаны 100 человек. Местные бюро «Дзэнкоку дзирэн» были закрыты по всей стране, все либертарные группы — запрещены. Власти обвинили анархо-синдикалистов в том, что они служат ле гальным прикрытием для террористической деятельности «Анар- хо-коммунистической партии», что, в свою очередь, категоричес ки отвергалось синдикалистами [107].
Репрессии 1935 г. привели к распаду Токийского союза печат ников, игравшего центральную роль в «Дзэнкоку дзирэн» и слом ленного арестом 100 своих членов, Федерации культурной свобо ды и др. либертарных организаций. В начале 1936 г. было объявлено о роспуске «Дзэнкоку дзирэн». В том же году было официально запрещено отмечать 1-е Мая. С организованным анархо-синдика- листским движением в Японии было покончено [108].

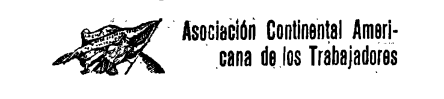
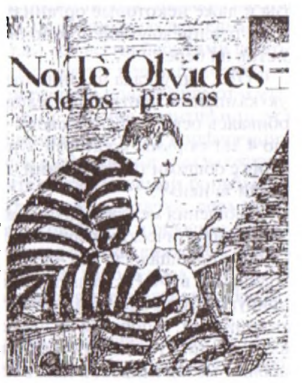

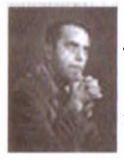
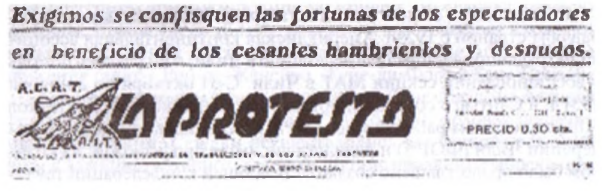
Нет комментариев